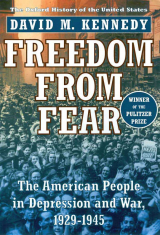
Текст книги "Свобода от страха. Американский народ в период депрессии и войны, 1929-1945 (ЛП)"
Автор книги: Дэвид М. Кеннеди
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 73 страниц)
17 января 1940 года семидесятишестилетняя жительница Вермонта Ида М. Фуллер получила первый чек социального страхования на сумму 41,30 доллара. Полвека спустя сорок миллионов бенефициаров получали ежемесячные выплаты, составляющие в среднем более пятисот долларов. К концу века ежегодные расходы на социальное обеспечение и его дополнительные программы, включая Medicare, составили более 400 миллиардов долларов, став крупнейшей статьей федерального бюджета. Один из биографов Рузвельта с полным основанием объявил Закон о социальном обеспечении «самым важным социальным законом во всей американской истории, если оценивать его значение с точки зрения исторической решительности и прямого влияния на жизнь отдельных американцев».[471]471
Davis 3:437.
[Закрыть]
И ВСЕ ЖЕ, как только административный аппарат социального обеспечения начал обретать форму, стали множиться сомнения в долговечности новаторского плана Рузвельта, а также в жизнеспособности многих других достижений «Нового курса». 6 мая 1935 года Верховный суд признал неконституционным Закон о пенсионном обеспечении на железных дорогах 1934 года, используя формулировки, которые, как казалось, угрожали, как и опасался Элиот, страхованию по старости в законопроекте о социальном обеспечении. Хуже того, 27 мая единогласно принятый суд признал недействительным Закон о восстановлении национальной промышленности, причём в настолько широких выражениях, что поставил под угрозу практически все законодательство «Нового курса», принятое в предыдущие два года. Рузвельт назвал это судебное решение самым тревожным со времен дела Дреда Скотта, поскольку оно поставило «всю страну перед очень практическим вопросом… Означает ли это решение, что правительство Соединенных Штатов не может контролировать ни одну национальную экономическую проблему?» «Действия суда, – проворчал президент, – безнадежно анахроничны». «Мы были низведены до определения межгосударственной торговли, принятого в конном спорте», – гневно заявил он.[472]472
PPA (1935), 200–222.
[Закрыть]
Но вместо того чтобы замедлить политический импульс Рузвельта, действия Верховного суда, казалось, наоборот, подстегнули его. 4 июня он призвал Конгресс провести внеочередную сессию в течение всего знойного лета – в большинстве правительственных зданий, включая все комнаты в Капитолии, кроме нескольких, все ещё не было кондиционеров, – чтобы принять четыре законодательных акта «первой необходимости»: Помимо законопроекта о социальном обеспечении, они включали законопроект сенатора Вагнера о создании национального совета по трудовым отношениям, крайне необходимого для обеспечения мира в промышленности теперь, когда суд отменил трудовые положения NRA; законопроект о разрушении крупных холдинговых компаний коммунальных предприятий; и законопроект о расширении полномочий Комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы, что сделает его более эффективным инструментом контроля над денежной массой.
Последняя мера была наименее спорной. Когда Федеральная резервная система создавалась в преддверии Первой мировой войны, мало внимания уделялось последствиям её операций с государственными ценными бумагами, которые тогда составляли незначительную сумму. Когда в результате войны государственный долг вырос до огромных размеров, ФРС создала Комитет по открытому рынку для покупки и продажи государственных долговых инструментов. Вскоре стало очевидно, что операции комитета могут оказывать сильное влияние на денежную массу и доступность кредитов, а также на процентные ставки, по которым казначейство может брать займы. Однако поначалу комитет был неформальным органом. Даже получив законодательное признание в Законе о банковской деятельности 1933 года, он оставался под контролем частных банкиров, в основном базирующихся в Нью-Йорке, которые представляли учреждения-члены ФРС. В любом случае, эти учреждения по-прежнему были свободны в проведении собственных операций по продаже и покупке государственных ценных бумаг на открытом рынке. Банковский законопроект Рузвельта предлагал передать Комитет по открытым рынкам в прямое и исключительное подчинение Совету управляющих Федеральной резервной системы. Этот шаг был направлен на усиление центрального контроля над денежными рынками страны, облегчение операций по финансированию казначейства и расширение возможностей ФРС по регулированию колебаний делового цикла. Президент подписал законопроект 24 августа 1935 года. Теперь у ФРС было больше атрибутов настоящего центрального банка, чем у любого американского учреждения со времен распада Банка Соединенных Штатов во времена Эндрю Джексона. Работая в изнуряющей влажности вашингтонского лета, Конгресс ещё больше обязал президента и принял все остальные «обязательные» законопроекты в том виде, в каком он их представил.
Результаты той сессии Конгресса 1935 года были выдающимися по любым меркам, как признал Рузвельт в благодарственном письме, когда Конгресс объявил перерыв 24 августа: «Когда будет сделан спокойный и справедливый обзор работы этого Конгресса, – сказал он, – его назовут исторической сессией», и это суждение подтвердило время. Действительно, как сказал Рузвельт несколькими днями ранее, на церемонии подписания Закона о социальном обеспечении, «если бы Сенат и Палата представителей в ходе этой долгой и трудной сессии не сделали ничего, кроме принятия этого законопроекта, то сессия считалась бы исторической на все времена».[473]473
PPA (1935), 325.
[Закрыть] Меры, принятые в 1935 году, были способны изменить социальную и экономическую жизнь Америки. Закон Вагнера, в частности, мог уступить только Закону о социальном обеспечении в своей силе по перестройке рабочих мест и, не случайно, определить политическое будущее Демократической партии. Однако над всеми этими перспективами все ещё лежала тень конституционного вызова.[474]474
Обсуждение Закона Вагнера и его последствий см. в гл. 10. Закон о холдинговых компаниях коммунального хозяйства и другие пункты экономического законодательства обсуждаются в гл. 11 и 12.
[Закрыть]
Оставались также вопросы Лонга и Кофлина. Роберт Ла Фоллетт и другие прогрессисты советовали президенту весной 1935 года, что «лучшим ответом Хьюи Лонгу и отцу Кофлину будет принятие в качестве закона законопроектов администрации, которые сейчас находятся на рассмотрении».[475]475
Ickes Diary 1:363.
[Закрыть] Эти законопроекты, четыре из списка «обязательных», составленного Рузвельтом 4 июня, теперь были приняты. Лонг и Кофлин якобы получили свой ответ. Но по причинам, которые давно интригуют историков, президент не собирался оставлять все как есть.
К резкому удивлению и немалому дискомфорту своих собственных, в основном южных консервативных законодательных лидеров, Рузвельт в конце июня добавил в список «обязательных» мер пятую: налоговую реформу. Всего за шесть месяцев до этого президент заявил, что федеральная налоговая система не нуждается в изменениях. Но 19 июня он заявил Конгрессу: «Наши законы о доходах во многих отношениях действуют в несправедливых интересах немногих, и они мало что сделали для предотвращения несправедливой концентрации богатства и экономической власти… Социальные волнения и углубляющееся чувство несправедливости – это опасности для нашей национальной жизни, которые мы должны свести к минимуму жесткими методами». В связи с этим он потребовал ввести «очень высокие налоги» на крупные доходы и ужесточить налоги на наследство, поскольку «передача из поколения в поколение огромных состояний… …не соответствует идеалам и чувствам американского народа».[476]476
PPA (1935), 270–76.
[Закрыть] Кроме того, он потребовал ввести дифференцированный налог на прибыль корпораций и налоги на межкорпоративные дивиденды – удар по холдинговым компаниям, которые также подвергались нападкам в законопроекте о холдинговых компаниях коммунальных предприятий. Он назвал это «налогом на богатство». Другие вскоре окрестили его законопроектом о «наживе богатых». Когда послание Рузвельта зачитывалось в Сенате, Хьюи Лонг расхаживал по палате, указывая на себя как на первоначального вдохновителя налоговых предложений президента. Лонг завершил выступление горячим «Аминь!».
Но в налоговом предложении президента было больше риторики, чем доходов, а также политические ставки. Моргентау признал это, когда сказал подчинённому из Министерства финансов, что налоговый законопроект – это тот вопрос, по которому Рузвельт «вполне мог позволить себе потерпеть поражение». Президент, объяснил он, просто должен был «четко изложить свою позицию». «Налоговое предложение, – продолжил Моргентау, – это более или менее предвыборный документ». Как выразился один конгрессмен, «это не повышение доходов, а поднятие ада». Президент безропотно согласился с тем, что конгрессмены подправили законопроект, принятый в последние часы сессии, так что он обещал принести лишь около 250 миллионов долларов дополнительных средств – ничтожную сумму. Окончательный вариант закона предусматривал 79-процентный налог на доходы свыше 5 миллионов долларов – ставка, которая казалась откровенно конфискационной, но на самом деле распространялась только на одного человека – Джона Д. Рокфеллера. Базовая ставка осталась на уровне 4 процентов, и в эпоху, когда три четверти всех семей зарабатывали менее двух тысяч долларов в год, что намного ниже минимального уровня налогообложения для супружеской пары, менее одной американской семьи из двадцати вообще не платили федеральный подоходный налог. Пара с доходом в четыре тысячи долларов входила в десятую часть всех получателей дохода; если у них было двое детей, они платили налог в размере шестнадцати долларов. Аналогичная семья с доходом в двенадцать тысяч долларов входила в 1 процент самых богатых семей и платила менее шестисот долларов. Как говорит ближайший исследователь налоговой политики эпохи депрессии, в «Новом курсе» было две налоговые системы, «одна – рабочая лошадка, другая – символический экспонат». «Налог на богатство» 1935 года был, несомненно, более показательным, чем рабочей лошадью.[477]477
Mark H. Leff, The Limits of Symbolic Reform: The New Deal and Taxation, 1933–1939 (Cambridge: Cambridge University Press, 1984), 91–96, 2.
[Закрыть]
Налоговая стратегия Рузвельта определялась не доходами, а политикой. Здесь он действительно «украл гром Хьюи Лонга», как он откровенно признался Реймонду Моули весной 1935 года. И в процессе стремления сделать сторонников Лонга своими, он также привлек к себе ожесточенную вражду противников Лонга. «Именно в тот день, – говорит Моули, ссылаясь на налоговое послание Рузвельта от 19 июня, – начался раскол в Демократической партии».[478]478
Raymond Moley, After Seven Years (New York: Harper and Brothers, 1939), 312. Налоговое послание, которое Рузвельт уговорил неохотно помогать Моули в составлении проекта, закрепило отчуждение Моули от Рузвельта и «Нового курса».
[Закрыть] Именно в этот день ненависть богатых к Рузвельту начала перерастать в ледяное презрение к сквайру с реки Гудзон, которого теперь называли «предателем своего класса». (На одной из карикатур той эпохи была изображена толпа богачей, направляющаяся в кинотеатр, чтобы «шипеть на Рузвельта»). Уильям Рэндольф Херст заклеймил налоговое предложение Рузвельта как «коммунизм». Он велел своим редакторам называть налоговый законопроект «вымораживающим» и начать заменять «Raw Deal» на «New Deal» при освещении деятельности администрации. В частном порядке он стал называть президента «Сталин Делано Рузвельт».
Со своей стороны, Рузвельт, казалось, почти наслаждался страстями, которые он вызвал среди обеспеченных людей. Читая вслух Икесу один из язвительных пассажей своего налогового послания, он с улыбкой сказал: «Это для Херста». Несколько месяцев спустя Рузвельт выступил на праздновании трехсотлетия Гарвардского университета. Возможно, этот визит пробудил в нём давнее неприятие Порселлиана – воспоминание, которое, возможно, разожгло его новый зуд провоцировать самодовольных богачей. На праздновании двухсотлетия университета в 1836 году, отметил он, «многие выпускники Гарварда были крайне обеспокоены положением дел в стране. Президентом был Эндрю Джексон. В двести пятидесятую годовщину основания Гарвардского колледжа выпускники снова были встревожены. Президентом стал Гровер Кливленд. А теперь, в трехсотую годовщину, – заключил он со смаком, – я – президент».[479]479
Ickes Diary 1:384; Frank Freidel, Franklin D. Roosevelt: A Rendezvous with Destiny (Boston: Little, Brown, 1990), 206.
[Закрыть]
Когда в конце августа Конгресс наконец закрылся, Рой Говард, глава газетной сети Scripps-Howard и в целом дружелюбно настроенный к администрации, написал президенту письмо с серьёзным предложением. «Я искал причины сомнений и неуверенности тех бизнесменов, которые являются скептиками, критиками и откровенными противниками вашей программы», – писал Говард. «По всей стране многие бизнесмены, которые когда-то искренне поддерживали вас, теперь не просто настроены враждебно, они напуганы». «Они убедились, – продолжил Говард, – что вы подготовили налоговый законопроект, который направлен не на получение доходов, а на месть бизнесу… Что не может быть никакого реального восстановления, пока страхи бизнеса не будут развеяны путем предоставления передышки промышленности». Для «упорядоченной модернизации системы, которую мы хотим сохранить», призывал Говард, необходимо «отказаться от дальнейших экспериментов, пока страна не сможет возместить свои потери».[480]480
PPA (1935), 353.
[Закрыть]
Неделю спустя президент ответил, опубликовав как письмо Говарда, так и свой собственный ответ прессе. Он повторил «основные положения того, что было сделано», энергично защищая свои меры «по поиску разумного баланса в американской экономической жизни, по восстановлению нашей банковской системы и общественного доверия, по защите инвесторов на рынке ценных бумаг, по обеспечению свободы организации труда и защите от эксплуатации, по сохранению и развитию наших национальных ресурсов, по созданию защиты от превратностей, связанных со старостью и безработицей, по облегчению нужды и страданий и по освобождению инвесторов и потребителей от бремени ненужных корпоративных машин». Это был достойный послужной список, сказал Рузвельт с гордостью и немалой теплотой. Но, признал он, его основная программа «теперь в значительной степени завершена, и „передышка“, о которой вы говорите, наступила – очень решительно».[481]481
PPA (1935), 354–57.
[Закрыть]
Что касается законодательных актов по существу, то «передышка» Рузвельта оказалась более продолжительной, чем он мог предположить. За небольшим исключением, законодательная база «Нового курса» была завершена к августу 1935 года. Но когда дело дошло до атак на бизнес, передышка оказалась гораздо короче, чем Рузвельт ожидал от Говарда. Приняв законы о занятости и безопасности, Рузвельт, очевидно, защитил «Новый курс» от претендентов слева. Политическая угроза с этой стороны рассеялась в начале сентября, когда Хьюи Лонг пал под пулями убийцы в мраморном коридоре Капитолия штата Луизиана в Батон-Руж. «Интересно, почему он в меня стрелял?» вздохнул Лонг, прежде чем впал в кому. На этот вопрос так и не было получено удовлетворительного ответа, поскольку телохранители Лонга разрядили свои пистолеты в тело убийцы. Пролежав почти два дня, то приходя в сознание, то выходя из него, Лонг умер 10 сентября. Его последними словами были: «Боже, не дай мне умереть! Мне ещё столько нужно сделать!».[482]482
T. Harry Williams, Huey Long (New York: Knopf, 1969), 866, 876.
[Закрыть]
Но Рузвельт, похоже, считал, что ни его законодательная деятельность, ни даже смерть Лонга не смогут полностью нейтрализовать силы радикализма. Когда 10 декабря 1935 года Икес в очередной раз сказал ему, «что, по моему мнению, общие настроения в стране гораздо более радикальны, чем настроения администрации», Рузвельт с готовностью согласился.[483]483
Ickes Diary 1:480.
[Закрыть] Несмотря на обещание «передышки», Рузвельт вновь энергично перешел в атаку на бизнес. Исходя из какой-то смеси принципиальных убеждений, личной неприязни и политического расчета, Рузвельт отказался от руки сотрудничества, которую он протянул капиталу в 1933 году и вновь предложил в своём открытом письме главе Scripps-Howard. Вместо этого он пустил в ход кулак открытой политической войны. Подспудные нотки грубости в его примирительном ответе Говарду разрастались до крещендо по мере того, как президентская кампания 1936 года обретала форму.
Рузвельт фактически открыл свою кампанию против бизнеса, выступив с ежегодным посланием к Конгрессу 3 января 1936 года. Отступая от прецедента, он выступил с обращением вечером, чтобы обеспечить максимально возможную радиоаудиторию. Ещё больше нарушив традицию, он использовал этот повод не для описания состояния Союза, а для откровенно политической речи, порицая своих нечетко определенных, но тем не менее узнаваемых врагов справа. «Мы заслужили ненависть закоренелых жадин», – заявил президент. «Они стремятся восстановить свою эгоистичную власть… Дайте им дорогу, и они пойдут по пути всех автократий прошлого – власть для себя, порабощение для общества».[484]484
PPA (1936), 13–16.
[Закрыть] Сам Хьюи Лонг едва ли смог бы выразиться более резко. Республиканцы в палате представителей громко зашумели, когда Рузвельт в заключение обратился к «этому посланию о положении дел в Союзе». Даже леворадикальная газета «Нейшн» была обескуражена. «Президент, – заявил журнал, – показал себя полным мастером грамматики язвительности». Далее журнал осудил президента за то, что «то, что должно было быть вдумчивым обсуждением бед нации и путей их решения, превратилось в политическую диатрибу».[485]485
Nation, January 15, 1936, 60, 65.
[Закрыть]
Диатриба – это одно. Деньги – другое. Вскоре Рузвельт стал настаивать на дальнейшей налоговой реформе, вновь залечивая раны, нанесенные его «налогом на богатство» 1935 года. 3 марта 1936 года он направил Конгрессу дополнительное бюджетное послание с просьбой ввести налог на нераспределенную корпоративную прибыль. На этот раз потребности правительства в доходах были достаточно реальными. Ликвидация Верховным судом ААА лишила казну около 500 миллионов долларов ожидаемых налоговых поступлений. А в конце января Конгресс, преодолев вето Рузвельта, принял давно откладывавшийся «законопроект о бонусах», предусматривавший выплаты ветеранам Первой мировой войны в размере почти 2 миллиардов долларов в 1936 году, а не в 1945 м. Бонусная выплата предусматривала требование о выплате 120 миллионов долларов в каждый из последующих девяти лет для обслуживания долга, возникшего для единовременной выплаты ветеранам. Однако, решив собрать необходимые средства за счет налогообложения нераспределенной корпоративной прибыли, Рузвельт угрожал запустить руку правительства в самые глубины частного бизнеса. Сторонники этой схемы утверждали, что налог на нераспределенную прибыль создаст стимулы для распределения прибыли в виде повышения заработной платы или дивидендов, стимулируя тем самым потребление. Налог также хорошо вписывался в точку зрения, высказанную Тагвеллом в 1933 году в книге «Промышленная дисциплина и государственное искусство»: нераспределенная прибыль корпораций была одним из механизмов, с помощью которого руководители промышленных предприятий освобождались от дисциплины денежных рынков и финансировали неудачные инвестиционные решения или строили избыточные промышленные объекты, усугубляя тем самым структурную проблему избыточных промышленных мощностей. Противники налога утверждали, что налог ограничит способность менеджмента откладывать деньги на чёрный день, поработит бизнесменов перед банкирами и, что самое важное, затруднит планирование менеджерами расширения производства, способствующего экономическому росту. Бизнес ненавидел налог на нераспределенную корпоративную прибыль. В итоге Конгресс прислушался к критикам и значительно смягчил первоначальное предложение Рузвельта, установив ставку налога от 7 до 27 процентов и в значительной степени освободив от него малые предприятия. Но окончательный закон все же установил принцип, согласно которому нераспределенная прибыль может облагаться налогом. В залах заседаний корпораций от Уолл-стрит до Золотых ворот усилились страх и ненависть к Рузвельту.
Впереди было ещё много интересного. 27 июня 1936 года Рузвельт принял президентскую номинацию от Демократической партии в памятной речи, которая транслировалась на всю страну с филадельфийского поля Франклина.[486]486
Это событие запомнилось не только речью. Оно также ознаменовало один из немногих случаев, когда физический недостаток Рузвельта был публично и унизительно продемонстрирован. По пути к трибуне Рузвельт протянул руку, чтобы пожать руку пожилому поэту Эдвину Маркхэму. Фиксатор на его стальной ножной скобе расстегнулся, и Рузвельт беспомощно упал на землю. Помощник вернул скобу на место, Рузвельт прошептал: «Приведите меня в порядок» – и поднялся на трибуну. Мало кто из ближайшего окружения президента видел этот инцидент. Рассказ об этом приводится в книге Schlesinger 3:583–84.
[Закрыть] «Филадельфия – хороший город для написания американской истории», – начал он и продолжил сравнивать борьбу патриотов против политического самодержавия в 1776 году с его собственной борьбой против «экономических роялистов» 160 лет спустя. «Нужные люди – несвободные люди», – провозгласил он и заявил, что экономическое неравенство делает бессмысленным политическое равенство. До «Нового курса», обвинял он, «небольшая группа людей сосредоточила в своих руках почти полный контроль над чужой собственностью, чужими деньгами, чужим трудом – чужими жизнями. Для слишком многих из нас жизнь перестала быть свободной; свобода перестала быть реальной; люди больше не могли стремиться к счастью».
«Против подобной экономической тирании, – продолжал Рузвельт, – американский гражданин может апеллировать только к организованной силе правительства». Затем, в лирической речи, которая ещё долго будет звучать в американском политическом ораторском искусстве, он сказал:
Правительства могут ошибаться, президенты совершают ошибки, но бессмертный Данте говорит нам, что божественное правосудие взвешивает грехи хладнокровных и грехи теплосердечных на разных весах.
Лучше случайные ошибки правительства, живущего в духе милосердия, чем постоянные упущения правительства, вмерзшего в лёд собственного безразличия.
В событиях человечества существует таинственный круговорот. Одним поколениям многое дается. От других поколений многого ждут. Этому поколению американцев предстоит встреча с судьбой.[487]487
PPA (1936), 230–36.
[Закрыть]
Для Моули это было слишком. За ужином с Рузвельтом в семейной столовой Белого дома за три дня до филадельфийской речи Моули предложил президенту взять примирительный тон в своём предстоящем обращении, что вызвало ожесточенную перепалку между двумя мужчинами. Рузвельт высмеял Моули за его «новых, богатых друзей». Моули ответил с жаром, и Рузвельт стал огрызаться. «В первый и единственный раз в жизни я увидел, как президент забыл о себе как о джентльмене», – вспоминал один из гостей ужина. «Мы все чувствовали себя неловко… Это было тяжелое испытание для всех нас, и мы почувствовали облегчение, когда ужин наконец закончился».[488]488
Samuel I. Rosenman, Working with Roosevelt (New York: Harper and Brothers, 1952), 105; см. рассказ самого Моли в After Seven Years, 345.
[Закрыть]
Дружба Моули с президентом фактически закончилась в тот же вечер. Другие бывшие союзники уже расстались с Рузвельтом. Эл Смит заявил на банкете Лиги свободы в вашингтонском отеле Mayflower в январе 1936 года, что он, вероятно, «уйдёт на прогулку» во время ноябрьских выборов. Он сравнил «Новых курсовиков» с Марксом и Лениным, а также с Норманом Томасом. Он обвинил Рузвельта в том, что тот передал правительство в руки мечтательных профессоров и кровожадных социальных работников. «Кто такой Икес?» – спрашивал он. «Кто такой Уоллес? Кто такой Хопкинс, и, во имя всего святого и доброго, кто такой Тагвелл и откуда он взялся?»[489]489
Leuchtenburg, 178.
[Закрыть]
Не обращая внимания на это нападение со стороны своего старого политического товарища, Рузвельт усилил натиск. Когда республиканцы выдвинули кандидатом в президенты скромного и добродушного губернатора Канзаса Альфа Лэндона, которого называли «канзасским Кулиджем», а на самом деле он был умеренно либеральным наследником старой традиции «Булл Мус», Рузвельт в основном проигнорировал его. Особенно он игнорировал обещание республиканской платформы «использовать налоговую власть для увеличения доходов, а не для карательных или политических целей». Вместо этого он вел кампанию против «жадности» и «автократии». Деловые круги ответили огнём. Они привели Рузвельта в холодную ярость в конце президентской кампании, когда некоторые работодатели распространили среди зарплатных чеков сообщения о том, что новая система социального обеспечения потребует от всех участников носить на шее идентификационные жетоны из нержавеющей стали и что «нет никаких гарантий», что работники когда-нибудь увидят, как их налоговые отчисления с зарплаты, которые должны были начаться 1 января 1937 года, вернутся к ним в качестве пенсий по старости. Разгневанный, Рузвельт начал сравнивать себя с Эндрю Джексоном, президентом, который первым продемонстрировал политическую силу популистского стиля. «Абсолютно верно», – сказал Рузвельт, – что противники Джексона «представляли те же социальные взгляды и те же элементы населения, что и наши».[490]490
Leff, Limits of Symbolic Reform, 189; Schlesinger 3:637.
[Закрыть]
Завершив свою президентскую кампанию длинной речью по Северо-Востоку, особенно по промышленным районам Пенсильвании, Новой Англии и Нью-Йорка, Рузвельт довел свой политический джихад до кульминации в нью-йоркском Мэдисон-сквер-гардене вечером 31 октября 1936 года. Наклонившись к микрофону после бурной тринадцатиминутной овации, Рузвельт обвинил своих «старых врагов»: спонсоров и бенефициаров «деловой и финансовой монополии, спекуляции, безрассудного банковского дела, классового антагонизма, наживы на войне» – короче говоря, «организованные деньги». Голосом, который даже сочувствующий историк называет «жестким, почти мстительным», Рузвельт продолжал: «Никогда ещё за всю нашу историю эти силы не были так едины против одного кандидата, как сегодня. Они единодушны в своей ненависти ко мне, и я приветствую их ненависть». Толпа взорвалась. «Я хотел бы сказать о своей первой администрации, – продолжал Рузвельт, – что в ней силы эгоизма и жажды власти встретили свой отпор. Я хотел бы, чтобы об этом сказали…» Толпа взорвалась от нетерпения. «Подождите! Я хочу, чтобы о моей второй Администрации сказали, что в ней эти силы встретились со своим хозяином». На полу арены начался бедлам, когда пристрастная публика разразилась одобрительным рёвом. Но зрелище в Мэдисон Сквер Гарден обеспокоило и других наблюдателей за президентской кампанией. «Вдумчивые граждане, – размышлял Моули, – были ошеломлены жестокостью, напыщенностью, голой демагогией этих предложений. Никто из тех, кто просто прочитал их, не может даже наполовину понять смысл, переданный каденциями голоса, который их произнёс… Я начал задаваться вопросом, – размышлял Моули, – не начал ли он считать, что доказательством достоинств той или иной меры является степень её оскорбления деловыми кругами».[491]491
PPA (1936), 566–73; Moley, After Seven Years, 352, 313. Хорошие рассказы об этом событии можно найти в Schlesinger 3:638–39; Leuchtenburg, 184; and Davis 3:644–45.
[Закрыть]
Почему Рузвельт это сделал? – спросил себя Моули. Почему в 1935 и 1936 годах президент из кожи вон лез, чтобы разозлить бизнесменов? Почему он отверг совет Роя Говарда о том, что «не может быть настоящего восстановления экономики, пока страхи бизнеса не будут развеяны», и вместо этого стал настойчиво провоцировать бизнес и усиливать его тревогу? Эти вопросы не имеют простых ответов, если, подобно Моули и Говарду, исходить из того, что восстановление экономики было главным приоритетом Рузвельта. Но если признать, что прочные социальные реформы и долговременная политическая перестройка были, по крайней мере, одинаково важными пунктами в повестке дня Рузвельта, то часть загадки снимается. В политическом плане Рузвельт мало что терял от отчуждения правых в 1936 году. Реформы 1935 года уже отдалили многих консерваторов от «Нового курса». Опрос Гэллапа в 1936 году показал, что, хотя 53 процента потенциальных избирателей выступали за переизбрание Рузвельта, только 31 процент из тех, кто был внесен в список «Кто есть кто», что является справедливым показателем недовольства среди высших слоев общества. Реальная опасность заключалась в том, что Рузвельту не удастся сдержать и направить в нужное русло неспокойные силы, кипевшие слева от него. Там, в иммигрантских кварталах дымящих городов, омываемых голосом радиопристава, и в захудалых сельских районах, где фермеры-одиночки будоражили мечту «Каждый человек – король», были зачатки постоянного демократического политического большинства, которое защитит «Новый курс» и, возможно, даже расширит его, или бесконечных волнений, которые сделают невозможным ответственное управление ни для Рузвельта, ни для кого-либо другого.[492]492
John M. Allswang, The New Deal and American Politics (New York: John Wiley and Sons, 1978), 57.
[Закрыть]
Не последнюю роль в беспокойстве Рузвельта играла партия Союза, созданная в июне 1936 года таунсендитами, отцом Кофлином и самозваным преемником убитого Хьюи Лонга, бывшим проповедником «Учеников Христа» и организатором клубов Лонга «Разделим наше богатство» Джеральдом Л. К. Смитом. Как оратор Смит затмил даже самого легендарного Лонга. Высокий, красивый и энергичный, Смит, по словам Г. Л. Менкена, был «самым дерзким и отвратительным, самым громким и похотливым, самым смертоносным и проклятым оратором, которого когда-либо слышали на этой или любой другой земле… чемпионом всех эпох по отсасыванию сисек». Он завораживал аудиторию своими призывами «срывать эти огромные кучи золота, пока не появится настоящая работа, не маленькая работа для старой свиноматки, черноглазой горошины, а настоящие деньги, бифштекс с подливкой, Chevrolet, Ford в гараже, новый костюм, Томас Джефферсон, Иисус Христос, красная, белая и синяя работа для каждого человека». Свои политические митинги он обычно завершал молитвой: «Подними нас из этой нищеты, Господи, из этой бедности, подними нас, стоящих здесь в рабстве сегодня вечером… Из земли рабства в землю молока и меда, где каждый человек – король, но никто не носит корону. Аминь». Когда партия Союза выдвинула на пост президента конгрессмена от Северной Дакоты Уильяма Лемке, Кофлин заявил, что обеспечит Лемке не менее девяти миллионов голосов или прекратит вещание. Никто не воспринял это заявление всерьез, но в некоторых штатах, предупреждали демократы, партия Союза может набрать до 20% голосов ирландцев-католиков, что достаточно, чтобы подорвать политическую силу рабочего класса, от которого зависело переизбрание Рузвельта.[493]493
Alan Brinkley, Voices of Protest: Huey Long, Father Coughlin, and the Great Depression (New York: Knopf, 1982), 173; Williams, Huey Long, 699–700; Leuchtenburg, 181–83.
[Закрыть]
Чтобы привязать к себе потенциально взрывоопасных левых и уменьшить их способность к радикальным действиям, риторические нападки на бизнес были дешевой платой. Для борьбы с «сумасбродными идеями», – сказал Рузвельт репортеру во время дебатов о «налоге на богатство» в 1935 году, – «возможно, придётся бросить на съедение волкам сорок шесть человек, которые, по имеющимся данным, имеют доход свыше одного миллиона долларов в год. Этого можно добиться путем налогообложения». Но на самом деле налоговые предложения Рузвельта были скорее блефом, чем дубинкой. В действительности весь антипредпринимательский «радикализм» Рузвельта в 1936 году был тщательно срежиссированным политическим спектаклем, атакой не на саму капиталистическую систему, а на нескольких высокопоставленных капиталистов. Возможно, это была классовая война, как кричали критики Рузвельта, но это была лишь словесная война. Язвительные обвинения Рузвельта в адрес бизнеса в ходе кампании 1936 года не столько добавляли оскорбление к оскорблению, сколько заменяли оскорбление на оскорбление.[494]494
Leff, Limits of Symbolic Reform, chap. 3, insightfully explores this theme.
[Закрыть]
Выступление Рузвельта, возможно, и обошлось невысокой политической ценой, но оно потребовало высокой цены другого рода. Бывший «мозгоправ» Адольф Берл оценил эту цену в психологических терминах как «разрушенную мораль» в деловом сообществе, но Берл также признал, что состояние деловой морали – то, что Гувер называл «уверенностью» бизнеса – имело тяжелые последствия для восстановления экономики. «В отсутствие крупной государственной программы собственности», – размышлял Берл, – не было «класса или группы, к которым мы могли бы обратиться за экономическим лидерством».[495]495
Beatrice Bishop Berle and Travis Beal Jacobs, Navigating the Rapids, 1918–1971: From the Papers of Adolf A. Berle (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1973), 171.
[Закрыть] И все же на данный момент Рузвельт, казалось, был готов ослабить свои усилия по восстановлению экономики, чтобы закрепить свои политические успехи.








