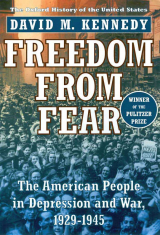
Текст книги "Свобода от страха. Американский народ в период депрессии и войны, 1929-1945 (ЛП)"
Автор книги: Дэвид М. Кеннеди
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 73 страниц)
Джордж Маршалл имел привычку прямо говорить со своими начальниками. Будучи молодым капитаном в составе американских экспедиционных сил во Франции в 1917 году, он осмелился поправить генерала Джона Дж. Першинга перед группой сослуживцев. В ответ Першинг назначил Маршалла своим главным помощником. Но, несмотря на помазание легендарного Першинга, Маршалл, как и почти все офицеры в межвоенные годы, томился в бесцельной армии мирного времени, где продвижение по службе было медленным, а действия редкими. Он оставался подполковником в течение одиннадцати лет. Он безропотно принял ряд, казалось бы, тупиковых назначений: в крошечный гарнизон армии США в Тяньцине (Китай), в Национальную гвардию штата Иллинойс и даже в Гражданский корпус охраны природы. Однако везде он производил неизменное впечатление выдающегося солдата. Его прямота, острый аналитический ум, неприукрашенная речь и гранитное постоянство вызывали восхищение, граничащее с благоговением. Не один из его командиров, отвечая на обычный вопрос в отчете об эффективности, хотели бы они, чтобы Маршалл служил под их началом в бою, отвечал, что предпочел бы служить под его командованием – высший солдатский комплимент. Маршалл был ростом чуть меньше шести футов, прямолинейный, неизменно корректный, безупречно контролирующий себя и решительно мягкий в общении. Большинство сослуживцев видели лишь мимолетные проблески его потенциально вулканического темперамента. «Я не могу позволить себе разозлиться, – сказал он однажды жене, – это было бы смертельно». В 1938 году, в возрасте пятидесяти восьми лет, Маршалл стал начальником Отдела военных планов, а затем заместителем начальника штаба при Малине. В знаменательную дату 1 сентября 1939 года Рузвельт возвел его в ранг начальника штаба армии. К тому времени он был проницательным, даже безжалостным судьей людей. Он занялся просеиванием дряхлеющего офицерского корпуса армии, чтобы выявить лидеров, которые смогут сражаться и победить в следующей войне. Он также решил, что не сможет выполнять свою работу должным образом, если позволит себе соблазниться легендарным рузвельтовским обаянием. По слухам, он дал торжественную клятву никогда не смеяться над шутками президента.[713]713
Eric Larrabee, Commander in Chief: Franklin Delano Roosevelt, His Lieutenants, and Their War (New York: Harper and Row, 1987), 96ff.
[Закрыть]
Каменный ответ Маршалла Рузвельту 14 ноября 1938 года положил начало затяжным дебатам между президентом и его главнокомандующими о конкурирующих потребностях союзных и американских вооруженных сил в ограниченном объеме американского военного снаряжения. Многие факторы сговорились, чтобы этот объем был небольшим: упорная вера в то, что конфликт находится далеко и является чьим-то делом, или что его ещё можно предотвратить вообще; чувствительность изоляционистов из Конгресса к любому намеку на более активную международную роль Америки; ограничения традиционной фискальной ортодоксии. Все эти соображения долгое время исключали любые просьбы Рузвельта о выделении значительных военных и военно-морских ассигнований. Общий объем ассигнований на национальную оборону в 1940 финансовом году составил всего 1,3 миллиарда долларов, что на 50 процентов больше, чем в 1939 году, но все равно составляет лишь одну седьмую часть федерального бюджета. В январе 1940 года Рузвельт попросил увеличить ассигнования на 1941 финансовый год до 1,8 миллиарда долларов, и Конгресс немедленно приступил к сокращению даже этой скромной суммы. В любом случае, сенсационные обвинения Комитета Ная в наживе на Первой мировой войне заставили многие корпорации с опаской относиться к заказам на вооружение. Оборонный бюджет 1939 года предусматривал финансирование всего 250 самолетов В–17 «Летающие крепости», разработанных в 1935 году в качестве главного американского дальнего бомбардировщика, а армия разместила заказы всего на семьдесят в–17 в 1940 финансовом году. Фактическое производство ещё больше отставало от грандиозных представлений президента о могучем воздушном флоте. В мае 1940 года на вооружение поступило всего пятьдесят два В–17.[714]714
Sherry, Rise of American Air Power, 89; Mark Skinner Watson, United States Army in World War II: Chief of Staff: Prewar Plans and Preparations (Washington: Department of the Army, 1950), 305.
[Закрыть]
Что касается зарубежных закупок, то, несмотря на активное содействие Рузвельта, европейские заказы на самолеты оставались весьма скромными по масштабам. Союзники по понятным причинам опасались зависеть от источника критически важных поставок, который по закону должен был иссякнуть в момент начала официальных военных действий. Рассчитывая на затяжную войну и вдвойне лишённые права (по закону Джонсона о дефолте по долгам и положениям Закона о нейтралитете о наличных деньгах) обращаться за кредитами в Соединенные Штаты, они также не решались исчерпать свои драгоценные долларовые и золотые запасы. Они также беспокоились о политических последствиях, связанных с провоцированием ответной изоляционистской реакции, если окажется, что они нарушают дух Закона о нейтралитете. К середине 1939 года французы и британцы вместе заключили контракты всего на пятнадцать сотен самолетов.[715]715
Craven and Cate 6:302.
[Закрыть] Когда началась война, Соединенные Штаты сами были безоружны и вносили лишь незначительный вклад в оснащение европейских демократий боеприпасами. В результате, по словам заместителя государственного секретаря Самнера Уэллса, получился «кошмар разочарования». У правительства «не было никаких средств, – объяснял Уэллс, – кроме войны, против которой в подавляющем большинстве случаев выступало американское общественное мнение, чтобы отвлечь или остановить мировой катаклизм и угрозу самому выживанию этой страны».[716]716
Sumner Welles, The Time for Decision (New York: Harper and Brothers, 1944), 148.
[Закрыть] Стратегия короткой войны, другими словами, на практике оказалась совсем не стратегией.
Используя скудную свободу действий, которую позволял ему закон, Рузвельт отложил официальное признание европейской войны до 5 сентября 1939 года, чтобы позволить Великобритании и Франции вывезти из американских портов некоторые ранее заказанные грузы. Затем он издал две прокламации о нейтралитете: одна, как и прокламация Вильсона в 1914 году, соответствовала традиционному международному праву, а другая была предписана Законом о нейтралитете 1937 года. Последняя декларация накладывала железное эмбарго на все «оружие, боеприпасы или орудия войны», включая «самолеты в разобранном, собранном или разобранном виде», а также «пропеллеры или воздушные винты, фюзеляжи, корпуса, крылья, хвостовые части [и] авиационные двигатели». Теперь союзники не могли легально купить в Соединенных Штатах ни одного патрона, не говоря уже об огромных роях боевых самолетов.
Из Лондона посол Кеннеди сообщил, что британские официальные лица «подавлены до глубины души» тем, что на закон о нейтралитете была сделана ссылка. Из Парижа Буллит писал: «Конечно, очевидно, что если Закон о нейтралитете останется в его нынешней форме, то Франция и Англия быстро потерпят поражение». Отмена закона теперь стала главным приоритетом Рузвельта. «Я почти буквально хожу по яйцам, – писал Рузвельт, – ничего не говорю, ничего не вижу и ничего не слышу», пока он пытался протащить пересмотр закона о нейтралитете через коварный законодательный процесс. 13 сентября, почти через две недели после начала боевых действий в Польше, и после тонких политических переговоров с ключевыми законодателями, он призвал созвать специальную сессию Конгресса 21 сентября для рассмотрения вопроса о пересмотре нейтралитета.[717]717
Кеннеди цитируется по Dallek, 200; Bullitt’s remark is in Bullitt, For the President, 369; Рузвельт цитируется по Elliott Roosevelt, ed., FDR: His Personal Letters, 1928–1945 (New York: Duell, Sloan and Pearce, 1950), 2:934.
[Закрыть]
Несмотря на взвешенную осторожность президента, объявление о специальной сессии Конгресса мгновенно активизировало сторонников изоляции. 14 сентября сенатор Бора выступил в эфире с грозным предупреждением о том, что нарушение закона о нейтралитете непременно приведет к окончательному развязыванию американской войны (это предсказание оказалось верным). На следующий день знаменитый авиатор Чарльз Линдберг выступил по радио с первой из нескольких пламенных речей против пересмотра нейтралитета. «Судьба этой страны не требует нашего участия в европейских войнах», – сказал Линдберг. «Достаточно взглянуть на карту, чтобы понять, где лежат наши истинные границы. Что ещё мы можем просить, кроме Атлантического океана на востоке и Тихого океана на западе… ? Океан – это грозная преграда даже для современных самолетов». Линдберг, отец Чарльз Кофлин и несколько сенаторов-изоляционистов заполнили эфир обличениями предстоящей просьбы Рузвельта о внесении поправок в закон 1937 года. В считанные дни их кампания завалила офисы конгресса более чем миллионом телеграмм, писем и открыток с антиревизионистскими призывами.[718]718
Charles A. Lindbergh, «Appeal to Isolationism», Vital Speeches of the Day, October 1, 1939, 751–52; Dallek, 200ff. Линдберг, привлекательная личность, прославившаяся как первый человек, совершивший одиночный перелет через Атлантику, был особенно острой занозой для Рузвельта. В 1930-х годах он несколько раз посещал Германию и был награжден немецким правительством в 1938 году, что заставило Рузвельта сделать вывод о том, что крестовый поход Линдберга против пересмотра нейтралитета был вызван не простым изоляционизмом, а чем-то большим. «Если я завтра умру, я хочу, чтобы вы это знали», – взорвался Рузвельт, обращаясь к секретарю Моргентау в мае 1940 года: «Я абсолютно убежден, что Линдберг – нацист». Frank Freidel, Franklin D. Roosevelt: Rendezvous with Destiny (Boston: Little, Brown, 1990), 323.
[Закрыть] После шести недель ожесточенных дебатов Конгресс наконец отправил пересмотренный законопроект о нейтралитете в Белый дом. Голосование по законопроекту проиллюстрировало значительные изменения в политической геометрии, произошедшие со времен славы «Нового курса». В Сенате большинство бывших прогрессивных республиканских союзников Рузвельта по внутренней политике покинули его. В Палате представителей южные демократы проголосовали 110–8 голосов в пользу пересмотра, наглядно продемонстрировав, насколько внешняя политика президента теперь зависела не от либеральной коалиции, законодательно оформившей «Новый курс», а от традиционно консервативного южного ядра его партии, которое было в значительной степени враждебно настроено против дальнейших внутренних реформ.
Рузвельт подписал пересмотренный Закон о нейтралитете 4 ноября 1939 года. Он сиял перед камерами кинохроники, ставя своё имя на документе, и демонстративно вручал торжественные ручки спонсорам законопроекта в конгрессе. Однако, несмотря на эту президентскую браваду, новый закон о нейтралитете в лучшем случае представлял собой лишь частичную победу стратегии «короткой войны». Закон действительно отменил эмбарго на поставки оружия. Воюющие державы теперь могли размещать в США заказы на военные материалы, включая боевые самолеты. Но у изоляционистов из Конгресса все ещё оставалось достаточно сил, чтобы заплатить за эту уступку высокую цену: они восстановили положения закона 1937 года о наличных деньгах и перевозках, срок действия которых истек в мае 1939 года. Кредиты воюющим сторонам были категорически запрещены – как из Казначейства США, так и от частных банкиров. Покупатели оружия и боеприпасов должны были произвести полную оплату наличными и получить право собственности до того, как товар покинет американские доки, а грузы могли перевозиться только на иностранных судах. Подчеркивая непримиримую решимость американских законодателей избежать инцидента, чреватого войной, новый закон запрещал американским торговым судам проходить через обширную «опасную зону», охватывающую большинство морских путей к западноевропейским портам, как нейтральным, так и воюющим. Северная Атлантика была историческим спасательным кругом Британии и традиционным щитом Америки. Взмахом пера 4 ноября Рузвельт очистил это море от американских кораблей лучше, чем это могли бы сделать тысячи торпед.
Этот ограниченный пересмотр закона о нейтралитете точно отражал шаткое равновесие, в котором сейчас находилась американская дипломатия. И общественное мнение, и официальная политика колебались между надеждой и страхом – надеждой на то, что с американской помощью союзники смогут победить Гитлера, и страхом, что события могут втянуть Соединенные Штаты в конфликт. Рузвельт, например, не обманывал себя относительно ужасающих последствий триумфа нацистов в Европе, но и не питал иллюзий относительно нравов своих соотечественников. «Меня беспокоит то, – признавался Рузвельт в конце декабря 1939 года своему коллеге-международнику, канзасскому газетчику Уильяму Аллену Уайту, – что общественное мнение здесь каждое утро похлопывает себя по спине и благодарит Бога за Атлантический (и Тихий) океан. Мы сильно недооцениваем серьёзные последствия для нашего собственного будущего… Поэтому, мой мудрый старый друг, моя проблема заключается в том, чтобы заставить американский народ задуматься о возможных последствиях, не пугая американский народ мыслью о том, что он будет втянут в эту войну».[719]719
E. Roosevelt, FDR: His Personal Letters 2:968.
[Закрыть]
ОШИБКА, наступившая в Европе после вторжения Германии в Польшу, усугубила проблему Рузвельта в конце 1939 и начале 1940 года, когда перед ним встала задача просвещения американцев о реальной и настоящей опасности, с которой они столкнулись. Выполняя секретные протоколы нацистско-советского пакта, Сталин в середине сентября захватил восточную Польшу, а в конце ноября вторгся в Финляндию. Но это были относительно незначительные столкновения на далёкой восточной периферии Европы. В западной части Европы грозный немецкий вермахт, действительно великая угроза миру на Старом континенте, таинственно бездействовал. Блицкриг, или «молниеносная война», разгромившая Польшу за три недели, уступила место шести месяцам Ситцкрига – любопытной «сидячей войны», в ходе которой Гитлер закрепил свои успехи, но не начал новых военных авантюр.
В этот период Гитлер держал Париж и Лондон в напряжении, заманчиво, но в конечном итоге фальшиво предлагая мир. Союзники, со своей стороны, не проявляли склонности к захвату военной инициативы. Франция тянула время, обманутая своей верой в якобы непробиваемую линию Мажино. Британия довольствовалась налетами на немецкие города с помощью листовок. Когда последние дни 1939 года растянулись на недели, а затем и на месяцы, а на западе все ещё не было удара, Европа немного расслабилась. Английские дети, эвакуированные из Лондона под угрозой воздушных налетов в сентябре, возвращались домой к Рождеству. Даже такой воинственный британец, как Уинстон Черчилль, назначенный в начале сентября первым лордом британского адмиралтейства в кабинете Чемберлена, продолжал думать о войне скорее как о неизбежной перспективе, чем как о реальности. Уже на Рождество 1939 года он телеграфировал Франклину Рузвельту: «Вообще говоря, думаю, что война начнётся уже скоро».[720]720
C&R 1:29. Интересно, что в тот же день Черчилль написал Чемберлену, что считает Рузвельта другом Великобритании, «но я полагаю, что он хочет быть переизбранным, и я боюсь, что изоляционизм – это выигрышный билет». Rock, Chamberlain and Roosevelt, 243.
[Закрыть]
Когда наступил 1940 год, войны на западе все ещё не было – или было только то, что сенатор Бора с усмешкой назвал «фальшивой войной», очередное сабельное противостояние между громогласными нацистами и хитрыми демократиями, но Соединенным Штатам не о чём было беспокоиться. Среди американцев, сообщал из Вашингтона британский посол, царило ощущение «скуки от того, что грандиозная драма неограниченной воздушной войны в Европе, которой их учили ожидать, очевидно, не состоится».[721]721
Rock, Chamberlain and Roosevelt, 224.
[Закрыть]
Странное затишье фальшивой войны на мгновение очаровало даже Франклина Рузвельта миражом урегулирования путем переговоров, прежде чем разразится страшная широкая война. Недавняя история умиротворения давала ему мало оснований для уверенности в том, что Великобритания или Франция соберут в себе политическую волю, чтобы долго противостоять Гитлеру. У него также не было оснований полагать, что британские или французские вооруженные силы смогут противостоять нацистскому джаггернауту, как только он начнёт наступать. Буллит прислал из Парижа несколько предупреждений о том, что Франция будет покорена немецкой авиацией задолго до того, как французы смогут создать свою собственную воздушную армию, с американской помощью или без неё. Из Лондона посол Кеннеди неоднократно подчеркивал, что предложения Берлина об урегулировании пагубно сказываются на морали. Чемберлен, считал Кеннеди, ещё может пойти на сделку с Гитлером. Сам Кеннеди, по сути, склонялся к тому, что такая сделка – лучшее, на что могла надеяться превосходящая по численности и недофинансированная Англия. «Не заблуждайтесь, – писал Кеннеди президенту 3 ноября, – в этой стране существует вполне определенное течение, выступающее за мир… Хотя все ненавидят Гитлера, [британцы] все же не хотят, чтобы им пришёл конец в экономическом, финансовом, политическом и социальном плане, что, как они начинают подозревать, станет их судьбой, если война продлится очень долго».[722]722
Bullitt, For the President, 380, 391; Кеннеди цитируется по Rock, Chamberlain and Roosevelt, 236, and Dallek, 213.
[Закрыть]
Чтобы лучше оценить настроения в Европе, 9 февраля 1940 года Рузвельт объявил, что направляет заместителя государственного секретаря Самнера Уэллса с якобы «ознакомительной» миссией в Рим, Берлин, Париж и Лондон. О более глубокой цели поездки Уэллса президент не соизволил заявить публично: изучить возможность мирного урегулирования с Гитлером при посредничестве Америки – несомненно, по мнению Рузвельта, более предпочтительного, чем мирное урегулирование, продиктованное Гитлером.
То, что обнаружил Уэллс, обескуражило его. Хотя многие итальянские чиновники с тревогой искали способ избежать войны, Муссолини явно был верховным боссом Италии, и Уэллс пришёл к выводу, что нет «ни малейшего шанса на успешные переговоры» с Иль Дуче.[723]723
L&G, Challenge 374.
[Закрыть] В Берлине, где он увидел польских военнопленных, хмуро убирающих снег с улиц, Уэллс с ледяным спокойствием выслушал двухчасовую речь министра иностранных дел Германии Иоахима фон Риббентропа; глаза министра были постоянно закрыты, «помпезность и нелепость его манеры» усиливали впечатление, что «этот человек пропитан ненавистью к Англии». На следующий день Уэллс уезжал с интервью с Гитлером, «думая про себя, когда я садился в машину, что слишком трагично, что все решения уже приняты. Лучшее, на что можно было надеяться, – это отсрочка, чего бы это ни стоило». В Париже, проезжая по улицам, где прошла большая часть его привилегированного детства, Уэллс получил множество подтверждений мрачных сообщений о моральном состоянии французов, которые передавал Буллит. На лицах людей он видел лишь «угрюмую апатию». «Лишь в редчайших случаях… я получал впечатление надежды или бодрости, или даже, как это ни трагично, воли к мужеству».
В Англии картина была иной. «Не было никакого сходства между впечатлениями, которые я получил в Лондоне, и теми, которые мне навязали в Париже», – вспоминал позже Уэллс. Многие писатели преуменьшали значение пребывания Уэллса в Лондоне, считая его просто «витриной» для маскировки его якобы более серьёзной миссии в Рим и Берлин. Но на самом деле именно визит Уэллса в Англию имел гораздо более важные последствия по той простой причине, что там Уэллс лично столкнулся с крепнущим английским духом непокорности – духом, который не смогли передать обреченные доклады посла Кеннеди. «Англичане, – мгновенно заключил Уэллс, – будут сражаться до последнего… Казалось, они были полны решимости не переживать ещё раз то, что им пришлось пережить с осени 1938 года, а довести дело до конца, каким бы далёким ни был этот конец и каким бы горьким ни оказалось продвижение к нему». Позиция двух человек, в частности, произвела на Уэллса глубокое впечатление. Энтони Иден, бывший и будущий министр иностранных дел, ныне работавший в министерстве по делам доминионов, решительно высказал своё суровое убеждение в том, «что ничто, кроме войны, невозможно до тех пор, пока гитлеризм не будет свергнут». Ещё более категорично Уинстон Черчилль, бывший и нынешний первый лорд адмиралтейства и вскоре ставший премьер-министром, искупал Уэллса в «каскаде ораторского искусства, блестящего и всегда эффективного, перемежающегося со значительным остроумием». Окутанный сигарным дымом и жестикулируя стаканом виски с содовой (по мнению Уэллса, не первым за день), Черчилль провозгласил: «Не может быть иного решения, кроме прямого и полного поражения Германии [и] уничтожения национал-социализма».
В конце марта Уэллс вернулся в Вашингтон и представил свой отчет президенту. Его путешествие разрушило две иллюзии. С одной стороны, его беседы с Муссолини и Гитлером убедительно доказали, что поиски мира путем переговоров – «забвение надежд». С другой стороны, вопреки тому, что долгое время предполагала история министерства Чемберлена и оценки посла Кеннеди, Англия не была полностью лишена воли к сопротивлению нацистам. Уэллс обнаружил, по крайней мере, среди некоторых лидеров Англии, особенно среди Черчилля, яростную решимость вести войну до конца против Гитлера. От этой решимости, и особенно от способности Черчилля поддержать её и убедить других, прежде всего американцев, в её глубине и прочности, будет зависеть многое в истории.[724]724
Welles, Time for Decision, 91, 99, 109, 121, 134, 77.
[Закрыть]
НЕ УСПЕЛ УЭЛЛС вернуться в Соединенные Штаты, как Гитлер разрушил ложное спокойствие европейского затишья. 9 апреля Германия оккупировала Данию, и немецкие войска с поразительной быстротой пронеслись по южной Норвегии и вошли в несколько портов вдоль изрезанного фьордами норвежского побережья. Англо-французские силы бросились вытеснять захватчиков, но в течение нескольких недель немцы захватили страну, и униженные союзники отступили. Когда в начале мая Королевский флот эвакуировал британские части из разваливающейся Норвегии, правительство Чемберлена окончательно пало. (Во Франции Даладье был заменен новым премьер-министром, Полем Рейно, примерно за семь недель до этого). «Во имя Бога, уходите!» – крикнул Чемберлену один из заднескамеечников, процитировав слова Кромвеля, обращенные к Долгому парламенту в XVII веке. «Вы просидели здесь слишком долго, чтобы принести хоть какую-то пользу. Уходите, говорю я, и дайте нам покончить с вами». 10 мая Уинстон Черчилль стал премьер-министром. «Я чувствовал, что иду с Судьбой, – вспоминал Черчилль, – и что вся моя прошлая жизнь была лишь подготовкой к этому часу и к этому испытанию».[725]725
Churchill 1:659, 667.
[Закрыть]
Быстрое покорение Норвегии стало лишь прелюдией к долго откладываемому наступлению на западе. 10 мая, в тот самый день, когда Черчилль сжал руку Судьбы в Британии, вся свирепость блицкрига разразилась над Голландией, Бельгией и Люксембургом. Немецкие воздушно-десантные войска свели на нет историческую защиту Нидерландов, затопив пути вторжения. Бомбардировщики Люфтваффе сравняли с землей центр Роттердама. Панцерные (механизированные) дивизии устремились к Брюсселю. 14 мая восемнадцать сотен немецких танков с рёвом вырвались из Арденнских лесов, далеко к северу от бесполезной линии Мажино, и по часовой стрелке двинулись к морю, отрезая французские и британские колонны, которые выдвинулись, чтобы сдержать первоначальный немецкий натиск в низкие страны. Люксембург был бесцеремонно разгромлен. Голландия капитулировала 14 мая, Бельгия – 28 мая. 15 мая премьер-министр Франции Поль Рейно позвонил Уинстону Черчиллю. «Мы потерпели поражение», – сказал он, говоря по-английски. Когда ошеломленный Черчилль ничего не ответил, Рейно продолжил: «Мы побеждены; мы проиграли битву», – заявление, которое оказалось преждевременным всего на тридцать два дня.
В этот хаотический тридцатидвухдневный промежуток времени, среди сцен неописуемого столпотворения, включая перестрелки между французскими и британскими войсками, спешащими на эвакуационные корабли, Британии удалось спасти около 338 000 солдат (включая более ста тысяч французов) из северного французского порта Дюнкерк, что вместе с Норвегией стало двумя эвакуациями союзных войск с европейского континента за столько же месяцев. На гравийных пляжах Дюнкерка было оставлено все тяжелое снаряжение Британских экспедиционных сил – «все снаряжение армии, на которое до сих пор были отданы все первые плоды наших заводов», – сетовал Черчилль, – включая девяносто тысяч винтовок, семь тысяч тонн боеприпасов и 120 тысяч автомобилей.
Беда Черчилля отражала его острое понимание неумолимой экономической логики современной войны, когда машины, скорость и объем их производства имеют не меньшее значение для исхода сражения, чем люди, быстрота и точность их маневров. Беспорядочное отступление из Дюнкерка лишило британскую армию большей части боевых орудий. «Должно пройти много месяцев, – размышлял Черчилль, – прежде чем эта потеря будет восполнена». На море и в воздухе Королевский флот и Королевские ВВС оставались жизнеспособными боевыми силами. Но на суше Британия теперь была практически беззащитна.[726]726
Churchill 2:42, 141–42. Один британский солдат вспоминал, как он вместе со своим артиллерийским полком занял оборонительные позиции в Йоркшире. «Все снаряжение 65-го полевого полка Королевской артиллерии в тот исторический момент состояло из одного захваченного гражданского грузовика и нескольких десятков винтовок», – вспоминал он. Ronald Lewin, Ultra Goes to War (London: Grafton 1988), 73.
[Закрыть]
Как только отступающие британские и французские войска исчезли за Ла-Маншем, остатки французской армии рассыпались перед натиском немецких войск не более чем плащом матадора. Панцерные колонны перекатывались через устаревшие противотанковые препятствия, словно через консервные банки, и переправлялись через реку Мёз, «как будто её не существовало», – докладывал потрясённый Буллит. Даже умудренный опытом сражений Черчилль был потрясен скоростью и сокрушительной полнотой нацистской победы. «Я не понимал, – вспоминал он позже, – жестокости революции, произведенной со времен последней войны вторжением массы быстро движущейся тяжелой бронетехники».
10 июня, играя, по меткому выражению Гарольда Икеса, «роль шакала перед львом Гитлера», Муссолини объявил войну разбушевавшейся Франции, а для пущей убедительности – и Великобритании. Таким образом, «иль дуче» развеял все затянувшиеся надежды на то, что Италия ещё может отделиться от своего немецкого союзника. Неделю спустя, 17 июня, Франция попросила о перемирии. 22 июня 1940 года в том же железнодорожном вагоне, в котором немцы были вынуждены капитулировать в 1918 году, Гитлер с ликованием принял официальную капитуляцию Франции. По условиям документа о капитуляции Германия оккупировала все атлантическое побережье Франции и её внутренние районы до демаркационной линии к югу от реки Луары. Вассальное правительство во главе с авторитарным патриархом маршалом Филиппом Петином, разместившееся в курортном городе Виши, получило право руководить развалившимся французским государством. «Битва за Францию окончена», – заявил Черчилль в мрачной Палате общин. «Я ожидаю, что скоро начнётся битва за Британию». Англия, – кисло предсказал Петен, – «свернёт себе шею, как цыпленок».[727]727
Bullitt, For the President, 416; Churchill 2:42, 43, 141; Ickes Diary 3:203; Петен цитируется по Davis 4:560.
[Закрыть]
Капитуляция Франции в корне изменила военные расчеты, независимо от того, где их составляли – в Лондоне или Вашингтоне. До поражения Франции британские планировщики рассчитывали на то, что Франция поглотит первоначальный шок от немецкого нападения и даст Британии время на перевооружение. Американская стратегическая доктрина, какой бы она ни была, в свою очередь, неявно опиралась на триаду: французская сухопутная мощь, британская морская мощь и американская промышленная мощь, особенно производство самолетов для европейских демократий. Теперь Франция лежала под нацистским сапогом. Сможет ли Британия, одинокая и в значительной степени разоруженная после Дюнкеркского фиаско, долго продержаться?
Посол Буллит предупреждал, что Франция рухнет с неприличной поспешностью перед лицом немецкого вторжения. События мая и июня 1940 года подтвердили его худшие предчувствия. Посол Кеннеди делал аналогичные предупреждения в отношении Англии. После Дюнкерка, катастрофы, которую он точно предсказал, Кеннеди повторил своё предсказание о том, что немцы, изгнав Англию с континента и завоевав её самого важного союзника, сделают Лондону мирное предложение, от которого он не сможет отказаться. Кто теперь мог с уверенностью опровергнуть пророчество Кеннеди? И если Британия падет, что тогда будет – или сможет – делать Америка? Если Британия потерпит поражение, – зловеще произнёс Черчилль, – «тогда весь мир, включая Соединенные Штаты, включая все, что мы знали и о чём заботились, погрузится в пучину нового Тёмного века». Выступая в Шарлотсвилле, штат Вирджиния, Рузвельт согласился с ним. Соединенные Штаты не смогут выжить в качестве «одинокого острова в мире, где господствует философия силы», – сказал Рузвельт. «Такой остров может быть мечтой тех, кто все ещё говорит и голосует как изоляционисты», но эта глупая и опасная мечта «представляет собой для меня, – сказал президент, – кошмар народа, заключенного в тюрьму, закованного в наручники, голодного, которого изо дня в день кормят через решетку презрительные, не знающие жалости хозяева других континентов… В этот десятый день июня 1940 года в этом университете, основанном первым великим американским учителем демократии, мы возносим наши молитвы и возлагаем наши надежды на тех, кто за морями с великолепной доблестью ведет свою битву за свободу».[728]728
David Cannadine, ed., Blood, Toil, Tears and Sweat: The Speeches of Winston Churchill (Boston: Houghton Mifflin, 1989), 177; PPA (1940), 261, 263–64.
[Закрыть]
Теперь Черчиллю предстояло срочно подтвердить веру в британскую доблесть. Он должен был не только сплотить своих соотечественников, но и убедить американцев, что Англия оставила в прошлом все соблазны умиротворения. В конечном итоге, конечно, Черчилль также надеялся вовлечь Соединенные Штаты в войну на стороне Англии. Он не скрывал этих намерений в знаменитой пературе к речи, произнесенной во время эвакуации из Дюнкерка, – речи, столь же примечательной своей откровенной мольбой о помощи, сколь и гипнотическими риторическими полетами. Премьер-министр ЮАР Ян Смэтс однажды заметил о речах Черчилля: «Каждая передача – это битва».[729]729
Martin Gilbert, Churchill: A Life (New York: Henry Holt, 1991), 690.
[Закрыть] Эта речь, произнесенная на заседании Палаты общин 4 июня, была одновременно Трафальгаром и Азенкуром Черчилля, парящим триумфом ораторского искусства. Говоря лирическими елизаветинскими каденциями, Черчилль обращался как к американцам, так и к британцам (хотя американцы и не подозревали, что по трансатлантическому радио в миллионы их домов доносится не голос Черчилля, а записанный голос его назначенного пародиста, Нормана Шелли):
Мы будем идти до конца, мы будем сражаться во Франции, мы будем сражаться на морях и океанах, мы будем сражаться с растущей уверенностью и растущей силой в воздухе, мы будем защищать наш остров, какой бы ни была цена, мы будем сражаться на пляжах, мы будем сражаться на десантных площадках, мы будем сражаться на полях и на улицах, мы будем сражаться на холмах; мы никогда не сдадимся… пока в Божий час новый мир, со всей своей силой и мощью, не придёт на помощь и освобождение старого.[730]730
Cannadine, Blood, Toil, Tears and Sweat, 165; для роли самозванца, см. C&R 1:42.
[Закрыть]
Этими словами Черчилль подтвердил оценку Самнера Уэллса о воинственности и упорстве британского лидера. «Это была великолепная речь», – отметил в своём дневнике обычно хмурый Икес. Рузвельт считал, что речь была «сама твердость». «Президент и я, – писал государственный секретарь Халл, – считаем, что мистер Черчилль имел в виду то, что сказал… Никаких переговоров между Лондоном и Берлином не будет». Словно колдовское заклинание, слова Черчилля буквально открывали дверь для американского сотрудничества. «Если бы у нас были сомнения в решимости Британии продолжать борьбу, мы бы не предприняли тех шагов, которые сделали, чтобы оказать ей материальную помощь», – писал позже Халл.[731]731
Ickes Diary 3:202; Lash, Roosevelt and Churchill, 150.
[Закрыть]
Однако не все американцы так легко поддались чарам британского лидера, и не все сомнения в перспективах выживания Британии были так быстро развеяны. Черчилль приоткрыл дверь в англо-американское партнерство, но только на одну щель. Ветры войны и тревоги могли легко захлопнуть её снова. Словесные и иные муки Черчилля только начинались.
Уинстон Спенсер Черчилль как нельзя лучше подходил для того, чтобы призвать Новый Свет к спасению Старого. Сын отца-англичанина и матери-американки, он был воплощением англо-американского единства. Таинственные капризы характера и чистилища его шестидесяти четырех лет объединились, чтобы к 1939 году вооружить его внушительным арсеналом смекалки, хитрости и мастерства. Обладая великолепно отточенными ораторскими способностями, Черчилль был грозным претендентом на руку своих американских кузин. От них, как он знал, зависело все. Всю свою хитрость и остроумие Черчилль направил на то, чтобы убедить американцев стать товарищами Англии по оружию.








