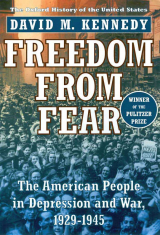
Текст книги "Свобода от страха. Американский народ в период депрессии и войны, 1929-1945 (ЛП)"
Автор книги: Дэвид М. Кеннеди
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 73 страниц)
В последнем порыве законодательной активности Конгресс принял Закон о восстановлении национальной промышленности и ушёл на покой 16 июня. В тот же день он принял банковский закон Гласса-Стиголла, который разделил коммерческие и инвестиционные банки, и, несмотря на возражения Рузвельта, ввел федеральное страхование банковских вкладов, закон о фермерском кредите и законопроект о регулировании железных дорог.
ТАК ЗАКОНЧИЛСЯ Стодневный конгресс. Подписывая 16 июня последние законопроекты, поступившие с Капитолийского холма, Рузвельт заметил, что «сегодня творится больше истории, чем в любой другой день нашей национальной жизни».[261]261
Leuchtenburg, 61.
[Закрыть] По любым стандартам, достижения «Ста дней» были впечатляющими. «Новый курс» решительно остановил банковскую панику. Он изобрел совершенно новые институты для реструктуризации огромных участков национальной экономики – от банковского дела до сельского хозяйства, промышленности и трудовых отношений. Была санкционирована крупнейшая в истории Америки программа общественных работ. Он выделил миллиарды долларов на федеральную помощь безработным. Он назначил великий водораздел Теннесси местом проведения беспрецедентного эксперимента по комплексному, плановому региональному развитию. Не менее важно и то, что дух страны, так удрученной четырьмя годами экономической разрухи, был пронизан заразительным оптимизмом и надеждой самого Рузвельта. При этом сам Рузвельт ошеломил тех критиков, которые считали, что за несколько месяцев до этого они оценили его по достоинству и нашли его таким несостоятельным. Даже некоторые старые знакомые сомневались, тот ли это человек. Принятие присяги, – писал один журналист, – «кажется, внезапно превратило его из человека простого обаяния и жизнерадостности в человека динамичной агрессивности».[262]262
Leuchtenburg, 61.
[Закрыть]
Но при всём волнении «Ста дней» и росте авторитета Рузвельта, Депрессия все ещё мрачно висела над страной. Точный план борьбы с ней, разработанный «Новым курсом», по-прежнему трудно определить. В маловероятной смеси принятых политических мер нельзя было обнаружить ни одной последовательной схемы. Они варьировались от ортодоксального сокращения бюджета до широких расходов на помощь и общественные работы, от жесткого контроля над Уолл-стрит до контролируемой правительством картелизации, от преднамеренного уничтожения урожая до продуманной консервации, от защиты ипотеки для среднего класса до защиты профсоюзов для рабочих. «Нужно просто признать, – писал позже Тагвелл, – что Рузвельт ещё не определился, в каком направлении ему следует двигаться, и, по сути, шёл сразу в двух направлениях».[263]263
Rexford G. Tugwell, Roosevelt’s Revolution: The First Year, a Personal Perspective (New York: Macmillan, 1977), 59.
[Закрыть]
Некоторые из этих мер были направлены на оздоровление экономики, но не менее многие были призваны обеспечить лишь паллиативное облегчение или провести реформы, давно стоявшие на повестке дня, но лишь косвенно связанные с борьбой с депрессией. Некоторые из них, например TVA, были идеей Рузвельта. Некоторые, как банковский законопроект, в значительной степени принадлежали Гуверу. Другие, такие как AAA и NRA, были разработаны по большей части теми, кого они касались. Другие, такие как трудовые положения NIRA и поправка Томаса к закону об ААА, были разработаны в Конгрессе. Единственное, что можно сказать о них в целом, – это то, что они точно отражают склонность Рузвельта к действиям, его тягу к экспериментам и восприимчивость ко всем видам инноваций. Рассматривать эту политику как результат единого плана, – писал позднее Моули, – «все равно что верить, что скопление чучел змей, бейсбольных картинок, школьных флагов, старых теннисных туфель, столярных инструментов, учебников геометрии и химических наборов в спальне мальчика мог поставить туда декоратор интерьера».[264]264
Moley, After Seven Years, 369–70.
[Закрыть]
И все же среди хаоса «Ста дней», а также во время напряженного противостояния в период междуцарствия, которое ему предшествовало, одна нить мелькала и голубела, как алая нить, пробившаяся сквозь парчу: инфляция. Рузвельт уже давно флиртовал с инфляцией как средством борьбы с депрессией. В начале апреля он назвал её «неизбежной».[265]265
Schlesinger 2:196.
[Закрыть] К июню он считал её положительно желательной.
Историческим ограничителем стремления нации к инфляции был золотой стандарт, при котором взвинченные цены привлекали импорт, который оплачивался поставками золота, что сокращало денежную базу, снижало цены и пресекало инфляционный цикл в зародыше. Именно стремительная сила и элегантная автоматичность золотого стандарта заставили Великобританию принять решение об отказе от золота в сентябре 1931 года. Столкнувшись с выбором: защищать обменную стоимость фунта стерлингов, оставаясь на золоте, или защищать внутренние цены на британские товары, Британия отказалась от золота. Хотя Рузвельт, похоже, не сразу понял, что к чему, Соединенные Штаты в 1933 году оказались перед точно таким же выбором.
На своей пресс-конференции 19 апреля Рузвельт заявил, что он «абсолютно» намерен вернуть Соединенные Штаты к золотому стандарту, и добавил, что «одна из вещей, которую мы надеемся сделать, – это вернуть весь мир к золотому стандарту в той или иной форме».[266]266
PPA (1933), 140.
[Закрыть] В ходе широко разрекламированных конференций с британским премьер-министром Рамсеем Макдональдом и французским премьером Эдуардом Эррио, состоявшихся позднее в том же месяце, он ещё больше создал впечатление, что Соединенные Штаты будут рассчитывать на предстоящую Всемирную экономическую конференцию для стабилизации международных валютных курсов и восстановления международного золотого стандарта. В ещё более пышно разрекламированном обращении к пятидесяти четырем главам государств 16 мая Рузвельт красноречиво призвал к «стабилизации валют».[267]267
PPA (1933), 186.
[Закрыть]
Поэтому мир был поражен, когда вскоре после созыва Всемирной экономической конференции Рузвельт сорвал её проведение своим печально известным «сообщением-бомбой» от 3 июля. Он грубо заявил делегатам, ожидавшим его слов в Лондоне, что Соединенные Штаты не будут участвовать в усилиях по стабилизации валютных курсов и не вернутся в обозримом будущем к золоту. Без участия Америки участники конференции мало что могли сделать, чтобы залатать раны в международной экономической системе. Рузвельта это, похоже, не волновало. У него на уме были другие, исключительно националистические, приоритеты. «На смену старым фетишам так называемых международных банкиров, – читал он лекцию лондонским делегатам, – приходят усилия по планированию национальных валют».[268]268
PPA (1933), 265.
[Закрыть] Послание Рузвельта не только разрушило Лондонскую конференцию. Оно также окончательно уничтожило любые дальнейшие перспективы международного сотрудничества в борьбе с глобальной депрессией. Среди тех наблюдателей лондонской конференции, которые извлекли урок из того, что Соединенные Штаты не намерены играть никакой значимой международной роли, был и Адольф Гитлер. Как и Япония в Маньчжурии, заключил Гитлер, Германия могла делать в Европе все, что хотела, не опасаясь американских репрессий. Здесь, за пять лет до печально известной капитуляции западноевропейских демократий в Мюнхене перед требованием Гитлера позволить ему поглотить часть Чехословакии, западные державы продемонстрировали, что у них мало сил для согласованных действий перед лицом опасности.
В попытках объяснить внезапное нападение Рузвельта на Лондонскую конференцию были израсходованы целые чаны чернил. Полная история богата театральностью и загадками. Она включает в себя назначение пестрой и комически противоречивой американской делегации, возглавляемой достойным, белокожим госсекретарем Корделлом Халлом, человеком с большими деньгами и ярым интернационалистом, и включающей в себя фанатика серебра и узкого протекциониста Ки Питтмана, председателя комитета по международным отношениям Сената, а в Лондоне – разгульного, безумного пьяницу, размахивающего ножом. В нём есть элементы безвкусной мелодрамы с участием умирающего министра финансов Вудина, который потерял сознание во время напряженной трансатлантической телефонной консультации. В ней есть трагическая история Раймонда Моули, которого возили на военном корабле и самолете на морские конференции с Рузвельтом, а он, пилотируя свой маленький парусник вдоль окутанного туманом побережья Новой Англии, якобы изучал передовые трактаты по монетарной теории, пока его лодка ночью качалась на якоре. После этих драматических встреч Моули был отправлен в Лондон, и за его продвижением через Атлантику нервно следила мировая пресса. Его якобы послали спасти конференцию, подтвердив веру Рузвельта в международное сотрудничество, но он резко и поразительно выбил почву из-под ног посланием Рузвельта, которое, верное протоколам трагедии, было в значительной степени основано на националистическом анализе депрессии, проведенном самим Моули. В ходе этого процесса Моули смертельно разозлил своего непосредственного начальника Корделла Халла, что ознаменовало начало конца его стремительной политической карьеры. Вскоре он был вынужден уйти с поста помощника госсекретаря и постепенно отдалился от «Нового курса», а иногда и едко критиковал Франклина Рузвельта.
Развязка в Лондоне наступила после бурного закрытия конференции на фоне обличений Рузвельта со всех сторон. Премьер-министр Рамзи Макдональд выразил «самую горькую обиду» на человека, который всего за несколько недель до этого лично заверил его в Вашингтоне, что выступает за стабилизацию. Британский журналист назвал Рузвельта «посмешищем» и проклял его послание как документ, который «навсегда останется в архивах как классический пример тщеславия, наглости и двусмысленности». Джон Мейнард Кейнс, британский экономист, занятый разработкой своих собственных революционных идей об управляемых валютах, был практически одинок в своих похвалах. Действия президента, писал он, были «великолепно правильными».[269]269
Schlesinger 2:195–232; Davis 3:182–98; Moley, After Seven Years: 196–269; Herbert Feis, 1933: Characters in Crisis (Boston: Little, Brown, 1966), 95–258.
[Закрыть]
Но не следует позволять, чтобы гистрионная театральность этого эпизода заслонила главную истину: основная логика программы восстановления Рузвельта была инфляционной и была таковой с самого начала. Инфляция и золотой стандарт были несовместимы. В этом смысле Всемирная экономическая конференция была обречена на провал ещё до своего созыва.
Сильное большинство в Конгрессе, особенно в Демократической партии самого Рузвельта, требовало инфляции. Загнанный в долги сельскохозяйственный сектор, занимавший центральное место в антидепрессивной стратегии Рузвельта и дорогой ему сентиментально, требовал инфляции. Программы NRA по фиксации цен и повышению заработной платы требовали инфляции. Инфляция облегчила бы обслуживание долгов, необходимых для оплаты федеральной помощи, не говоря уже о нежелательных долгах, которые навязала Рузвельту программа общественных работ PWA. Инфляция была необходима практически для всех частей программы президента в начале «Нового курса». Рузвельт на протяжении нескольких месяцев проявлял постоянный интерес к инфляционным идеям. А инфляция не могла быть достигнута, если Соединенные Штаты соглашались играть по жестким, антиинфляционным правилам режима золотого стандарта. Как бы Рузвельт ни верил своим собственным апрельским заявлениям о возвращении к золоту, неизбежная антизолотая логика его программы должна была в какой-то момент на него подействовать. К 3 июля 1933 года, если не раньше, это, несомненно, произошло. К тому времени шансов на то, что Рузвельт вернётся к золоту, было не больше, чем шансов на то, что он примет предложение Гувера сотрудничать по долговому вопросу в период междуцарствия, – и по той же причине. Как заявил Рузвельт в своей инаугурационной речи, он считал, что международные экономические обязательства Америки «вторичны по отношению к созданию здоровой национальной экономики». Эту же тему он озвучил в своём «бомбовом послании» 3 июля: «Прочная внутренняя экономическая система нации является более важным фактором её благосостояния, чем цена её валюты в пересчете на валюты других наций».[270]270
PPA (1933), 264–65.
[Закрыть]
Среди последствий, вытекавших из этой парадоксальной веры, был отказ Америки сыграть свою роль в сдерживании волны экономического национализма и злобного милитаризма, нацизма, фашизма и японской агрессии, которые были такими же продуктами глобальной депрессии, как хлебные столы Чикаго и гувернерские виллы Канзас-Сити. Несмотря на Кейнса, Рузвельт был здесь не просто «великолепно прав». Но на деле, если не на словах, начиная с его отказа от приглашения Гувера сотрудничать по вопросу международного долга и заканчивая его отказом от международного экономического сотрудничества в Лондоне, Рузвельт, что бы ещё ни говорили, был в отношении американской внешней политики великолепно последователен: он был на тот момент убежденным изоляционистом.
У РУЗВЕЛЬТА НЕ БЫЛО недостатка в доказательствах того, что мир становится все более опасным. В месяц его инаугурации Япония сожгла свои дипломатические мосты и уведомила о намерении выйти из Лиги Наций в 1935 году. Посол Рузвельта в Токио трезво сообщил президенту, что «этот шаг свидетельствует о полном превосходстве военных».[271]271
Freidel, Launching, 366–67.
[Закрыть] 27 февраля поджигатели подожгли здание германского рейхстага в Берлине. Гитлер воспользовался этим случаем, чтобы потребовать абсолютной диктаторской власти. Рейхстаг предоставил ему её 23 марта. Гитлер приступил к ликвидации федеративной системы Германии, сосредоточив всю политическую власть в своих руках в Берлине. Он распустил профсоюзы и сомкнул в кулак нацистский контроль над университетами и церквями. Студенты-нацисты жгли огромные костры с книгами, которые считали оскорбительными для фюрера. Нацистские толпы обрушились на евреев на улицах. 1 апреля нацистская партия объявила бойкот всем еврейским предприятиям в качестве предварительного условия для изгнания евреев из правительства, профессий и искусства.
Гитлер, признался Рузвельт французскому послу Полю Клоделю, был «безумцем». Он лично знаком с некоторыми советниками Гитлера, продолжил президент, и они «ещё более безумны, чем он».[272]272
Freidel, Launching, 377.
[Закрыть] По настоянию американских еврейских лидеров Рузвельт выразил своё беспокойство по поводу нацистского антисемитизма президенту Рейхсбанка Хьялмару Шахту, но безрезультатно. Шахт, как и многие другие посетители офиса Рузвельта, уходил со смутным впечатлением, что у любезного Рузвельта не было серьёзных разногласий с ним или с политикой, которую он представлял.
Затем, 16 мая, Рузвельт опубликовал свой «Призыв к народам мира за мир и прекращение экономического хаоса». Обращая внимание на проходящую в Женеве Конференцию по разоружению и предстоящую Всемирную экономическую конференцию в Лондоне, Рузвельт заявил, что «если какая-либо сильная нация откажется с подлинной искренностью присоединиться к этим согласованным усилиям по достижению политического и экономического мира, как в Женеве, так и в Лондоне, то прогресс может быть затруднен и в конечном итоге заблокирован. В этом случае цивилизованный мир, стремящийся к обеим формам мира, будет знать, на ком лежит ответственность за неудачу».[273]273
PPA, (1933), 187–88.
[Закрыть] Восхваляя речь Рузвельта на сайте, газета San Francisco Chronicle заявила: «Это конец изоляции, или это ничто».[274]274
Freidel, Launching, 404.
[Закрыть]
Это было ничто. В течение нескольких месяцев Гитлер торпедировал переговоры по разоружению в Женеве и начал создавать страшный нацистский вермахт. Рузвельт, насмехаясь над своими собственными словами от 16 мая, сорвал экономическую конференцию в Лондоне. Два форума, чьи повестки дня Гувер призывал Рузвельта соединить и которые сам Рузвельт так благочестиво превозносил как места приложения усилий к международному миру, по отдельности стояли молча. Тонкая, но правдоподобная возможность остановить погружение в хаос и кровопролитие, восстановить международное экономическое здоровье и поддержать политическую стабильность была упущена, и мир вполне мог спросить, на ком лежит ответственность.
В конце августа Д’Арси Осборн, поверенный в делах британского посольства в Вашингтоне, подвел итог своим впечатлениям от «Нового курса» для своего офиса. Первое «широко разрекламированное вступление Рузвельта в сферу внешней политики, – заметил он, – потерпело некоторое фиаско… Начиная с президента и далее непосредственный интерес и настроения страны сосредоточены на программе восстановления и её внутренних результатах, а это подразумевает националистическое вдохновение и ориентацию внешней политики… Ситуация здесь, похоже, делает изоляцию и национализм неизбежными».
Таким образом, мир все дальше скатывался по уродливой спирали экономического изоляционизма и военного перевооружения к окончательной катастрофе – глобальной войне. В 1933 году Рузвельт проявил не больше дальновидности, чем другие отчаянно защищающие себя националисты, а возможно, даже несколько меньше. Проливая кровь, Америка отказалась от своих международных обязательств. Кто может сказать, поднимется ли она на борьбу снова? Ошибочно полагая себя в безопасности за своими океанскими рвами, американцы приготовились в одиночку взяться за оружие в битве с Депрессией, вооружившись богатым оружием, созданным в Сто дней, и не в последнюю очередь инфляционными силами, для свободного применения которых крах в Лондоне расчистил путь. У них был находчивый, хотя и загадочный лидер. Возможно, именно он поможет им пережить кризис. «Но в целом, – заключил Д’Арси Осборн, – ситуация здесь настолько неисчислима, сам президент настолько меркантилен, а его политика настолько эмпирична, что все оценки и прогнозы опасны».[275]275
Freidel, Launching, 498.
[Закрыть]
6. Испытание американского народа
Я увидел своих старых друзей – мужчин, с которыми я учился в школе, – копающих канавы и прокладывающих канализационные трубы. Они были одеты в свои обычные деловые костюмы, потому что не могли позволить себе комбинезоны и резиновые сапоги. Если я когда-нибудь и думал: «Вот так, по милости Божьей…», то это было именно тогда.
– Фрэнк Уокер, президент Национального совета по чрезвычайным ситуациям, 1934 г.
«Что я хочу, чтобы вы сделали, – сказал Гарри Хопкинс Лорене Хикок в июле 1933 года, – так это объехать всю страну и всё изучить. Мне не нужна от вас статистика. Мне не нужны социальные работники. Мне просто нужна ваша собственная реакция, как обычного гражданина. Поговорите с проповедниками и учителями, бизнесменами, рабочими, фермерами. Поговорите с безработными, с теми, кто получает помощь, и с теми, кто её не получает. И когда вы будете говорить с ними, не забывайте, что, если бы не милость Божья, вы, я, любой из наших друзей могли бы оказаться на их месте. Расскажите мне о том, что вы видите и слышите. Все. Никогда не тяните с ответом».[276]276
Richard Lowitt and Maurine Beasley, eds., One Third of a Nation: Lorena Hickok Reports on the Great Depression (Urbana: University of Illinois Press, 1981), ix-x.
[Закрыть]
Депрессия длилась уже четвертый год. В кварталах и деревнях пострадавшей страны миллионы мужчин и женщин томились в угрюмом унынии и с осторожной надеждой смотрели на Вашингтон. Они все ещё пытались понять природу охватившего их бедствия. Через стол Хопкинса в только что созданном Федеральном управлении по чрезвычайным ситуациям текли реки данных, которые измеряли последствия Депрессии в холодных цифрах. Но Хопкинс хотел большего – прикоснуться к человеческому лицу катастрофы, ощутить во рту металлический привкус страха и голода безработных, как в 1912 году, когда он работал среди иммигрантской бедноты в нью-йоркском поселенческом доме «Кристадора». Привязанный к своему столу в Вашингтоне, он отправил вместо себя Лорену Хикок. В её лице он выбрал уникального по смелости и проницательности наблюдателя, на которого можно было положиться, если он видел без иллюзий и сообщал о происходящем с откровенностью, проницательностью и смекалкой.
Хопкинс и Хикок были отлиты из похожих форм. Оба были детьми Среднего Запада, которые расцвели в кишащем мегаполисе Нью-Йорка. Оба помнили своё суровое детство в прериях и не находили ничего романтичного – и, если уж на то пошло, ничего революционного – в суровых трудностях. Оба прятали мягкие сердца в скорлупе веселой язвительности. Хопкинс, сорока трех лет от роду в 1933 году, исхудавший и хронически нечесаный, был сыном ремесленника, надолго сохранившим приверженность к скаковым лошадям. Как и у тех, с кем он часто общался, у него был характерный запах адского колокола, который заставлял окружающих оценивать его как проницательного и зловещего. Однако в его характере чувствовалось сострадание, сдобренное пронзительным умом, который однажды заставил Уинстона Черчилля назвать его «Лордом Корнем Дела».[277]277
Robert E. Sherwood, Roosevelt and Hopkins (New York: Grosset and Dunlap, 1948, 1950), 1–5. См. также Schlesinger 2:266.
[Закрыть]
Хикок, которой в 1933 году исполнилось сорок лет, вырвалась из тяжелого детства на мрачных северных равнинах и стала, по её собственным неапологетичным словам, «едва ли не лучшей журналисткой в стране». Один из коллег однажды описал её как «наделенную огромным телом, красивыми ногами и персиковокремовым цветом лица». Рост пять футов восемь дюймов и вес почти двести фунтов, она была крупной, бурной, нестандартной и непочтительной. Она умела курить, пить, играть в покер и сквернословить не хуже любого из своих коллег-мужчин, а писать могла лучше большинства из них. Поработав автором статей в Милуоки и Миннеаполисе, она переехала в Нью-Йорк, где в 1928 году Ассошиэйтед Пресс поручило ей работу с жесткими новостями, что было необычно для женщины-журналиста. В 1932 году она освещала сенсационную историю о похищении ребёнка Линдберга. Позже в том же году она получила задание, которое изменило её жизнь: освещать президентскую кампанию Элеоноры Рузвельт.[278]278
Blanche Wiesen Cook, Eleanor Roosevelt: A Life, vol. 1, 1884–1933 (New York: Viking, 1992), 468.
[Закрыть]
Хикок не просто писала о своём новом объекте. Она привязалась к Элеоноре Рузвельт так, что в итоге нарушила правила журналистской объективности. Она начала согласовывать свои материалы с самой Элеонорой или с главным советником Франклина, Луисом Хоу. К концу кампании Хикок фактически перестала быть репортером и стала пресс-агентом Элеоноры, а также её глубоко интимной спутницей.[279]279
По некоторым данным, отношения между Элеонорой Рузвельт и Лореной Хикок даже преступали общепринятые нормы сексуальных приличий, хотя были ли их теплые интимные отношения физически завершены, остается только догадываться. См. Cook, Eleanor Roosevelt, и реплику Geoffrey Ward, «Outing Eleanor Roosevelt», New York Review of Books, September 24, 1992, 15.
[Закрыть]
В июне 1933 года Хикок уволилась из Ассошиэйтед Пресс, отправилась с Элеонорой в месячный отпуск на автомобиле по Новой Англии и восточной Канаде и приступила к выполнению своего нового задания от Хопкинса. Она стала брать интервью у простых людей и местных шишек, домохозяек и работяг, хлопковых лордов и шахтеров, официанток и работников мельниц, фермеров-арендаторов и администраторов по оказанию помощи. По ночам она пряталась в свободных гостиничных номерах и набрасывала свои впечатления на портативной печатной машинке. Вскоре её отчеты начали поступать в вашингтонский офис Хопкинса: в августе – из угольных районов Пенсильвании, Западной Вирджинии и Кентукки, в сентябре – из стоически страдающих деревень Новой Англии, в октябре – с пшеничных полей Северной Дакоты. Они продолжали поступать ещё почти два года – из хлопкового пояса Джорджии, Каролины, Алабамы и Техаса, а также с ранчо, из шахтерских поселков, фруктовых садов и сырых городов Дальнего Запада. Она видела опытным репортерским глазом и писала в приземленном, без дураков, стиле, который умудрялся быть одновременно несентиментально холодным и тепло сочувствующим. «Мистер Хопкинс сказал сегодня, – писала ей восхищенная Элеонора в декабре 1933 года, – что ваши репортажи станут лучшей историей Депрессии в последующие годы».[280]280
Eleanor Roosevelt to Lorena Hickok, December 7, 1933, цитируется по Lowitt and Beasley, One Third of a Nation, xxxiii.
[Закрыть]
Из графиков и таблиц, скопившихся на его столе ещё до того, как стали приходить письма Хикок, Хопкинс уже мог набросать мрачные очертания этой истории.[281]281
Большая часть последующих рассуждений о влиянии депрессии взята из Lester V. Chandler, America’s Greatest Depression, 1929–1941 (New York: Harper and Row, 1970); Anthony J. Badger, The New Deal: The Depression Years (New York: Farrar, Straus and Giroux, 1989); и Harry L. Hopkins, Spending to Save: The Complete Story of Relief (New York: Norton, 1936).
[Закрыть] Акционеры, подтверждали его цифры, наблюдали, как три четверти стоимости их активов просто испарились с 1929 года – колоссальный финансовый крах, который погубил не только пресловутых праздных богачей, но и бедствующие местные банки, с трудом заработанные пенсионные сбережения, а также фонды колледжей и университетов. Более пяти тысяч банкротств банков в период между крахом и спасательной операцией «Нового Курса» в марте 1933 года уничтожили около 7 миллиардов долларов денег вкладчиков. Ускоренное лишение права выкупа заложенного жилья – 150 000 домовладельцев потеряли свою собственность в 1930 году, 200 000 в 1931 году, 250 000 в 1932 году – одним махом лишило миллионы людей крова и сбережений и поставило под угрозу балансы тысяч уцелевших банков. Несколько штатов и около тринадцати сотен муниципалитетов, раздавленных падением цен на недвижимость и, соответственно, сокращением налоговых поступлений, объявили дефолт по своим обязательствам перед кредиторами, сократили свои и без того скудные социальные службы, сократили фонды заработной платы и урезали чеки. Чикаго был вынужден платить своим учителям в виде налоговых ордеров, а затем, зимой 1932–33 годов, не платить им вообще ничего.
Валовой национальный продукт к 1933 году упал вдвое по сравнению с уровнем 1929 года. Расходы на строительство новых заводов и оборудования практически остановились. В 1933 году предприятия инвестировали всего 3 миллиарда долларов по сравнению с 24 миллиардами долларов в 1929 году. Некоторые отрасли, конечно, были фактически защищены от депрессии; например, производители обуви и сигарет пережили лишь незначительный спад. Однако другие отрасли, зависящие от дискреционных расходов, практически вышли из бизнеса. В 1933 году с конвейеров сошло лишь на треть больше автомобилей, чем в 1929 году, и этот спад привел к соразмерному сокращению производства в других отраслях тяжелой промышленности. Производство чугуна и стали сократилось на 60 процентов по сравнению с уровнем, существовавшим до краха. Производители станков сократили выпуск продукции почти на две трети. Жилищное и промышленное строительство сократилось до менее чем одной пятой от объемов, существовавших до начала депрессии. Это сокращение охватило лесопилки, сталелитейные заводы и заводы по производству бытовой техники, лишив работы тысячи лесорубов, фрезеровщиков, листопрокатчиков, инженеров, архитекторов, плотников, сантехников, кровельщиков, штукатуров, маляров и электриков. В 1933 году по улицам каждого американского города текли безмолвные косяки безработных.
Нигде депрессия не ударила так жестоко, как в американской сельской местности. Доходы американских ферм упали с 6 миллиардов долларов в и без того скудном для фермеров 1929 году до 2 миллиардов долларов в 1932-м. Чистая выручка от урожая пшеницы в одном из округов Оклахомы снизилась с 1,2 миллиона долларов в 1931 году до всего лишь 7000 долларов в 1933-м. Жалкий доход на душу населения в Миссисипи, составлявший 239 долларов в 1929 году, упал до 117 долларов в 1933 году.
Безработица и её близкий спутник – снижение заработной платы – были самым очевидным и самым ранящим из всех последствий Депрессии. По данным правительства, в 1933 году 25 процентов рабочей силы, около тринадцати миллионов человек, включая почти четыреста тысяч женщин, бездействовали. Подавляющее большинство мужчин и многие из женщин были главами домохозяйств, единственными кормильцами своих семей.[282]282
В 1930 году почти четыре миллиона из примерно тридцати миллионов домохозяйств страны возглавляли женщины. См. James T. Patterson, America’s Struggle against Poverty, 1900–1980 (Cambridge: Harvard University Press, 1981), 29, and HSUS, 41.
[Закрыть] При всей распространенности беды её бремя распределялось неравномерно. Различия в поле, возрасте, расе, роде занятий и регионе сильно повлияли на влияние Депрессии на конкретных людей. Говоря словами Толстого, каждая несчастливая семья была несчастлива по-своему. Разные люди страдали и справлялись, а иногда и побеждали, в соответствии со своими особыми обстоятельствами.
Работающие женщины сначала теряли работу быстрее, чем мужчины, а затем быстрее возвращались в ряды рабочей силы. В первые годы депрессии многие работодатели, включая федеральное правительство, старались распределить имеющуюся у них работу между главами семейств. Это означало увольнение любой замужней женщины, которая считалась «второстепенным» работником в семье. Однако гендерная сегрегация в структуре занятости, которая уже была хорошо известна до Депрессии, также работала на пользу женщинам. Тяжелая промышленность страдала от жесточайшей безработицы, однако относительно небольшое число женщин топили домны на сталелитейных заводах, сверлили заклепки на сборочных линиях или махали молотками в строительном бизнесе. В то же время профессия учителя, в которой женщины были очень сконцентрированы и составляли значительное большинство работников, пострадала от снижения заработной платы, но потери рабочих мест были минимальными. К тому же экономические тенденции привели к тому, что новые рабочие места, появившиеся в 1930-е годы, такие как работа на телефонных коммутаторах и канцелярская работа, были особенно пригодны для женщин.
Больше всего от безработицы страдали самые уязвимые слои населения: молодые, пожилые, наименее образованные, неквалифицированные и особенно, как предстояло выяснить Хикок, сельские жители Америки. С особой силой она обрушилась на чернокожих, иммигрантов и американцев мексиканского происхождения. Рабочие моложе двадцати и старше шестидесяти лет почти в два раза чаще, чем другие, оказывались без работы. Исследования Хопкинса показали, что пятая часть всех людей, попавших в списки федеральной помощи, были чернокожими, что примерно вдвое превышало долю афроамериканцев в населении. Большинство из них проживали в сельских районах Юга.
Некоторые из безработных вообще не попадали в списки нуждающихся, потому что просто покидали страну. Тысячи иммигрантов покинули сказочную американскую землю обетованную и вернулись в свои страны. Около ста тысяч американских рабочих в 1931 году подали заявки на трудоустройство в, казалось бы, новую многообещающую страну – Советскую Россию.[283]283
Leuchtenburg, 28.
[Закрыть] Более четырехсот тысяч американцев мексиканского происхождения, многие из которых были гражданами США, вернулись в Мексику в 1930-х годах, некоторые добровольно, но многие против своей воли. Сотрудники иммиграционной службы в Санта-Барбаре, штат Калифорния, согнали мексиканских сельскохозяйственных рабочих в депо Southern Pacific, упаковали их в опломбированные крытые вагоны и бесцеремонно отправили на юг.[284]284
О мексикано-американцах см. Ronald Takaki, A Different Mirror (Boston: Little, Brown, 1993), 333–34; and Albert Camarillo, Chicanos in a Changing Society (Cambridge: Harvard University Press, 1979), 163.
[Закрыть]
По словам Хопкинса, типичный безработный городской рабочий, получающий помощь, «был белым мужчиной, тридцати восьми лет и главой семьи… Чаще всего он был неквалифицированным или полуквалифицированным рабочим в обрабатывающей или механической промышленности. У него было около десяти лет опыта в том, что он считал своей обычной профессией. Он не закончил начальную школу. В течение двух лет он не работал на любой работе в течение одного месяца или более, и не работал по своей обычной профессии более двух с половиной лет».[285]285
Hopkins, Spending to Save, 161.
[Закрыть] Хопкинс особенно подчеркивал проблемы пожилых людей, которые, по его мнению, «из-за трудностей, уныния и болезней, а также преклонного возраста впали в профессиональное забвение, от которого их никогда не спасет частная промышленность».[286]286
Hopkins, Spending to Save, 163.
[Закрыть] Это направление мысли, вызванное угрозой постоянной структурной безработицы в результате ускоряющихся технологических изменений и направленное на полное исключение якобы устаревающих пожилых работников из рынка труда и заработной платы, со временем привело к принятию эпохального Закона о социальном обеспечении 1935 года.








