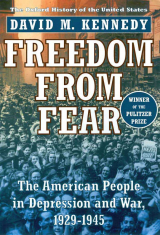
Текст книги "Свобода от страха. Американский народ в период депрессии и войны, 1929-1945 (ЛП)"
Автор книги: Дэвид М. Кеннеди
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 73 страниц)
Но хорошего мира не будет, только шаткое перемирие, за которым последует десятилетие депрессии, а затем ещё большая война. Когда глобальный экономический ураган 1930-х годов лишил Гувера власти и передал её Гитлеру и Рузвельту, Гувер знал источник бури: «Основной причиной Великой депрессии, – говорится в первом предложении его мемуаров, – была война 1914–1918 годов».[18]18
Herbert Hoover, The Memoirs of Herbert Hoover: The Great Depression, 1929–1941 (New York: Macmillan, 1952), 2.
[Закрыть]
1. Американский народ накануне Великой депрессии
Сегодня мы в Америке близки к окончательной победе над бедностью, как никогда ранее в истории любой страны.
– Герберт Гувер, 11 августа 1928 г.
Подобно землетрясению, крах фондового рынка в октябре 1929 года оглушительно прогремел по Соединенным Штатам, став предвестником кризиса, который должен был потрясти американский образ жизни до основания. События последующего десятилетия открыли трещину в американской истории, не менее зияющую, чем та, что была открыта залпом на Лексингтон Коммон в апреле 1775 года или бомбардировкой Самтера в другом апреле четыре часа и шесть лет спустя.
Стрекочущие тикеры[19]19
Тикерный аппарат (англ. ticker tape machine) – аппарат для передачи телеграфным либо телексным способом текущих котировок акций. – Прим. переводчика.
[Закрыть] осенью 1929 года не просто фиксировали стремительный рост цен на акции. Со временем они стали символизировать конец целой эпохи. Ревущая промышленная экспансия, бурно развивавшаяся после Гражданской войны, затихла на полпоколения. Бурные кризисы и реформы десяти лет депрессии значительно расширили и навсегда изменили скудное джефферсоновское правительство, председателем которого в 1928 году был избран Герберт Гувер. И ещё до того, как битва с Великой депрессией была выиграна, американскому народу пришлось взять в руки оружие в другой, ещё более страшной борьбе, которая окутала планету разрушениями и коренным образом изменила глобальную роль Америки.
Ничего из этой надвигающейся драмы не могла предвидеть группа ученых-социологов, собравшихся в Белом доме на ужин с президентом Гувером теплым, ранним осенним вечером 26 сентября 1929 года. Крах, до которого оставалось ещё четыре недели, был невообразимым и почти невообразимым. Почти три десятилетия едва заметного экономического роста, увенчавшиеся семью годами беспрецедентного процветания, придали настроению в комнате, как и во всей стране, атмосферу властной уверенности в будущем. Президент олицетворял собой национальный темперамент. Одетый, как всегда, в накрахмаленный воротничок и безупречный деловой костюм, он приветствовал гостей с жестким, двубортным достоинством. От него исходила лаконичная уверенность успешного руководителя. Он был, пожалуй, самым уважаемым человеком в Америке, человеком, который, по словам писателя Шервуда Андерсона, «никогда не знал неудач».[20]20
Joan Hoff Wilson, Herbert Hoover: Forgotten Progressive (Boston: Little, Brown, 1975), 121.
[Закрыть] Волна народного одобрения вознесла его в Белый дом всего шестью месяцами ранее, после знаменитой карьеры горного инженера, международного бизнесмена, администратора по оказанию помощи и продовольствию в Великой войне 1914–18 годов и исключительно влиятельного министра торговли в республиканских администрациях Уоррена Г. Хардинга и Калвина Кулиджа.
Гувер не был мшистым консерватором в духе Хардинга-Кулиджа, и люди, собравшиеся в столовой Белого дома, знали это. «Время, когда работодатель мог грубо управлять своим трудом, уходит вместе с доктриной „laissez-faire“, на которой она основана», – писал он ещё в 1909 году.[21]21
Herbert Hoover, Principles of Mining (New York: McGraw-Hill, 1909), 167–68.
[Закрыть] Давно симпатизируя прогрессивному крылу своей партии, Гувер, будучи министром торговли, не только поддерживал дело труда, но и призывал к более тесному сотрудничеству между бизнесом и правительством, установил государственный контроль над новой технологией радио и предложил создать многомиллиардный федеральный фонд общественных работ в качестве инструмента для преодоления спадов в деловом цикле. Став президентом, он не собирался быть пассивным хранителем. Он мечтал о том, чтобы прогрессивное поколение активно управляло социальными изменениями с помощью осознанных, но тщательно ограниченных действий правительства. «В нашей экономической жизни и в нашем положении среди народов мира наступила новая эра и появились новые силы», – сказал он, принимая республиканскую президентскую номинацию в 1928 году. «Эти силы требуют от нас постоянного изучения и усилий, если мы хотим сохранить процветание, мир и довольство».[22]22
Herbert Hoover, The Memoirs of Herbert Hoover: The Cabinet and the Presidency, 1920–1933 (New York: Macmillan, 1952), 195.
[Закрыть]
Организация этого исследования стала повесткой дня обеденной встречи. Небольшое собрание вокруг обеденного стола президента в некотором смысле символизировало основную прогрессивную веру в знание как слугу власти. Гувер намеревался овладеть знаниями и с их помощью ответственно править. После того как методично допрашивал каждого из своих гостей за чашками кофе, пока убирали со стола, Гувер объяснил свой амбициозный проект. По его словам, он собирался привлечь лучшие мозги в стране, чтобы составить свод данных и аналитических материалов об американском обществе, который был бы более полным, более поисковым и более полезным, чем все, что когда-либо делалось ранее. Их выводы, продолжал он, послужат «основой для формулирования крупной национальной политики, направленной на следующий этап развития нации».[23]23
Исследовательский комитет президента по социальным тенденциям, Recent Social Trends in the United States (Westport, Conn.: Greenwood, 1970), 1: xi; French Strother, memorandum of June 26, 1934, E. H. Hunt Collection, box 23, «Memoranda», Hoover Institution Archives, Stanford, Calif. См. также Barry Karl, «Presidential Planning and Social Science Research: Mr. Hoover’s Experts», Perspectives in American History 3:347–409.
[Закрыть]
Потрясения на финансовых рынках в следующем месяце и их последствия сделали ироничным уверенное ожидание Гувером «следующего этапа в развитии нации». Подчеркивая иронию, Гувер в конце концов отказался от исследования, которое он так уверенно заказал в тот вечер бабьего лета. За четыре года, прошедшие с момента его разработки до публикации – четыре года президентства Герберта Гувера, – мир изменился навсегда. Среди жертв этой бурной мутации оказался и исследовательский проект Гувера, и надежда на упорядоченное управление будущим, которую он представлял, – не говоря уже о его собственной репутации. Массивный дредноут учености, страницы которого были испещрены сносками, в 1933 году был наконец спущен на воду в Саргассовом море президентского и общественного безразличия.
Бесполезная для Гувера в 1933 году, работа ученых, тем не менее, с тех пор предоставляет историкам несравненно богатый источник информации о преддепрессивном периоде. Под названием «Последние социальные тенденции» он насчитывал около пятнадцатисот страниц, плотно заполненных данными обо всех аспектах американской жизни. От перечня полезных ископаемых до анализа преступлений и наказаний, искусства, здоровья и медицинской практики, положения женщин, чернокожих и этнических меньшинств, изменения характеристик рабочей силы, влияния новых технологий на производительность и досуг, а также роли федеральных, государственных и местных органов власти. Из её тягучей прозы и бесконечных таблиц вырисовывается яркий портрет народа, находящегося в муках масштабных социальных, экономических и политических перемен, ещё до того, как его поглотили ещё более разрушительные изменения эпохи депрессии.
В обращении президента Гувера к ученым, собравшимся на этом обнадеживающем ужине, была зафиксирована его приверженность тому, что Уолтер Липпманн в 1914 году на сайте назвал не дрейфом, а мастерством в делах нации, и правительству как инструменту этого мастерства.[24]24
Walter Lippmann, Drift and Mastery (New York: Mitchell Kennerley, 1914).
[Закрыть] Речь Гувера за столом перед социологами также точно отразила их общее ощущение – как и ощущение большинства американцев в предкризисном 1929 году – что они живут в стране и времени особых обещаний. «Новая эра», – назвал её Гувер, – которая стала свидетелем захватывающих дух преобразований в традиционном образе жизни и потребовала соответствующих преобразований в институтах и методах управления.
Ощущение того, что мы переживаем новый исторический момент, пронизывало комментарии об американском обществе 1920-х годов. Даже трезвые академические авторы «Последних социальных тенденций» удивлялись социальным и экономическим силам, которые «с головокружительной быстротой унесли нас от дней фронтира в вихрь модернизма, в который почти невозможно поверить».[25]25
Recent Social Trends 1:xii.
[Закрыть] То же чувство изумления пронизывало страницы самого известного социологического исследования десятилетия – книги Роберта и Хелен Меррелл Линд «Миддлтаун», составленной на основе всестороннего изучения города Манси, штат Индиана, в 1925 году. Отталкиваясь от исходного уровня 1890 года, Линды обнаружили радикальные изменения во всех мыслимых аспектах жизни жителей Миддлтауна. «Сегодня, – заключили они, – мы, вероятно, живём в одну из эпох самых стремительных перемен в истории человеческих институтов».[26]26
Robert S. Lynd and Helen Merrell Lynd, Middletown: A Study in Modern American Culture (New York: Harcourt, Brace and World, 1929), 5.
[Закрыть]
Список изменений, произошедших в поколении с конца девятнадцатого века, кажется бесконечно удивительным. Книга «Последние социальные тенденции» начинается с краткого перечисления некоторых «эпохальных событий», которыми была наполнена первая треть двадцатого века: Великая война, массовая иммиграция, расовые бунты, стремительная урбанизация, подъем гигантских промышленных концернов, таких как U.S. Steel, Ford и General Motors, новые технологии, такие как электроэнергия, автомобили, радио и кино, новые социальные эксперименты, такие как запрет, смелые кампании за контроль рождаемости, новая откровенность в вопросах секса, избирательное право женщин, появление массовой рекламы и потребительского финансирования. «Это, – заявляют исследователи, – лишь некоторые из многочисленных событий, которыми отмечен один из самых насыщенных периодов нашей истории».[27]27
Recent Social Trends 1:xi.
[Закрыть]
МАСШТАБЫ Америки 1920-х годов впечатляли, а её разнообразие просто поражало. Население страны почти удвоилось с 1890 года, когда оно насчитывало всего шестьдесят три миллиона душ. По крайней мере треть этого прироста была вызвана огромным потоком иммигрантов. Большинство из них приехали в Америку из религиозно и культурно экзотических регионов Южной и Восточной Европы. Через большой зал центра приёма иммигрантов на нью-йоркском острове Эллис, открытого в 1892 году, в течение следующих трех десятилетий прошли почти четыре миллиона итальянских католиков; полмиллиона православных греков; полмиллиона католических венгров; почти полтора миллиона католических поляков; более двух миллионов евреев, в основном из контролируемых Россией Польши, Украины и Литвы; полмиллиона словаков, в основном католиков; миллионы других восточных славян из Белоруссии, Рутении и России, в основном православных; ещё миллионы южных славян, смесь католиков, православных, мусульман и евреев, из Румынии, Хорватии, Сербии, Болгарии и Черногории.
Волна прибывших после начала века была настолько огромной, что из 123 миллионов американцев, зарегистрированных в переписи 1930 года, каждый десятый был рожден за границей, а ещё 20 процентов имели хотя бы одного родителя, родившегося за границей.[28]28
Thomas J. Archdeacon, Becoming American: An Ethnic History (New York: Free Press, 1983), 112–42.
[Закрыть]
Иммигранты селились во всех регионах, хотя на Юге их было мало, а в разросшейся промышленной зоне Северо-Востока – много. В подавляющем большинстве случаев их тянуло не на землю, а на фабрики и в доходные дома больших городов. Они превратили городскую Америку в своего рода полиглотский архипелаг в преимущественно англо-протестантском американском море. Почти треть из 2,7 миллиона жителей Чикаго в 1920-х годах были иностранцами; более миллиона были католиками, а ещё 125 000 – евреями. Жители Нью-Йорка говорили на тридцати семи разных языках, и только каждый шестой ходил в протестантскую церковь.[29]29
Harvey Green, The Uncertainty of Everyday Life (New York: HarperCollins, 1992), 5.
[Закрыть]
Повсюду иммигрантские общины объединялись в этнические анклавы, где они стремились, не всегда последовательно, как сохранить своё культурное наследие старого мира, так и стать американцами. Они были чужаками в чужой стране, неловко зависшими между миром, который они оставили позади, и миром, в котором они ещё не были полностью дома. Естественно, они искали друг в друге уверенности и силы. Еврейские гетто, Маленькие Италии и Маленькие Польши, укоренившиеся в американских городах, стали целыми мирами. Иммигранты читали газеты и слушали радиопередачи на своих родных языках. Они делали покупки в магазинах, обслуживались в банках и имели дело со страховыми компаниями, которые обслуживали исключительно их этническую группу. Они читали молитвы в синагогах или, если они были католиками, часто в «национальных» церквях, где проповеди читались на языке старого мира. Они обучали своих детей в приходских школах и хоронили своих умерших с помощью этнических похоронных обществ. Они вступали в братские организации, чтобы сохранить старые традиции, и платили взносы в общества взаимопомощи, которые могли помочь в трудные времена.
Времена часто были тяжелыми. Оказавшись на задворках американской жизни, иммигранты довольствовались тем, что могли найти, – как правило, низкоквалифицированной работой в тяжелой промышленности, швейном производстве или строительстве. Изолированные друг от друга по языку, религии, источникам средств к существованию и соседям, они практически не могли общаться друг с другом и не имели права голоса в обществе. Их жизнь была настолько нестабильна, что многие из них бросили все и вернулись домой. Почти треть поляков, словаков и хорватов вернулись в Европу; почти половина итальянцев; более половины греков, русских, румын и болгар.[30]30
Archdeacon, Becoming American, 118–19, 139.
[Закрыть] Американцы старой закалки продолжали считать иностранцев, оставшихся в их среде, чужими и угрожающими. Многие иммигранты задавались вопросом, не является ли сказочное обещание американской жизни бродячей и, возможно, несбыточной мечтой.
Наплыв новоприбывших, ярко отличавшихся от прежних мигрантов по вероисповеданию, языкам и привычкам, вызвал сильное беспокойство по поводу способности американского общества принять их. Некоторые из этих опасений нашли своё яростное выражение в возрожденном Ку-клукс-клане, возродившемся во всей своей атрибутике эпохи Реконструкции в Стоун-Маунтин, штат Джорджия, в 1915 году. Ночные всадники Клана теперь ездили на машинах, а не на лошадях, и направляли свой яд как на евреев-иммигрантов и католиков, так и на чернокожих. Но новый Клан не меньше, чем старый, представлял собой специфически американскую реакцию на культурные потрясения. К началу 1920-х годов Клан насчитывал около пяти миллионов членов, и некоторое время он доминировал в политике Индианы и Орегона. Нативистские настроения, которые помогал взращивать Клан, нашли своё законное выражение в 1924 году, когда Конгресс перекрыл поток иммигрантов, завершив эпоху практически неограниченного въезда в Соединенные Штаты. Этнические кварталы, выросшие в предыдущем поколении, больше не могли расти за счет дальнейшего притока из-за границы. Многочисленные этнические общины Америки теперь начали стабилизироваться. Миллионы иммигрантов ждали того дня, когда они смогут наконец стать американцами. С крестьянских наделов в бассейнах Волги и Вислы, с грубых пастбищ высоко в Карпатах и Апеннинах, а также с хлопкового Юга и кукурузного пояса Среднего Запада новые и старые американцы устремились в пульсирующие промышленные центры северо-восточного квадранта США. Регион расселения, определяемый как «фронтир», официально закрылся в 1890 году. К 1920 году, впервые за всю историю страны, большинство американцев стали городскими жителями. В последующее десятилетие ещё около шести миллионов американских фермеров покинули землю и перебрались в город.
Однако урбанизация Америки начала XX века может быть преувеличена. В 1920-е годы более чем каждый пятый работающий американец по-прежнему трудился на земле. В 1930 году сорок четыре процента населения все ещё считалось сельским. Более половины штатов Союза оставались преимущественно сельскими по населению, экономике, политическому представительству и образу жизни.
Во многих отношениях деревенский уклад жизни остался нетронутым современностью. Пятьдесят миллионов американцев, проживавших в местах, которые Ф. Скотт Фицджеральд назвал «огромной безвестностью за городом», все ещё двигались между рождением и смертью в соответствии с древними ритмами солнца и времени года. В 1930 году более сорока пяти миллионов из них не имели водопровода в помещениях, и почти ни у кого не было электричества. Они облегчались в горшках и уличных уборных, готовили и обогревались в дровяных печах и освещали свои закопченные дома масляными лампами. В бездорожных горах Озарк мать будущего губернатора Арканзаса Орвала Фаубуса не могла постирать семейное белье, пока не сварила кишки только что зарезанного борова, чтобы сделать щелочное мыло. В изолированном техасском Хилл Кантри мать будущего президента Линдона Джонсона росла с сутулыми плечами, таская ведра с водой от колодца до кухни. Как и для большей части человечества на протяжении всей человеческой памяти, закат обычно накрывал плащом темноты и тишины ту необъятную область, где под покровом ночи простирались поля республики. Ещё одна жительница Техасского холма вспоминала, как в детстве ей было страшно ходить в туалет после наступления темноты: «У меня был ужасный выбор: либо сидеть в темноте и не знать, что по мне ползает, либо брать с собой фонарь и привлекать мотыльков, комаров, ночных ястребов и летучих мышей».[31]31
Robert A. Caro, The Years of Lyndon Johnson: The Path to Power (New York: Knopf, 1982), 513.
[Закрыть]
Увеличивающийся разрыв между сельской и городской жизнью способствовал популистской агитации конца XIX века и побудил Теодора Рузвельта () назначить Комиссию по сельской жизни в 1908 году. К 1920-м годам упрямая сельскохозяйственная депрессия, ставшая результатом войны и технологических изменений, серьёзно усугубила проблемы сельской местности. Когда в августе 1914 года пушки возвестили о начале боевых действий в Европе, американские фермеры бросились наперегонки поставлять продовольствие на перегруженные мировые рынки. Они распахивали малоплодородные земли и повышали урожайность со всех площадей за счет более интенсивного земледелия, чему особенно способствовало появление трактора с бензиновым двигателем. За годы войны количество моторизованных сельскохозяйственных машин увеличилось в пять раз и составило около восьмидесяти пяти тысяч. С возвращением мира эта тенденция усилилась. К концу 1920-х годов около миллиона фермеров трудились на самоходных тракторах. А поскольку тракторы заменили лошадей и мулов, около девяти миллионов рабочих животных были уничтожены, освободив ещё тридцать миллионов акров пастбищ для посадки пшеницы или хлопка или для выпаса молочного скота.[32]32
HSUS, 469; Recent Social Trends 1:105.
[Закрыть]
Однако после перемирия, заключенного в ноябре 1918 года, мировое сельскохозяйственное производство вернулось к привычным довоенным показателям. Американские фермеры оказались с огромными излишками на руках. Цены резко упали. Хлопок упал с максимума военного времени в тридцать пять центов за фунт до шестнадцати центов в 1920 году. Кукуруза упала с 1,50 доллара за бушель до пятидесяти двух центов. Шерсть подешевела с почти шестидесяти центов за фунт до менее чем двадцати центов. Хотя после 1921 года цены несколько улучшились, они полностью восстановились только после возобновления войны в 1939 году. Фермеры задыхались под горами излишков и под тяжестью долгов, которые они взяли на себя для расширения производства и механизации. Участились случаи лишения права выкупа, и все больше владельцев свободных земель становились арендаторами. Депопуляция сельской местности происходила все быстрее.
В 1920-х годах Конгресс неоднократно пытался найти средство для решения проблем фермеров. Поскольку сельскохозяйственная депрессия продолжалась на протяжении всего десятилетия, федеральное правительство взяло на себя контроль над товарными рынками и в итоге создало скромное по финансированию федеральное агентство для обеспечения финансирования сельскохозяйственных кооперативов. Конгресс дважды принимал, а президент Кулидж дважды накладывал вето на законопроект Макнари-Хаугена. В нём предлагалось, чтобы федеральное правительство стало покупателем последней инстанции излишков сельскохозяйственной продукции, которые оно должно было затем утилизировать или «сбрасывать» на зарубежные рынки.
Герберту Гуверу не нужно было проводить всестороннее исследование, чтобы понять, что проблема фермерства не терпит отлагательств. Практически первым его действием на посту президента, ещё до того, как он заказал своё масштабное исследование последних социальных тенденций, стал созыв специальной сессии Конгресса для разрешения фермерского кризиса. В результате был принят Закон о сельскохозяйственном маркетинге 1929 года, который создал несколько спонсируемых правительством «стабилизационных корпораций», уполномоченных покупать излишки и удерживать их на рынке, чтобы поддерживать уровень цен. Но когда сельскохозяйственная депрессия 1920-х годов переросла в общую депрессию 1930-х, корпорации быстро исчерпали и свои складские мощности, и свои средства. Страдания сельских жителей Америки не знали облегчения. Когда началось десятилетие Великой депрессии, фермеры, и без того неважно себя чувствующие, стали её самыми тяжелыми жертвами.
ЮГ В 1920–Х годах был самым сельским регионом страны. В 1920 году ни один южный штат не соответствовал скромному определению «городского», данному суперинтендантом переписи населения, – большинство населения проживало в городах с населением двадцать пятьсот и более душ. От Потомака до Персидского залива земля выглядела мало чем отличающейся от той, что была в конце Реконструкции в 1870-х годах. Обитатели региона с дефицитом капитала и изобилием рабочей силы, южане сажали и собирали свои традиционные культуры хлопка, табака, риса или сахарного тростника с помощью мулов и мускулов, как это делали их предки на протяжении многих поколений. И, как и их предки, они истекали кровью не только от лезвия хронической сельскохозяйственной депрессии, но и от уникально американской расовой колючки.[33]33
Jack Temple Kirby, Rural Worlds Lost: The American South, 1920–1960 (Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1987), 49.
[Закрыть]
Великая война вытащила около полумиллиона чернокожих из сельских районов Юга на фабрики Севера. После того как в 1924 году иммиграция была ограничена, северной промышленности потребовалось найти новые источники свежей рабочей силы. Южные чернокожие (а также около полумиллиона мексиканцев, которые были освобождены от новых иммиграционных квот) воспользовались этой возможностью. К концу 1920-х годов ещё один миллион афроамериканцев покинул старые рабовладельческие штаты, чтобы найти работу на северо-востоке и верхнем Среднем Западе (к западу от Скалистых гор проживало всего около ста тысяч чернокожих). Там они находили работу в металлообрабатывающих цехах, на автомобильных заводах и в упаковочных цехах. Политические последствия этой миграции были наглядно продемонстрированы в 1928 году, когда олдермен Чикаго Оскар де Прист, республиканец, верный партии Великого эмансипатора, стал первым чернокожим, избранным в Конгресс со времен Реконструкции, и первым в истории представителем северного округа.
Однако уже в 1930 году более четырех из пяти американских чернокожих по-прежнему жили на Юге. Там они мучительно пробирались через то, что историк К. Ванн Вудворд назвал «антропологическим музеем южного фольклора», который история знает как систему Джима Кроу. Несмотря на свою древность и гротескно обременительный характер, эта система глубоко укоренилась в жизни южан. Действительно, как отмечает Вудворд, она «достигла своего совершенства в 1930-е годы».[34]34
C. Vann Woodward, Thinking Back: The Perils of Writing History (Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1986), 87.
[Закрыть]
«Джим Кроу» означал, прежде всего, что чернокожие не могли голосовать. Они были почти повсеместно лишены избирательных прав на Юге в десятилетия после Реконструкции. В одиннадцати штатах бывшей Конфедерации в 1940 году было зарегистрировано менее 5% афроамериканцев, имеющих право голоса.[35]35
Nancy J. Weiss, Farewell to the Party of Lincoln: Black Politics in the Age of FDR (Princeton: Princeton University Press, 1983), 21.
[Закрыть] «Джим Кроу» также означал социальную и экономическую сегрегацию. Чернокожие сидели в отдельных залах ожидания на железнодорожных и автобусных станциях, пили из отдельных питьевых фонтанчиков, ходили в отдельные церкви и посещали строго разделенные и чудовищно неполноценные школы. Немногочисленные промышленные рабочие места на Юге были для них практически недоступны. Таким образом, южные чернокожие представляли собой крайний случай сельской бедности в регионе, который сам по себе был особым случаем экономической отсталости и изолированности от современной жизни. Социологи Гувера обнаружили, что в 1930 году уровень младенческой смертности среди чернокожих был почти вдвое выше, чем среди белых (10% и 6% соответственно), а средняя продолжительность жизни чернокожих была на пятнадцать лет короче, чем у белых (сорок пять лет против шестидесяти). Афроамериканцы на Юге были привязаны к земле долгами, невежеством и запугиванием так же прочно, как и самим рабством. Что касается белых жителей Юга, то, как заявил в 1928 году выдающийся южный историк Ульрих Б. Филлипс, их «объединяла неизменная решимость – быть и оставаться страной белых людей».[36]36
Recent Social Trends 1:584; Ulrich B. Phillips, «The Central Theme of Southern History», American Historical Review 34 (1928)31.
[Закрыть]
ДЛЯ БЕЛЫХ АМЕРИКАНЦЕВ, живущих в городе, чернокожие были почти невидимы, а жалобы фермеров казались далёкой досадой, смехом необученных сенокосов, мимо которых прошла современность. Городские утонченные люди одобрительно хмыкали, когда Г. Л. Менкен называл Юг «Сахарой Бозарта». Они понимающе кивали, когда Синклер Льюис в таких книгах, как «Главная улица» (1920) и «Бэббит» (1922), сатирически изображал те самые маленькие городки Среднего Запада, из которых многие из них бежали в метрополию. Они одобрительно закудахтали, когда Льюис в «Элмере Гентри» (1927) разоблачил безвкусное лицемерие фундаменталистских верований сельской Америки. Они ухмылялись библейскому буквализму «йокелов», которые в 1925 году съехались с холмов восточного Теннесси, чтобы поглазеть на суд над Джоном Т. Скоупсом, обвиненным в нарушении закона штата Теннесси путем преподавания дарвиновской эволюции школьникам. Они удовлетворенно улыбались, когда ловкий чикагский адвокат Кларенс Дэрроу в ходе этого процесса унизил исторического паладина сельской Америки Уильяма Дженнингса Брайана.
Убийство Брайана для многих символизировало затмение сельского фундаментализма и триумфальное восхождение метрополии как источника и арбитра современных американских ценностей. Новые национальные журналы, такие как Time, впервые опубликованный в 1923 году, Mencken’s American Mercury в 1924 году, и New Yorker, первый номер которого вышел в 1925 году, ориентировались на «икорных софистов» и свидетельствовали о новой культурной мощи больших городских центров. Городская Америка была уверена, что город, подобно Чикаго Дэрроу и Карла Сэндбурга, «бурный, хриплый, драчливый… гордый тем, что он мясник, производитель инструментов, укладчик пшеницы, игрок на железной дороге и грузоперевозчик нации», – это тот широкоплечий хозяин, которому сельская Америка должна отдавать дань уважения.
Но для вдумчивых наблюдателей и политиков контраст между сельской и городской жизнью не был поводом ни для смеха, ни для поэзии. Их навязчиво беспокоил «баланс» между сельской и городской Америкой, который журнал Recent Social Trends назвал «центральной проблемой» экономики. Политики бесконечно искали пути её решения.[37]37
Recent Social Trends 1:xxxi.
[Закрыть]
Экономическое неравенство между сельскохозяйственным и промышленным секторами было огромным. С начала века обе сферы экономики росли, но городской производственный сектор развивался гораздо активнее. Если в 1930 году американские фермеры производили на рынок примерно на 50 процентов больше продукции, чем в 1900 году, то объем производства в обрабатывающей промышленности за тот же период удвоился и ещё раз удвоился, в четыре раза превысив прежний уровень. Фабричные рабочие добились поразительного повышения производительности почти на 50 процентов, в основном благодаря более эффективным способам организации производства и революционному внедрению в цеха машин с электрическим приводом. В 1929 году 70 процентов американской промышленности работало на электричестве, в основном от электростанций, работающих на нефти, добываемой на новых месторождениях в Техасе, Оклахоме и Калифорнии. К 1925 году полностью собранная модель T Ford сходила с непрерывно движущегося сборочного конвейера на заводе Генри Форда в Хайленд-Парке каждые десять секунд. Всего дюжиной лет ранее на сборку одного автомобиля уходило четырнадцать часов.[38]38
William E. Leuchtenburg, The Perils of Prosperity (Chicago: University of Chicago Press, 1958), 179.
[Закрыть]
Сокращение экспортных рынков, а также снижение темпов роста американского населения после закрытия иммиграции привели к стабильному или даже снижающемуся спросу на американскую сельскохозяйственную продукцию. Однако способность американцев покупать все больше промышленных товаров казалась безграничной, что наглядно продемонстрировала автомобильная революция. В начале века автомобильная промышленность была по сути кустарным производством, а спустя два десятилетия на неё приходилось 10 процентов доходов страны, и в ней было занято около четырех миллионов рабочих. В 1900 году автомобиль был игрушкой богачей, которые приобрели около четырех тысяч машин. К 1929 году простые американцы управляли более чем двадцатью шестью миллионами автомобилей, по одному на каждые пять человек в стране. Только в этом году они купили почти пять миллионов автомобилей, и платили за них гораздо меньше, чем поколением ранее.
Потрясающей демонстрацией плодотворного союза инновационных технологий и массовых рынков стало резкое падение эффективной цены на автомобиль с начала века. Автомобиль, который до Первой мировой войны обходился среднему рабочему в сумму, эквивалентную почти двухлетней зарплате, к концу 1920-х годов можно было приобрести примерно за три месячных заработка. Эта стратегия маркетинга по низким ценам и в больших объемах была одним из чудес массового производства – или «фордизма», как его иногда называют в честь его самого известного пионера. Будучи в значительной степени американским изобретением, техника массового производства стандартизированных продуктов была в некотором смысле американской неизбежностью, как в своё время революция в бытовой электронике: средством использования экономического потенциала демократического общества, богатство которого было почти так же широко распространено, как и его официальная политическая власть.
Однако даже у этой сказочно успешной стратегии были свои пределы. Массовое производство сделало массовое потребление необходимостью. Но, как выяснили следователи Гувера, растущее богатство 1920-х годов в непропорционально большой степени перетекало к владельцам капитала. Доходы рабочих росли, но не такими темпами, чтобы поспевать за ростом промышленного производства страны. Без широкого распределения покупательной способности двигатели массового производства не имели бы выхода и в конечном итоге простаивали. Автомобильная промышленность, где зародился фордизм, одной из первых ощутила силу этой логики. Представитель корпорации General Motors в 1926 году признал,
что хотя в прошлом отрасль развивалась необычайно быстрыми темпами, сейчас её объем достиг таких масштабов, что вряд ли можно рассчитывать на ежегодный рост. Скорее, ожидается здоровый рост в соответствии с увеличением численности населения и богатства страны, а также развитием экспортного рынка.[39]39
Albert Bradley, «Setting Up a Forecasting Program», Annual Convention Series, American Management Association, no. 41 (March 1926), цитируется по Alfred D. Chandler Jr., Giant Enterprise: Ford, General Motors, and the Automobile Industry (New York: Harcourt, Brace and World, 1964), 132.
[Закрыть]
Это было одно из первых признаний того, что даже такая молодая отрасль, как автомобилестроение, может быстро достичь «зрелости». Автопроизводители, очевидно, насытили имеющиеся внутренние рынки. Внедрение потребительского кредита, или «покупки в рассрочку», пионером которого стала компания General Motors в 1919 году, создав корпорацию General Motors Acceptance Corporation, представляло собой одну из попыток ещё больше расширить эти рынки, избавив покупателей от необходимости платить за автомобили наличными в момент продажи. Взрывной рост рекламы, которая до 1920-х годов была младенческой отраслью, стал ещё одним признаком опасений, что пределы «естественного» спроса достигнуты. Только компания General Motors в 1920-е годы ежегодно тратила на рекламу около 20 миллионов долларов, пытаясь взрастить желания потребителей, которые выходили за рамки их потребностей. Вместе кредит и реклама какое-то время поддерживали продажи автомобилей, но без новых зарубежных рынков сбыта или значительного перераспределения покупательной способности внутри страны – особенно в пользу обедневшей сельской половины страны – границы потребительского спроса, очевидно, приближались.








