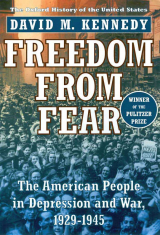
Текст книги "Свобода от страха. Американский народ в период депрессии и войны, 1929-1945 (ЛП)"
Автор книги: Дэвид М. Кеннеди
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 73 страниц)
3. Испытание Герберта Гувера
Гувер будет известен как величайший невинный свидетель в истории… храбрый человек, доблестно сражавшийся, но тщетно, до конца.
– Уильям Аллен Уайт, 1932 г.
Уже в декабре 1930 года Гувер заявил, что «основные силы депрессии сейчас находятся за пределами Соединенных Штатов». Возможно, в тот момент его заявление было слишком самозащитным и преждевременным, но вскоре события придали словам президента леденящий душу оттенок пророчества, поскольку ударные волны от разрушающейся международной экономической системы обрушились на Соединенные Штаты со смертельной силой. До начала 1931 года, середины своего президентского срока, Гувер был агрессивным и уверенным в себе бойцом, ведущим активное наступление на экономические кризисы. Теперь же международные события безжалостно заставили его вернуться в оборону. Его главными целями стали контроль за ущербом и даже самосохранение национальной экономики. В конце 1931 года он резко заявляет: «Сейчас перед нами стоит проблема не спасения Германии или Британии, а спасения самих себя».[125]125
Herbert Hoover, The Memoirs of Herbert Hoover: The Great Depression, 1929–1941 (New York: Macmillan, 1952) 59, 90.
[Закрыть]
С весны 1931 года это стало постоянной темой Гувера: глубочайшие источники бедствия находятся за пределами Америки. С этого времени также стало ясно, что эта депрессия – не просто очередная циклическая долина, а исторический водораздел, нечто гораздо большее по масштабам и более грозное по своим последствиям, чем все, что было до неё. Беспрецедентное событие, оно должно иметь экстраординарные причины. Гувер нашел их в самом судьбоносном эпизоде столетия. Именно сейчас он начал развивать тезис, с которого начал свои «Мемуары»: «По большому счету главной причиной Великой депрессии была война 1914–1918 годов».[126]126
Hoover, Memoirs: The Great Depression, 2.
[Закрыть]
Весной 1931 года, объяснял Гувер, «как раз в тот момент, когда мы начали питать вполне обоснованные надежды, что находимся на пути к выходу из депрессии, наши скрытые страхи перед Европой реализовались в гигантском взрыве, потрясшем основы мировой экономической, политической и социальной структуры. В конце концов злые силы, вызванные экономическими последствиями войны, Версальским договором, послевоенными военными союзами с удвоенным довоенным вооружением, бешеными программами общественных работ по борьбе с безработицей, несбалансированными бюджетами и инфляцией, – все это разорвало системы на части».[127]127
Hoover, Memoirs: The Great Depression, 61.
[Закрыть]
История подтверждает эту точку зрения. Война действительно подготовила почву для катастрофы, и не в последнюю очередь благодаря тому, что репарационные выплаты подкосили экономику Германии, ослабив тем самым европейскую экономику в целом и, не случайно, подготовив почву для прихода к власти Адольфа Гитлера. Зловещие силы, о которых говорил Гувер, появились на этой сцене в сентябре 1930 года, когда нацистская партия, воспользовавшись гнойным недовольством по поводу репараций и глубоко депрессивным состоянием немецкой экономики, добилась зловещих успехов на парламентских выборах. Это резкое наступление нацистов запустило цепную реакцию, детонация которой в конечном итоге потрясла даже самые отдалённые уголки американского сердца. Американцам, как позже остроумно заметил Гувер, «предстояло узнать об экономической взаимозависимости наций благодаря острому опыту, который постучался в двери каждого коттеджа».[128]128
Hoover, Memoirs: The Great Depression, 80. Историк экономики Питер Темин недавно поддержал анализ причин депрессии, проведенный Гувером. «Истоки Великой депрессии во многом лежат в нарушениях, вызванных Первой мировой войной», – пишет Темин в статье Lessons from the Great Depression (Cambridge: MIT Press, 1989), 1. Тем не менее, экономисты все ещё менее уверены в том, что они точно определили причины Депрессии. Будучи событием единичным, Депрессия до сих пор не поддавалась всестороннему объяснению со стороны аналитиков, применяющих якобы универсальные теории экономического поведения.
[Закрыть]
Стремясь лишить Гитлера его главной электоральной привлекательности путем укрепления немецкой экономики, канцлер Германии Генрих Брюнинг в марте 1931 года предложил создать таможенный союз Германии с Австрией. Французское правительство с мрачными подозрениями расценило предложение Брюнинга как первый шаг к аннексии Австрии Веймарской республикой – то, что побежденные немцы и австрийцы хотели осуществить в 1919 году, но что было категорически запрещено Версальским договором. Перспектива того, что Франция начнёт сжимать австрийские банки, чтобы сорвать замысел Брюнинга, вызвала банковскую панику в Вене. К маю вкладчики устроили беспорядки у здания крупнейшего австрийского банка, Кредитанштальта Луи Ротшильда, и банк закрыл свои двери. Затем проблемы распространились на Германию. Паника нарастала, и многие немецкие банки закрылись, а за ними последовали и соседние страны.
В основе этой тревожной цепи событий лежал запутанный вопрос о международных долгах и репарационных выплатах, возникших в результате войны 1914–18 годов. Одним из очевидных способов ослабить давление на осажденных немцев и австрийцев было разорвать цепь, отказавшись от этих обязательств или приостановив их выполнение. Соединенные Штаты могли бы возглавить этот процесс, простив или пересмотрев сроки выплаты 10 миллиардов долларов, которые им задолжали союзники, в основном Великобритания и Франция, в результате займов, предоставленных американским казначейством во время и сразу после войны. Партнер Morgan Томас П. Ламонт позвонил Гуверу 5 июня 1931 года, чтобы предложить именно это. Гувер уже самостоятельно изучал эту идею, но он напомнил Ламонту о её политической взрывоопасности. «Сидя в Нью-Йорке, как вы, – говорил Гувер, – вы не имеете ни малейшего представления о настроениях в стране в целом по поводу этих межправительственных долгов».[129]129
Ron Chernow, The House of Morgan (New York: Atlantic Monthly 1990), 325.
[Закрыть]
Ламонт задел узловатый политический нерв, ганглии которого были заложены в Версальском мирном соглашении 1919 года, а концы – сырыми и чувствительными в Америке 1931 года. В Версале победители заставили побежденную Германию признать свою вину за войну и, как следствие, выплатить репарации на сумму около 33 миллиардов долларов. Немцы стонали под этим долговым бременем на протяжении 1920-х годов. Они дважды пересматривали его условия, добившись продления срока выплаты по плану Доуза в 1924 году и дальнейшего пересмотра сроков, а также снижения общей суммы долга по плану Янга в 1929 году.
Хотя Соединенные Штаты выдвинули лишь номинальные требования о выплате репараций Германии, и Чарльз Г. Доуз, и Оуэн Д. Янг были американцами. Своей одноименной ролью в переговорах о долге они были обязаны тому, что их страна вышла из мировой войны в непривычном для себя положении ведущего международного кредитора. Казначейство США ссужало деньги правительствам союзников в военное время, а частные американские банкиры ссужали Германии значительные суммы в 1920-х годах. Немцы рассчитывали на постоянное поступление частных американских кредитов для выплаты репараций британцам и французам, которые, в свою очередь, обращали эти суммы на свои собственные счета в американском казначействе.
Эта сюрреалистическая финансовая карусель была нестабильна по своей сути. Она была грубо выведена из равновесия, когда крах фондового рынка в конце 1929 года иссушил американский кредитный колодец, выбив важнейшее звено из цепи международных денежных потоков. В этом смысле можно утверждать, что американский крах помог инициировать глобальную депрессию, но Гувер все равно утверждает, что шок от краха обрушился на глобальную финансовую систему, уже деформированную и уязвимую из-за войны.
Со своей стороны, союзники не раз предлагали ослабить свои требования к Германии, но только при условии, что их собственные обязательства перед Соединенными Штатами будут прощены. Французская палата депутатов в 1929 году сделала драматический акцент на этой идее, когда прямо постановила покрыть свои платежи Соединенным Штатам за счет немецких репараций. Этот жест возмутил американцев.
Упорные республиканские администрации 1920-х годов отказывались признавать какую-либо связь между репарациями Германии и долгами союзных правительств перед казначейством США. Все усилия по сокращению этих межправительственных долгов широко рассматривались в США как уловки, направленные на то, чтобы переложить бремя расходов на войну с европейцев на американцев. По мере того как в послевоенное десятилетие распространялось разочарование в бесполезности и ошибочности отхода Вудро Вильсона от изоляционистских принципов в 1917 году, американцы не были настроены рассматривать вопрос о принятии на себя большей доли расходов на войну. Народные чувства по этому вопросу были ещё больше подогреты позицией Уолл-стрит, которая выступала за отмену военных долгов не в последнюю очередь потому, что прощение правительственных займов сделало бы её собственные частные займы более надежными. На Главной улице, особенно в атмосфере после краха, подобное мышление, столь очевидное желание пожертвовать долларами налогоплательщиков ради обеспечения безопасности банкиров, было анафемой. Таким образом, железное требование полной выплаты военных долгов союзников стало не только финансовым, но и политическим и психологическим вопросом, тотемом отвращения к коррумпированной Европе, сожаления о вмешательстве в европейскую войну и решимости провинциальной Америки не поддаваться на уговоры шелковистых международных финансистов.
ИМЕННО ОБ ЭТОМ чувстве – жалком, изоляционистском, антиевропейском, антиуоллстритовском и горячем – Гувер напомнил Ламонту по телефону 5 июня. Чтобы понять его глубину и температуру, нужно оценить политическую смелость предложения Гувера от 20 июня 1931 года о том, чтобы все страны соблюдали годичный мораторий на «все выплаты по межправительственным долгам, репарациям и долгам помощи, как основным, так и процентным».[130]130
Hoover, Memoirs: The Great Depression, 70.
[Закрыть] Хотя Конгресс в конце концов ратифицировал это предложение, Гувер подвергся жестоким нападкам за то, что выдвинул его. Один из конгрессменов-республиканцев осудил его как «восточного потентата, опьяненного властью… агента Германии». Несколько непоследовательно сенатор-республиканец от Калифорнии Хайрем Джонсон, уже с недоверием относившийся к опасному, по его мнению, интернационализму Гувера, стал называть его «англичанином в Белом доме». Старый враг Гувера Джордж Норрис выразил тревогу многих, сказав, что «я не могу не подозревать, что [годичный мораторий] является предвестником аннулирования баланса… причитающегося нам от иностранных правительств».[131]131
Другие мнения хвалили Гувера и даже видели политическую выгоду для него в этом прямолинейном, государственном шаге. Газета The Nation, обычно недоброжелательно настроенная к президенту, назвала мораторий «Великим действием президента Гувера… самым далеко идущим и самым достойным похвалы шагом, предпринятым американским президентом со времен заключения мирного договора». Одна из газет высказала мнение, что мораторий сделал Гувера «чудесно реабилитированным кандидатом» на 1932 год. Другая заключила, что благодаря его действиям «картина трусящего, испуганного и озадаченного Гувера, которую так старательно рисовали экстремисты, выглядит более или менее нелепой». Jordan Schwarz, The Interregnum of Despair (Urbana: University of Illinois Press, 1970), 85, 47, 82, 79.
[Закрыть] (Подозрения Норриса в конечном итоге подтвердились, питая ещё более сильные изоляционистские настроения позднее в течение десятилетия).
Мораторий на выплаты по межправительственному долгу должен был дать немецким банкирам необходимую передышку. Вслед за этим Гувер заключил соглашение о «стоп-кадре», по которому частные банки также обязались не предъявлять к оплате свои немецкие бумаги. В совокупности эти меры были направлены на то, чтобы успокоить немецкий глаз мирового финансового урагана и тем самым избавить американскую финансовую систему от его ярости. Это были позитивные и решительные инициативы, но, как позже сетовал Гувер, они обеспечили «лишь кратковременную передышку, поскольку более крупные силы [кризиса] теперь начали, как волки, вгрызаться в финансовые жилы Британии».[132]132
Французы воспротивились предложению Гувера, но в конце концов согласились, хотя французский премьер Лаваль, посетивший Вашингтон в октябре, заручился согласием Гувера на то, что по истечении срока моратория и до наступления срока очередного репарационного платежа можно будет всесторонне обсудить два вопроса – о долгах Соединенным Штатам и о репарациях, причитающихся с Германии. Теперь эти вопросы были неявно связаны между собой благодаря всеохватывающим условиям инициативы Гувера, хотя американское правительство по-прежнему официально отрицало какую-либо связь. По роковому стечению обстоятельств, дата, назначенная для первой постмораторской выплаты долга, а значит, и дата разрешения этого досадного вопроса, выпала на 15 декабря 1932 года – через пять недель после проводимых раз в четыре года выборов американского президента.
[Закрыть] Несмотря на все его усилия, говорил Гувер, используя металлургические обороты речи, которые соответствовали его шахтерскому происхождению, «опасения стали проникать в финансовый мир, как ртуть».[133]133
Hoover, Memoirs: The Great Depression, p. 69.
[Закрыть]
Но металлом, который имел значение в 1931 году, была не ртуть. Это было золото. Большинство стран все ещё придерживались золотого стандарта, и, за редким исключением, большинство экономистов и государственных деятелей почитали золото с мистической преданностью, напоминающей религиозную веру. Золото лежало в основе самого священного символа национального суверенитета – денег. Оно гарантировало ценность денег; более того, оно гарантировало ценность национальной валюты за пределами её собственных границ. Поэтому золото считалось незаменимым в международной торговой и финансовой системе. Государства выпускали свои валюты в количестве, определяемом соотношением количества денег в обращении и золотого запаса. Теоретически приток золота должен был расширить денежную базу, увеличить количество денег в обращении и тем самым взвинтить цены и снизить процентные ставки. Отток золота якобы имел обратный эффект: сокращение денежной базы, уменьшение денежной массы, сдувание цен и повышение процентных ставок. Согласно правилам игры с золотым стандартом, страна, теряющая золото, должна была сдуть свою экономику – снизить цены, чтобы стимулировать экспорт, и повысить процентные ставки, чтобы обратить вспять отток капитала. Предполагалось, что эти эффекты будут происходить практически автоматически. На практике система золотых стандартов была менее систематичной, менее ограниченной правилами и более асимметричной, чем это допускала теория. Она также не обязательно работала автоматически. Страны, теряющие золото, действительно находились под сильным давлением, вынуждая их ужесточать кредитную политику или рисковать дефолтом по своим обязательствам, связанным с обменным курсом. Последний вариант считался непомерно дорогим; события вскоре доказали, что это не так. К тому же страны-кредиторы не были обязаны нагнетать инфляцию при поступлении золота. Они могли просто «стерилизовать» излишки золота и продолжать жить как прежде, оставляя страны, теряющие золото, на произвол судьбы.
Связывая мировую экономику воедино, золотой стандарт теоретически гарантировал, что экономические колебания в одной стране будут передаваться другим. На самом деле именно эта передача должна была гасить колебания и поддерживать глобальную систему в равновесии. Считалось, что в хорошую экономическую погоду золотой стандарт работает более или менее механически, как своего рода благотворный гидравлический насос, который поддерживает цены и процентные ставки стабильными или колеблющимися только в узких пределах во всей мировой торговой системе.
Однако в условиях плохой экономической погоды 1931 года огромные потоки, исходящие из национальных экономических кризисов в Австрии и Германии, грозили захлестнуть другие страны, и международный водопровод сломался. То, что Гувер назвал «беженским золотом» и «беглым капиталом», стало безудержно метаться туда-сюда по каналам системы перекачки золотых стандартов. Гувер сравнил панические и скачкообразные движения золота и кредитов, «постоянно гонимые страхом по всему миру», с «пушкой на палубе мира в бушующем море».[134]134
Hoover, Memoirs: The Great Depression, p. 67.
[Закрыть] Страны с и без того депрессивной экономикой оказались не готовы к дальнейшей дефляции из-за потери золота. Чтобы защитить себя, они повысили тарифные барьеры и ввели контроль над экспортом капитала. Почти все они в конце концов отказались от золотого стандарта как такового. Напуганные и потрепанные, с рифами и вантами, практически все государственные корабли взяли курс на безопасное убежище. Когда шторм наконец утих, мир навсегда преобразился. Золотой стандарт, существовавший до 1931 года и являвшийся ковчегом завета международного экономического порядка на протяжении более чем столетия, уже никогда не будет полностью восстановлен в скинии мировой торговли.
Британия сделала роковой шаг 21 сентября 1931 года. Лишившись золота из-за нервных европейских кредиторов и политически не желая предпринимать дефляционные шаги, чтобы вернуть золото на английские берега, Британия объявила дефолт по дальнейшим золотым платежам иностранцам.[135]135
На базе Королевского военно-морского флота в Инвергордоне (Шотландия) забастовка – иногда её называют мятежом – по поводу предлагаемого сокращения заработной платы убедила британское правительство в политической невозможности введения программы жесткой экономии, которая была бы необходима, чтобы остаться на золотом стандарте.
[Закрыть] Более двух десятков других стран быстро последовали этому примеру. Джон Мейнард Кейнс, который уже вовсю муссировал еретические теории об «управляемой валюте», радовался «разрыву наших золотых оков».[136]136
Chernow, House of Morgan, 331. Ещё в 1923 году бывший сотрудник Казначейства США и партнер Моргана Рассел Леффингвелл предупреждал, что «Кейнс… заигрывает со странными богами и предлагает навсегда отказаться от золотого стандарта и заменить его „управляемой“ валютой […]… Лучше иметь какой-то стандарт, чем отдать наши дела в управление мудрости публицистов-экономистов» (271).
[Закрыть] Но большинство наблюдателей, включая Гувера, считали отказ Великобритании от золотого стандарта катастрофой. В меткой метафоре Гувер сравнил британскую ситуацию с положением обанкротившегося банка, столкнувшегося с требованиями вкладчиков, но неспособного превратить свои активы в наличность и вынужденного закрыть свои двери. Разница заключалась в том, что Британия была не мелким сельским банком, а центральным столпом мировой финансовой структуры. Когда она приостанавливала платежи, мировая торговля замирала.
Мораторий, соглашение об остановке и отказ Великобритании от золота означали, что огромное количество мировых финансовых активов – все, что могло претендовать на австрийские, немецкие, британские банки или банки любой другой страны, отказавшейся от золота, – теперь было заморожено. Соединенные Штаты уже помогли закупорить артерии мировой торговли, установив высокие тарифные барьеры и ограничив отток капитала после краха на Уолл-стрит. Теперь, когда мировая финансовая кровь застыла, международная экономика замедлилась до арктической неподвижности. Германия вскоре провозгласит политику национальной самодостаточности. Британия в Оттавских соглашениях 1932 года фактически создала закрытый торговый блок – так называемую систему имперских преференций, отгородив Британскую империю от торговли других стран. Объем мирового бизнеса сократился с примерно 36 миллиардов долларов в 1929 году до 12 миллиардов долларов в 1932 году.
Удар по американской внешней торговле был пагубным последствием отказа Британии от золота, но вряд ли фатальным. В то время Соединенные Штаты просто не зависели от внешней торговли в такой степени, как другие страны, о чём свидетельствовали высокие защитные тарифы 1922 и 1930 годов.
Ещё более тяжелым было наказание, которое немецкая паника и британский отказ от золота нанесли и без того пошатнувшейся американской финансовой системе, все ещё содрогавшейся от череды банковских крахов в последние недели 1930 года. Американские банки держали на балансе около 1,5 миллиарда долларов в немецких и австрийских обязательствах, которые на данный момент фактически ничего не стоили. Хуже того, психология страха стремительно переполняла международные границы, мрачно и стремительно проносясь от Центральной Европы до Великобритании. Теперь она захлестнула и Соединенные Штаты. Иностранные инвесторы начали выводить золото и капитал из американской банковской системы. Отечественные вкладчики, которых однажды укусили, но которые дважды стеснялись, с новой силой набросились на банки, вызвав кризис ликвидности, который превзошел панику последних недель 1930 года. Этот кризис послужил репетицией и основой для полномасштабной катастрофы, которая разразилась в 1931 году. За месяц, последовавший за прощанием Британии с золотом, обанкротились пятьсот двадцать два банка. К концу года 2294 американских банка приостановили свою деятельность, что почти в два раза больше, чем в 1930 году, и стало абсолютным американским рекордом.[137]137
A larger number of banks suspended in 1933, but the figures for that year are not comparable because of the peculiar circumstance of the national «banking holiday» declared in March. HSUS, 1038, n. 8.
[Закрыть] Американские банки теперь обильно кровоточили от двух ран: одна была нанесена внутренними беглецами с депозитов, а другая – иностранным изъятием капитала. К сожалению, правила игры с золотым стандартом, как их понимал Гувер и большинство американских банкиров, диктовали, что вторая проблема должна превалировать над первой. Теоретически американские центральные банковские власти должны были принять дефляционные меры; на практике они так и поступили. Эта принудительная дефляция в контексте уже дефляционной экономики была извращенной логикой золотого стандарта, против которой выступал Кейнс. Чтобы сдержать отток золота, Федеральная резервная система повысила ставку редисконтирования, как и предписывала доктрина золотого стандарта. На самом деле ФРС действовала беспрецедентно решительно, повысив ставку на целый процентный пункт всего за одну неделю. Однако банковская система в целом нуждалась не в более жестких, а в более легких деньгах, как знали Марринер Экклз и другие банкиры, чтобы удовлетворить требования паникующих вкладчиков.
Дефляционная дисциплина золотого стандарта теперь предстала перед американцами в обнаженном виде, как и перед британцами всего несколькими неделями ранее. Британия отказалась от золотого стандарта, что позволило ей продвинуться по пути хотя бы скромного экономического восстановления в 1932 году. Через полтора года Франклин Рузвельт сделает то же самое для Соединенных Штатов, создав совершенно новые условия для проведения монетарной и фискальной политики. Однако на данный момент Гувер предпочел бороться в жестко ограничивающих рамках золотого стандарта. Почему?
Ответ следует искать в наследии восприятия и понимания экономической теории, которое лишь нехотя уступило место поколению, последовавшему за президентством Гувера. Вплоть до его времени, на протяжении столетия или более, мир знал лишь короткие и болезненные перерывы в режиме золотого стандарта. Широко распространено было мнение, что другой действенной основы, на которой можно было бы сделать валюту надежной и на которой могла бы функционировать международная экономика, просто не существует. Без привязки к золоту стоимость национальных денег считалась произвольной и непредсказуемой. Валюта становилась «мягкой», возможно, неконвертируемой, а сделки через национальные границы превращались в рискованные азартные игры. Отказ от золота, по словам Гувера, означал, что «ни один торговец не мог знать, что он может получить в качестве оплаты к моменту поставки своего товара».[138]138
Hoover, Memoirs: The Great Depression, 66.
[Закрыть] К 1931 году Джон Мейнард Кейнс уже почти десять лет пытался разработать теорию управления национальной и международной валютой, которая не зависела бы от золота. Но даже на этом этапе идеи Кейнса не были полностью разработаны (его великий труд, «Общая теория занятости, процента и денег», появится только в 1936 году), и в этом вопросе в то время он имел самую скромную аудиторию как среди экономистов, так и среди государственных деятелей.
ТАКИМ ОБРАЗОМ, в конце 1931 года Гувер столкнулся с гораздо более серьёзным и сложным кризисом, чем годом ранее. Перед лицом этих новых обстоятельств он прибег к новой тактике: агрессивной попытке сбалансировать федеральный бюджет путем повышения налогов. Эта политика подверглась резкой критике со стороны экономистов более позднего периода, которые должны были узнать из «Общей теории» Кейнса, что лекарством от депрессии является не бюджетный баланс, а преднамеренные дефицитные расходы. На самом деле, идея о том, что дефицит государственного бюджета может компенсировать спады делового цикла, была актуальна в академических и политических кругах на протяжении 1920-х годов, и сам Гувер был знаком с этим направлением мысли. В мае 1931 года государственный секретарь Генри Стимсон записал в своём дневнике, что Гувер решительно выступал против балансировщиков бюджета в своём собственном кабинете. «Президент сравнил это с военными временами», – пишет Стимсон. «Он сказал, что во время войны никто не мечтал о сбалансировании бюджета. К счастью, мы можем занимать».[139]139
Schwarz, Interregnum of Despair, 112–13.
[Закрыть]
Однако после отказа Великобритании от золота и возобновления банкротства банков в последней половине 1931 года Гувер изменил своё мнение и потребовал значительного повышения налогов. Он разработал и представил в Конгресс законопроект, который стал Законом о доходах 1932 года. Ему, конечно, предстояло столкнуться с перспективным дефицитом, который, как и многое другое в эту эпоху, выходил за рамки всех известных прецедентов. Федеральный бюджет 1932 года в итоге окажется в минусе на 2,7 миллиарда долларов – это самый большой дефицит мирного времени в американской истории на тот момент, и эта цифра составляла почти 60 процентов федеральных расходов. Ни один дефицит «Нового курса» не был бы пропорционально больше. По иронии судьбы, Франклин Д. Рузвельт вскоре сделал дефицит федерального бюджета центральным элементом своей атаки на Гувера в ходе президентской избирательной кампании 1932 года.
Но ни рефлекторная фискальная ортодоксия, ни даже ошеломляющие размеры бюджетных цифр не объясняют в полной мере решение Гувера в конце 1931 года обратиться к Конгрессу с просьбой о повышении налогов. По крайней мере, не менее важным, чем эти соображения, было состояние мышления Гувера на тот момент относительно причин, характера и лечения депрессии и своеобразного созвездия обстоятельств, в которых он оказался. По мнению Гувера, депрессия – или Великая депрессия, как её можно было бы теперь с полным основанием назвать, – возникла в результате краха европейских банковских и кредитных структур, изуродованных стрессами мировой войны. Как считал Гувер, сила этого краха передалась Соединенным Штатам через механизм золотого стандарта, и его воздействие грозило затопить и без того хаотичную и барахтающуюся американскую банковскую систему. Строгое следование правилам золотого стандарта диктовало Соединенным Штатам дальнейшую дефляцию, но откровенная дефляция была для Гувера непереносима. Его главной целью было влить живительную ликвидность в американскую кредитную систему, иссушенную внутренними банками, иностранными банками и жесткой денежной политикой Федеральной резервной системы, направленной на защиту золотого стандарта. Разжижая систему, он сделает деньги доступными для заимствования бизнесом, тем самым способствуя общей экономической активности и восстановлению. Путем сложных рассуждений, учитывающих как психологические, так и сугубо экономические факторы, Гувер убедил себя в том, что повышение налогов стабилизирует банковскую систему и тем самым создаст желаемую ликвидность. Критики Гувера и тогда, и позже настаивали на том, что такой косвенный или «нисходящий» подход недостаточен, что только прямое стимулирование экономики за счет крупных государственных расходов на помощь и общественные работы окажет необходимый тонизирующий эффект. Обмен мнениями между министром финансов Гувера Огденом Миллсом и сенатором-демократом от Нью-Йорка Робертом Вагнером во время слушаний по законопроекту о помощи безработным в 1932 году как нельзя лучше отражает различия в экономических философиях. «Я хочу растопить лёд, предоставляя кредиты промышленности, чтобы кто-то начал тратить деньги», – сказал Миллс. «Я пытаюсь заставить людей работать, а вы не хотите сотрудничать», – обвинил Вагнер.[140]140
Schwarz, Interregnum of Despair, 167.
[Закрыть]
Даже Кейнс в это время поддержал подход Гувера. Выступая в мае 1931 года на конференции по безработице в Чикагском университете, он сказал: «Я думаю, что аргументы в пользу общественных работ в этой стране гораздо слабее, чем в Великобритании… Я думаю, что в этой стране… средства возвращения к состоянию равновесия должны быть сосредоточены на ставке процента» – другими словами, на ослаблении кредита путем укрепления банковской системы. Лишь позднее Кейнс подробно развил аргумент, который он кратко изложил в своей книге «Трактат о деньгах», вышедшей в 1930 году: в некоторых случаях «недостаточно, чтобы центральный орган власти был готов предоставить кредит… он также должен быть готов занять». Другими словами, правительство должно само продвигать программу внутренних инвестиций.[141]141
Herbert Stein, The Fiscal Revolution in America (Chicago: University of Chicago Press, 1969), 146, 140.
[Закрыть]
Именно в этом контексте состояния экономических знаний и конкретных обстоятельств в Соединенных Штатах и мире в конце 1931 года следует понимать просьбу Гувера о повышении налогов. Бюджет правительства повсеместно рассматривался как символ и суть обязательства страны поддерживать стоимость своей валюты. Поэтому сбалансирование бюджета, успокаивая иностранных кредиторов, должно было уменьшить изъятие ими золота. Если говорить более конкретно, то увеличение доходов за счет налогообложения, в отличие от заимствований, выведет правительство из конкуренции с частными заемщиками на уже сжатых кредитных рынках, что поможет сохранить низкие процентные ставки. Сохранение низких процентных ставок, в свою очередь, не только облегчит заимствования для бизнеса, но и сохранит стоимость облигаций, все ещё хранящихся в сильно ослабленных портфелях банков, тем самым ослабляя давление на дальнейшую ликвидацию банковских активов. Короче говоря, просьба о повышении налогов, как объяснил Герберт Стайн, «была своего рода программой поддержки облигаций, которая должна была осуществляться за счет налоговых поступлений, а не за счет вновь созданных денег. Её следует понимать в свете нежелания или неспособности Федеральной резервной системы поддержать облигации путем создания новых денег осенью 1931 года… Важным моментом является то, что решение о повышении налогов было принято в условиях роста процентных ставок, падения цен на облигации, роста приостановки деятельности банков и большого оттока золота. Более спокойное отношение к балансированию бюджета [такое, как было принято Гувером всего шестью месяцами ранее] появилось в политике правительства только при администрации Рузвельта, когда все эти условия радикально изменились».[142]142
Stein, Fiscal Revolution in America, 32, 35.
[Закрыть]
Закон о доходах 1932 года прошел через Конгресс лишь с номинальной оппозицией. Спорное предложение о введении национального налога с продаж было в итоге исключено, но окончательный вариант закона повысил налоги по всем статьям и привел полмиллиона новых налогоплательщиков (в общей сложности около 1,9 миллиона) в федеральную налоговую систему за счет сокращения льгот для малоимущих. Закон предусматривал удвоение федеральных налоговых поступлений и определял основные характеристики налоговой структуры на оставшуюся часть десятилетия. Все последующие усилия по пересмотру налогового кодекса в 1930-е годы были направлены на дальнейшее увеличение налоговых поступлений. Короче говоря, в вопросе о святости сбалансированного бюджета Гувер надежно стоял в рамках широкого консенсуса, который сохранялся вплоть до Второй мировой войны, когда, не случайно, федеральная налоговая система была расширена ещё более значительно. Спикер Гарнер нехотя отказался от поддержки идеи введения налога с продаж, но сказал своим коллегам в Палате представителей: «Я бы ввел любой налог, налог с продаж или любой другой, чтобы… сбалансировать бюджет… Страна сейчас находится в таком состоянии, что самые худшие налоги, которые вы можете ввести, будут лучше, чем отсутствие налогов вообще». После этого он с иронией попросил всех членов, которые вместе с ним верят в сбалансированный бюджет, подняться со своих мест. Ни один представитель не остался сидеть на месте.[143]143
Schwarz, Interregnum of Despair, 124–25.
[Закрыть]
ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ГУВЕРА поддержанию золотого стандарта представляла собой чистейшую, наиболее традиционную экономическую ортодоксию. Но хотя его приверженность сбалансированному бюджету имела тот же вид ортодоксальности, на самом деле она была обусловлена скорее особыми обстоятельствами момента, чем некритичной верой в принятую фискальную мудрость. В своих усилиях по разжижению кредитной системы Гувер вскоре покажет себя способным на самую прагматичную и далеко идущую экономическую гетеродоксию. Эти усилия станут испытанием всех его творческих и командных способностей и в конце концов приведут его и страну на неизведанную экономическую и политическую территорию. С этой фазы кризиса начинается период экспериментов и институциональных инноваций, который продолжится в период «Нового курса».
Гувер сделал первые шаги на этой новой территории воскресным вечером 4 октября 1931 года, когда он тихо выскользнул из Белого дома, чтобы присоединиться к группе банкиров, которых он созвал для встречи с ним в элегантном доме министра финансов Меллона на Массачусетс-авеню. В ходе напряженной беседы, затянувшейся до самого утра, он настоял на том, чтобы более сильные частные банки создали кредитный пул в размере 500 миллионов долларов для помощи более слабым учреждениям. В результате этих переговоров возникла Национальная кредитная ассоциация. Это был пул частных банкиров, и как таковой он свидетельствовал о том, что Гувер по-прежнему предпочитал негосударственные, волюнтаристские подходы. Но обстоятельства её рождения и недолгой жизни также свидетельствовали о растущем признании, даже в высших кругах капитализма, который долгое время считался смертельно опасным для государственного вмешательства, и, более того, в сознании самого Гувера, о неуместности волюнтаристского подхода.








