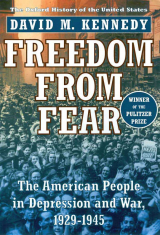
Текст книги "Свобода от страха. Американский народ в период депрессии и войны, 1929-1945 (ЛП)"
Автор книги: Дэвид М. Кеннеди
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 73 страниц)
С началом 1935 года Лонг активизировал свои выступления на радио. 9 января он заявил общенациональной аудитории, что «просил, умолял и делал все остальное под солнцем», чтобы «попытаться заставить мистера Рузвельта сдержать слово, которое он нам дал». Но теперь он сдался. «Надеяться на большее благодаря Рузвельту? Он обещал и обещал, улыбался и кланялся… Бесполезно ждать ещё три года. Это не Рузвельт или гибель, это гибель Рузвельта». Лонг смело перешел в наступление, обвиняя не только политику президента, но и его личность: «Когда я увидел, что он проводит все своё свободное время с крупными партнерами мистера Джона Д. Рокфеллера-младшего, с такими людьми, как Асторы и компания, мне, наверное, следовало бы иметь больше здравого смысла, чем верить, что он когда-нибудь разрушит их большие состояния, чтобы дать массам достаточно, чтобы покончить с бедностью». Вскоре «Королевская рыба» стала называть Рузвельта «рыцарем Нурмахала» (яхта Винсента Астора, на которой Рузвельт часто отдыхал).[415]415
New York Times, January 10, 1935, 1; Davis 3:502.
[Закрыть]
Передачи Лонга регулярно вызывали более ста тысяч писем поддержки. Через год организованное на национальном уровне общество «Разделим наше богатство» заявило о пяти миллионах членов, что, возможно, является преувеличением, но, по крайней мере, примерно свидетельствует о национальной аудитории, которую пробудил Лонг. Лонг начал обращаться к другим диссидентам. «У отца Кофлина чертовски хорошая платформа, – говорил Лонг, – и я на сто процентов за него… То, что он думает, мне по душе». То, что думали Кофлин и Лонг, имело смысл для многих американцев, мистифицированных Депрессией и все ещё страдающих от постоянного зрелища нужды на фоне изобилия. В Висконсине официальный орган «Ла Фоллетс», газета «Прогрессив», написала в редакционной статье, что она не согласна «со всеми выводами, к которым пришли отец Кофлин и сенатор Лонг, но когда они утверждают… что огромное богатство этой страны должно быть более справедливо распределено для более изобильной жизни народных масс, мы от всего сердца согласны с ними».[416]416
Schlesinger 3:249; Brinkley, Voices of Protest, 232.
[Закрыть] Лонг обратился с предложением к таунсендитам и тем, кто пережил фиаско EPIC в Калифорнии. Весной 1935 года Майло Рино представил его на съезде Фермерской праздничной ассоциации в Де-Мойне. «Верите ли вы в перераспределение богатства?» – спросил Лонг.
Более чем десятитысячная толпа ответила единодушным «Да!». «Я могу захватить этот штат, как вихрь», – ликовал Лонг. В марте 1935 года Лонг выступал в Филадельфии перед восторженной толпой. Осмотрев сцену, бывший мэр Филадельфии сказал: «Здесь 250 000 голосов Лонга».[417]417
Brinkley, Voices of Protest, 237, 170.
[Закрыть] «Я скажу вам здесь и сейчас, – заявил Лонг репортерам несколько месяцев спустя, – что Франклин Рузвельт не будет следующим президентом Соединенных Штатов. Если демократы выдвинут Рузвельта, а республиканцы – Гувера, следующим президентом будет Хьюи Лонг».[418]418
Brinkley, Voices of Protest, 81.
[Закрыть]
В окружении Рузвельта эти заявления воспринимались всерьез. Вечером 4 марта 1935 года в общенациональной радиопередаче NBC, посвященной второй годовщине инаугурации Рузвельта, Хью Джонсон, все ещё преданный Рузвельту, несмотря на то, что всего за несколько месяцев до этого был уволен с поста директора NRA, обрушил свою устрашающую силу инвектив на «великого луизианского демагога и этого политического падре». Джонсон жаловался, что Лонг и Кофлин «не имеют ни образования, ни знаний, ни опыта, чтобы провести нас через лабиринт, который озадачивает умы людей с начала времен… Эти два человека бушуют по всей земле, проповедуя не строительство, а разрушение, не реформу, а революцию». И, предупреждает Джонсон, они находят восприимчивую аудиторию. «Вы можете смеяться над отцом Кофлином, можете фыркать над Хьюи Лонгом, но эта страна никогда не была под большей угрозой».[419]419
Brinkley, Voices of Protest, 6.
[Закрыть]
Луис Хау, самый доверенный и верный советник Рузвельта, внимательно следил за явлениями Кофлина и Лонга. В начале 1935 года он отправил президенту копию письма от банкира из Монтаны, «который, как никто другой, был обращен в веру Хьюи Лонгом… Именно за такими симптомами, я думаю, мы должны следить очень внимательно», – наставлял Хау.[420]420
E. Roosevelt, FDR: His Personal Letters, 460.
[Закрыть] Вскоре после этого генеральный почтмейстер и председатель Демократического комитета Джеймс Фарли заказал тайный опрос, чтобы «выяснить, много ли клиентов привлекают выступления Хьюи по поводу его программы „Разделяй богатство“… Мы внимательно следили за тем, что Хьюи и его политические союзники… пытаются сделать». Результаты удивили и огорчили Фарли. Опрос показал, что Лонг, баллотирующийся в президенты от третьей партии, может привлечь до четырех миллионов голосов, что составляет около 10 процентов от ожидаемого количества голосов в 1936 году. Опрос Фарли также показал, что Лонг преуспел в превращении себя в национальную фигуру, имеющую силу как на Севере, так и на Юге, как в промышленных центрах, так и в сельских районах. «Легко представить себе ситуацию, – заключил Фарли, – при которой Лонг, набрав более 3 000 000 голосов, мог бы иметь баланс сил на выборах 1936 года». Например, опрос показал, что он будет иметь до 100 000 голосов в штате Нью-Йорк, который является ключевым штатом в любых национальных выборах; «и голос такого размера может легко означать разницу между победой или поражением… Такое количество голосов……будет в основном на нашей стороне, и результат может обернуться катастрофой». Рузвельт разделял эту оценку. «Лонг планирует стать кандидатом типа Гитлера на пост президента в 1936 году», – сказал он Уильяму Э. Додду, своему послу в Германии. «Он думает, что на съезде демократов у него будет сто голосов. Затем он будет выдвигаться как независимый кандидат от прогрессистов Юга и Среднего Запада… Таким образом он надеется разгромить демократическую партию и поставить реакционного республиканца. Это приведет страну к 1940 году в такое состояние, что, по мнению Лонга, он станет диктатором. На самом деле некоторые южане смотрят в эту сторону, и некоторые прогрессисты дрейфуют в этом направлении… Таким образом, ситуация зловещая».[421]421
James A. Farley, Behind the Ballots: The Personal History of a Politician (New York: Harcourt, Brace, 1938), 249–50; William E. Dodd Jr. and Martha Dodd, eds., Ambassador Dodd’s Diary, 1933–1938 (New York: Harcourt, Brace, 1941), 213–14.
[Закрыть]
Лонг, по словам обеспокоенного сенатора-демократа, «блестящ и опасен. Он трудолюбив и обладает большими способностями. Депрессия усилила радикализм в этой стране – никто не знает, насколько. Лонг делает все возможное, чтобы объединить его политически в 1936 году… Мы вынуждены предлагать и принимать многие вещи в „Новом курсе“, которые в противном случае мы бы не приняли, потому что мы должны предотвратить объединение недовольных вокруг него. Президент – единственная надежда консерваторов и либералов; если его программа будет ограничена, ответом может стать Хьюи Лонг».[422]422
New York Times, January 10, 1935, 10.
[Закрыть]
Подобные комментарии заставили многих историков утверждать, что Рузвельт, который в 1935 году собирался выдвинуть несколько кардинальных предложений по реформам, сделал это в основном под давлением Лонга и Кофлина. Без этих демагогов, подразумевается, настоящего «Нового курса» могло бы и не быть, а то, что в нём было от либерализма, было вырвано у неохотного, темпераментноконсервативного Рузвельта только под угрозой его собственного политического исчезновения. Даже сын Рузвельта Эллиотт утверждал, что вся эпохальная законодательная программа 1935 года – знаковые законы, составившие то, что иногда, и несколько ошибочно, называют «вторым Новым курсом», включая Закон о чрезвычайных ассигнованиях, Закон о банковской деятельности, Закон о национальных трудовых отношениях Вагнера, Закон о холдинговых компаниях коммунального хозяйства, Закон о социальном обеспечении и Закон о налоге на богатство – была «разработана, чтобы выбить почву из-под ног демагогов».[423]423
E. Roosevelt, FDR: His Personal Letters, 444.
[Закрыть]
Это суждение, безусловно, преувеличено. Многие из мер, которые были приняты в 1935 году, – в первую очередь Закон о социальном обеспечении, самый значительный из достижений «Нового курса», – были приняты задолго до того, как «демагог и падре» устроили свою трапезу. Рузвельт и Гарри Хопкинс стремились к серьёзным изменениям в политике помощи с зимы 1933–34 годов. Банковская реформа стояла на повестке дня «Нового курса» с первых «Ста дней». Сенатор Роберт Вагнер годами добивался принятия политики, подобной той, что была воплощена в законопроекте о национальных трудовых отношениях. Реформа коммунального хозяйства была одним из главных приоритетов Рузвельта, когда он был губернатором Нью-Йорка. Что касается социального обеспечения, то Рузвельт одобрил его основную концепцию ещё в 1930 году. Только Закон о налоге на богатство действительно отвечает описанию политической инициативы Рузвельта, предпринятой в качестве прямого ответа на агитацию Кофлина и Лонга.
И ВСЕ ЖЕ, если Куглин и Лонг не навязывали второй «Новый курс» сопротивляющемуся Рузвельту, они угрожали его захватить. Президент был вынужден упрямиться и защищать свою программу от опасности, что радикальная волна может сбить её с пути финансовой стабильности и политического благоразумия. «Я борюсь с коммунизмом, Хьюи Лонгом, Кофлином, Таунсендом», – сказал Рузвельт журналисту в начале 1935 года, но в данный момент он боролся с ними не для того, чтобы перехватить у них дух. Он уже давно накопил достаточно грома в своём собственном законодательном арсенале. Выступая за принятие Закона о налоге на богатство и в ходе президентской кампании 1936 года, Рузвельт в конечном итоге, вероятно, боролся с огнём, подражая некоторым наиболее конфронтационным высказываниям радикалов. Но в настоящее время он работал, как он объяснял, «чтобы спасти нашу систему, капиталистическую систему», от «сумасбродных идей». Неизменный курс, никаких отклонений влево или вправо – такова была стратегия на 1935 год.[424]424
E. D. Coblentz, William Randolph Hearst (New York: Simon and Schuster, 1952), 178.
[Закрыть]
Рузвельт основывал эту стратегию на проницательных политических расчетах. В письме своему бывшему соратнику времен Вудро Вильсона, полковнику Эдварду М. Хаусу, Рузвельт в феврале 1935 года дал подробный анализ политической оппозиции, с которой он столкнулся. В неё входили консервативные республиканцы старой закалки, «более либеральные республиканцы» и «прогрессивные республиканцы вроде Ла Фоллетта, Каттинга, Ная и т. д., которые в любом случае заигрывают с идеей третьего партийного билета, зная, что такой третий билет будет побежден, но что он нанесет поражение нам, изберет консервативного республиканца и вызовет полный поворот далеко влево до 1940 года. Все эти республиканские элементы, – продолжал Рузвельт, – флиртуют с Хьюи Лонгом и, возможно, финансируют его. Третий прогрессивный республиканский билет и четвертый билет „Разделяй богатство“, по их мнению, сокрушат нас… Несомненно, все это опасная ситуация», – признал Рузвельт. Но он прохладно добавил, что «когда дело дойдет до шоу-дауна, эти парни не смогут лечь в одну постель».[425]425
E. Roosevelt, FDR: His Personal Letters, 452–53.
[Закрыть]
Возможно, Рузвельт также почувствовал что-то в окружении Лонга и Кофлина, что историк Алан Бринкли позже положил в основу своего анализа их привлекательности в эпоху депрессии. По мнению Бринкли, мужчины и женщины, которых привлекали Лонг и Кофлин, не были самыми отчаянно бедными. Скорее, это были люди, которым «было что защищать: с трудом завоеванный статус представителя рабочей элиты, образ жизни, смутно напоминающий средний класс, часто скромные инвестиции в дом… Это были люди, которым было что терять… Их объединяло то, что им грозило вступление в мир скромных достижений среднего класса».[426]426
Brinkley, Voices of Protest, 202–3.
[Закрыть] Другими словами, они были представителями той мелкобуржуазной социальной прослойки, которую Алексис де Токвиль давным-давно назвал «жаждущими и опасающимися людьми с небольшой собственностью». Они представляли собой характерный класс, сформировавшийся в изменчивых и нестабильных условиях американской демократии. «Они любят перемены, – заметил Токвиль, – но боятся революций… Они постоянно и тысячами способов чувствуют, что могут потерять в результате одной из них».[427]427
Tocqueville, Democracy in America, 2:265–78.
[Закрыть] Короче говоря, они никогда, даже в период депрессии, не были тем материалом, из которого можно было бы создать подлинно революционные движения. Они могли время от времени пить пьянящее риторическое варево демагогов, но в конечном итоге они делали свой основной политический бизнес на простой воде. Настоящая угроза, которую представляли собой демагоги, заключалась не в том, что они революционизируют эту непокорную массу и используют её, чтобы грубо толкнуть страну влево, а в том, что им удастся на время настолько огрубить общественное мнение, настолько испортить политическую атмосферу и настолько расколоть традиционные партии, которые были обычными средствами управления, что наступит длительный период политического паралича. Не социальная революция, а застой был наихудшим возможным исходом радикальной агитации. Такую опасность Рузвельт увидел в начале 1935 года, но он был уверен, что сможет её предотвратить. И действительно, рефлексивный политический гений Рузвельта проявился в том, что вместо того, чтобы просто смириться с давлением слева, он использовал его в своих интересах. Теперь он мог убедительно доказать консервативным сторонникам, что его собственная программа, достаточно радикальная по любым объективным стандартам, является разумным оплотом против безответственного радикализма демагогов. Если другие предлагали политику недовольства, он предлагал политику возможностей. Если Кофлин и Лонг апеллировали к тёмной стороне души людей, Рузвельт следовал примеру Линкольна и обращался к лучшим ангелам их натуры. «Несколько своевременных, здравых кампаний с моей стороны этой весной или летом приведут людей в чувство», – уверенно предсказывал президент.[428]428
E. Roosevelt, FDR: His Personal Letters, 453.
[Закрыть]
На самом деле Рузвельт готовился к этой кампании больше года, выступив с замечательной серией обращений, включая несколько «Бесед у камина», транслировавшихся по радио на всю страну. Несмотря на часто повторяющиеся обвинения в том, что «Новому курсу» не хватало последовательной философии и что Рузвельт не обладал способностью к упорядоченному, систематическому мышлению, в этих обращениях, взятых вместе, прослеживались по крайней мере очертания структурированной и прочной социальной философии, которая составляла идеологическое сердце «Нового курса». Рузвельт отчеканил эту философию из чувства сеньориальной заботы о своей стране, которое лежало в основе его патрицианского темперамента. «В глубине души он хочет, чтобы люди были так же счастливы, как и он сам», – писал Рэймонд Моули. «Его возмущают голод и безработица, как будто это личные обиды в мире, который, как он уверен, он может сделать гораздо лучше, совершенно другим, чем он был». Рексфорд Тагвелл высказался в том же духе, описывая основополагающие цели, которые были заложены в сознании Рузвельта, когда он только вступил в должность президента: «Лучшая жизнь для всех американцев и лучшая Америка, чтобы жить в ней».[429]429
Rexford G. Tugwell, The Brains Trust (New York: Viking, 1968) 157–58; Raymond Moley, After Seven Years (New York: Harper and Brothers, 1939), 390.
[Закрыть]
В 1934 и 1935 годах Рузвельт взялся за воплощение этих чувств и обобщений в конкретное политическое кредо. Лонг и другие радикалы предоставили Рузвельту возможность полностью и конкретно сформулировать, в чём именно заключался «Новый курс». В ходе кампании 1932 года он, возможно, намеренно, оставался туманным и непостижимым, хотя в ретроспективе зародыши его зрелой политической мысли можно найти в некоторых его предвыборных выступлениях 1932 года, особенно в речи в клубе «Содружество» в Сан-Франциско. В 1933 году он проводил обескураживающую политику, порой противоречивую, и, возможно, неизбежно, у него было мало возможностей определить, какая архитектура, если таковая была, удерживала их все вместе в его голове. Но по мере того как затягивался 1934 год, Рузвельт наконец приступил к разработке для своих соотечественников своего видения будущего, в которое он надеялся их повести. Он дал нации президентский урок граждановедения, который определял не что иное, как идеологию современного либерализма. Он вдохнул новый смысл в такие идеи, как свобода и свободолюбие. Он придал новую легитимность идее правительства. Он ввел новые политические идеи, такие как социальное обеспечение. Он изменил само представление страны о себе и о том, что возможно в политическом плане. Прежде чем Франклин Рузвельт закончил свою деятельность, он изменил политическое сознание нации и её институциональную структуру до такой степени, о которой немногие лидеры до него осмеливались мечтать, не говоря уже о попытках, и которую немногие лидеры после него осмеливались оспаривать.
Он начал с истории и с меняющейся роли правительства. Как и в его обращении к выпускникам Мильтоновской академии в 1926 году, изменение было его лейтмотивом – его неизбежность и столь же неизбежное обязательство приспособиться к нему, залечить его разрывы и воспользоваться его возможностями. «В прежние времена, – сказал он в специальном послании Конгрессу 8 июня 1934 года, предвосхищая программу социального обеспечения, которую он собирался разработать, – взаимозависимость членов семей друг от друга и семей внутри небольшой общины друг от друга» обеспечивала самореализацию и безопасность. Но эти простые условия приграничья теперь исчезли. «Сложность больших сообществ и организованной промышленности делает менее реальными эти простые средства безопасности. Поэтому мы вынуждены использовать активный интерес всей нации через правительство, чтобы обеспечить большую безопасность для каждого человека, который её составляет». Федеральное правительство было создано в соответствии с Конституцией, напомнил он, «для содействия общему благосостоянию», и теперь «прямой долг правительства – обеспечить безопасность, от которой зависит благосостояние».
Безопасность – вот что было главным, единственным словом, которое в большей степени, чем любое другое, отражало то, к чему стремился Рузвельт. «Среди наших целей, – заявил он на сайте, – я ставлю на первое место безопасность мужчин, женщин и детей нации». Люди хотели, более того, они имели «право» – значительная эскалация риторики политических претензий – на три вида безопасности: «достойные дома для жизни», «продуктивная работа» и «безопасность от опасностей и превратностей жизни».
Образно кивнув в сторону своей политической правоты, в беседе у камина всего три недели спустя он своим обнадеживающим, звучным голосом объяснил, что некоторые люди «попытаются дать новые и странные названия тому, что мы делаем. Иногда они будут называть это „фашизмом“, иногда „коммунизмом“, иногда „регламентацией“, иногда „социализмом“. Но при этом они пытаются сделать очень сложным и теоретическим то, что на самом деле очень просто и очень практично… Правдоподобные искатели себя и теоретические приверженцы скажут вам о потере свободы личности. Ответьте на этот вопрос, исходя из фактов вашей собственной жизни. Потеряли ли вы какие-либо из своих прав или свобод, или конституционную свободу действий и выбора?» Он не принёс никаких извинений за свою концепцию правительства как формирующего агента в современной американской жизни. Выступая на месте строительства плотины Бонневиль на реке Колумбия летом 1934 года, он прямо сказал, что «власть, которую мы будем развивать здесь, будет властью, которая всегда будет контролироваться правительством».[430]430
PPA (1934), 287ft., 312ft., 325ff.
[Закрыть]
В последующей беседе у камина в сентябре Рузвельт углубил свои аргументы в пользу позитивного правительства, подробно процитировав известного государственного деятеля прогрессивной эпохи Элиу Рута:
Огромная сила организации [говорил Рут] объединила большие скопления капитала в огромные промышленные предприятия… настолько огромные в массе, что каждый индивидуум, участвующий в них, сам по себе совершенно беспомощен… Старая надежда на свободное действие индивидуальных воль кажется совершенно неадекватной… Вмешательство организованного контроля, который мы называем правительством, кажется необходимым.
«Организованный контроль, который мы называем правительством», – вот в чём была суть вопроса. «Люди могут расходиться во мнениях относительно конкретной формы деятельности правительства в отношении промышленности или бизнеса, – заметил Рузвельт, – но почти все согласны с тем, что частное предпринимательство в такие времена, как сейчас, нельзя оставлять без помощи и без разумных гарантий, чтобы оно не разрушило не только себя, но и наш процесс цивилизации». Обращаясь к другой американской иконе, Рузвельт сказал: «Я верю вместе с Авраамом Линкольном, что „Законный объект правительства“ – делать для сообщества людей то, что они должны сделать, но не могут сделать вообще или не могут сделать так хорошо для себя в своём отдельном и индивидуальном качестве». Он добавил: «Я не сторонник возвращения к тому определению свободы, в соответствии с которым в течение многих лет свободный народ постепенно превращался в слугу привилегированных. Я предпочитаю и уверен, что вы предпочитаете более широкое определение свободы, согласно которому мы движемся вперёд к большей свободе, большей безопасности для среднего человека, чем когда-либо в истории Америки».[431]431
PPA (1934), 413ff.
[Закрыть]
В своём ежегодном послании к Конгрессу 4 января 1935 года Рузвельт откровенно заявил, что «социальная справедливость, больше не являющаяся далёким идеалом, стала определенной целью». Он начал подробно описывать конкретные предложения, которые сделают эту цель реальностью. «По мере того как наши меры укореняются в живой фактуре жизни, – заявил он, – единство нашей программы раскрывается перед нацией».[432]432
PPA (1935), 16.
[Закрыть]
Объединяющий дизайн этой программы принимал различные формы в разных секторах жизни страны, но общая картина второго «Нового курса», сформировавшегося в 1935 году, становилась все более ясной. В социальной сфере доминирующим мотивом была безопасность; в экономической сфере – регулирование (которое было безопасностью под другим названием); в физической сфере – плановое развитие. Во всех этих сферах общей целью была стабильность. Ни одно другое стремление не легло в основу «Второго Нового курса», и ни одно другое достижение не стало лучшим воплощением его долговременного наследия. Теперь Рузвельт стремился не просто к восстановлению, не просто к помощи, и даже не к вечному экономическому росту, который станет святым граалем для последующих поколений в социальной и политической сферах. Вместо этого Рузвельт искал новую основу для американской жизни, нечто «совершенно иное», чем то, что было раньше, по выражению Моули, нечто, что позволило бы твёрдой руке «организованного контроля, который мы называем правительством», поддерживать баланс, справедливость и порядок во всём американском обществе. Мечта Рузвельта была старой прогрессивной мечтой о наведении порядка из хаоса, о стремлении к мастерству, а не к дрейфу, о придании простым американцам хотя бы некоторой степени предсказуемости их жизни, которая была родовым правом Рузвельтов и класса патрицианских помещиков, к которому они принадлежали. Это была мечта, взращенная в умах бесчисленных реформаторов на протяжении столетия безудержной и тревожной промышленной революции; мечта, ускоренная в эпоху прогрессивных реформ молодости Рузвельта, не в последнюю очередь его собственным кузеном Теодором; мечта, возросшая до настойчивой актуальности в результате катастрофы Депрессии. Теперь эта мечта оказалась в пределах досягаемости для осуществления благодаря той же Депрессии, а также чувству возможности и политической изменчивости, которые она вызвала.[433]433
Много сил ученых было потрачено на анализ идеологии «Второго Нового курса» 1935 года и попытку отличить его от «Первого Нового курса» 1933 года. Артур М. Шлезингер-мл. (Schlesinger 3, esp. 385–408) выдвинул тезис о том, что макроэкономические планировщики в традиции новых националистов, которые доминировали в первом «Новом курсе», теперь уступили место микроэкономическим разрушителям доверия и регуляторам по убеждению Бран-деисиана и Вудро Вильсона, в союзе с протокейнсианцами, все больше убеждавшимися в стимулирующей силе дефицитных расходов. Большая часть споров на эту тему была упражнением в историографическом причесывании. Моя собственная точка зрения не учитывает идеологическую последовательность первого «Нового курса» и поэтому не предполагает резкого концептуального разрыва в 1935 году. Я также считаю, что не экономическая политика в строгом смысле слова, а политика социального обеспечения в широком смысле слова – как это было воплощено в основном в одноименном законе, а также в Законе об ассигнованиях на чрезвычайную помощь – составляла суть второго «Нового курса», и что меры социального обеспечения 1935 года не представляли собой значительного отказа от предыдущей политики. Скорее, они органично вытекали из социальной мысли предыдущих двух десятилетий, а также из обстоятельств Депрессии.
[Закрыть]








