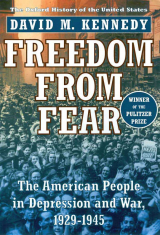
Текст книги "Свобода от страха. Американский народ в период депрессии и войны, 1929-1945 (ЛП)"
Автор книги: Дэвид М. Кеннеди
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 73 страниц)
Однако в пульсирующих промышленных городах практически все американцы значительно повысили свой уровень жизни в течение десятилетия после Первой мировой войны. В то время как уровень жизни фермеров снижался на протяжении 1920-х годов, реальная заработная плата промышленных рабочих выросла почти на 25%. К 1928 году средний доход на душу населения среди работников несельскохозяйственных предприятий в четыре раза превысил средний уровень доходов фермеров. Для городских рабочих процветание было удивительным и реальным. У них было больше денег, чем когда-либо прежде, и они наслаждались удивительным разнообразием новых товаров, на которые могли их потратить: не только автомобили, но и консервы, стиральные машины, холодильники, синтетические ткани, телефоны, кинофильмы (со звуком после 1927 года), и – наряду с автомобилем, самой революционной из новых технологий – радиоприемники. В неэлектрифицированной сельской местности, конечно, многие из этих современных удобств были недоступны.
АВТОРЫ КНИГИ «Последние социальные тенденции» обнаружили, что в 1930 году тридцать восемь миллионов мужчин и десять миллионов женщин производили и распределяли это изобилие товаров. Ещё в 1910 году сельскохозяйственные рабочие составляли самую большую категорию занятых, но к 1920 году число работников обрабатывающей и механической промышленности превысило число занятых в сельском хозяйстве. С начала века рабочая неделя типичного несельскохозяйственного работника сократилась, но режим практически непрерывного труда, давно привычный на ферме, был перенесен на фабрики в первые дни индустриализации и лишь постепенно ослабевал. Только в 1923 году сталелитейная корпорация United States Steel Corporation нехотя отказалась от двенадцатичасового рабочего дня, который усугублялся периодической «сменой» ночных и дневных бригад, когда люди должны были отработать непрерывную двадцатичетырехчасовую смену. Большинство промышленных рабочих в 1930 году работали по сорок восемь часов в неделю. Двухдневные «выходные» ещё не стали неотъемлемой частью американской жизни, а оплачиваемые отпуска для рабочих были почти неизвестны. «Выход на пенсию» тоже все ещё оставался недостижимой фантазией для среднего американского рабочего, чьи трудовые будни длились практически до конца жизненного цикла.[40]40
Recent Social Trends 2:829, 1:277.
[Закрыть]
Те самые силы, которые повышали производительность труда и приносили пользу потребителям, также несли в себе некоторые последствия, которые глубоко беспокоили экспертов Гувера. Наиболее серьёзная проблема, по их мнению, связана с «повсеместным внедрением машин, [которое] имеет общий эффект замены квалифицированного труда полуквалифицированным и неквалифицированным и, таким образом, снижает статус обученного и квалифицированного рабочего, если, по сути, не стремится полностью исключить его из многих отраслей». Машинное производство представляло собой парадокс. Она давала работу большому количеству неквалифицированных людей, поэтому миллионы европейских крестьян и американских фермеров мигрировали в города в поисках промышленных рабочих мест и шанса на лучшую жизнь. В то же время она превратила труд в товар и улетучила его, лишив рабочих гордости за своё ремесло и, что самое важное, гарантии занятости. Более того, долгосрочным эффектом усиления механизации может стать полное исчезновение некоторых рабочих мест. Особую тревогу вызывала неравномерность занятости в технологически инновационных отраслях массового производства. Как ни удивительно, учитывая репутацию десятилетия, годовой уровень безработицы в этих отраслях превышал 10% в период расцвета «процветания Кулиджа» с 1923 по 1928 год. Немногие особенности зарождающейся индустриальной экономики были более потенциально опасными.[41]41
Надежная государственная статистика по безработице в 1920-х годах не велась. Recent Social Trends 2:806–8 ссылается на оценки Пола Дугласа, согласно которым в 1923–1926 годах безработица составляла около 9 процентов. Значительно более высокие оценки, от 10 до 13 процентов в период с 1924 по 1929 год, приводятся в Irving Bernstein, The Lean Years: A History of the American Worker, 1920–1933 (Boston: Houghton Mifflin, 1960), 59.
[Закрыть]
В исследовании Линдов, проведенном в Манси, подробно описаны сложные личные и социальные последствия таких моделей занятости. Главным фактором, отличающим «рабочий класс» от «бизнес-класса», по их мнению, была незащищенность занятости с вытекающими отсюда нарушениями ритма жизни. Представители бизнес-класса, отметили они, «практически никогда не подвергаются подобным перерывам», в то время как среди рабочего класса «прекращение работы» или «увольнение» – явление постоянное. Более того, они предположили, что перерывы в работе, даже в большей степени, чем профессиональная категория или доход, являются главной определяющей характеристикой принадлежности к социальной группе, которую они назвали «рабочим классом». Те члены общества, которые имели определенную гарантию занятости, практически по определению не были «рабочими». У них была карьера, а не работа. Само представление о времени у них было другим, как и их жизненные шансы. Они с уверенностью планировали своё будущее и будущее своих детей. Они брали ежегодные отпуска. Они стремились к лучшему образу жизни. Они также создавали и поддерживали сложную сеть организаций – Ротари-клуб, родительский комитет, торговую палату, женский клуб и, не в последнюю очередь, политические партии, – которые связывали сообщество воедино и давали ему органичную жизнь. Из большей части этой деятельности рабочие были исключены не столько в результате активной дискриминации, сколько в силу простых, но жестоких обстоятельств.[42]42
Lynd and Lynd, Middletown, 55–56.
[Закрыть]
Рабочие, не имеющие гарантий занятости, жили в мире, который Линды называли «миром, в котором ни настоящее, ни будущее не сулит… особых перспектив» для продвижения по службе или социальной мобильности. Они лихорадочно трудились, когда наступали хорошие времена, когда ревели мельницы и раскалялись кузницы, чтобы отложить что-то на тот неизбежный момент, когда времена станут плохими, когда ворота фабрики захлопнутся, а печи забьются. Непредсказуемые перемены в их жизни постоянно нарушали отношения между членами семьи и оставляли мало возможностей для социального или гражданского участия или даже для профсоюзной организации. Такой неустойчивый, разобщенный, социально тонкий, повсеместно небезопасный образ жизни был уделом миллионов американцев в 1920-е годы. Они периодически ощущали вкус процветания, но не имели практически никакой власти над условиями труда или траекторией своей жизни.[43]43
Lynd and Lynd, Middletown, 80.
[Закрыть]
Немногие работодатели, штаты и уж тем более федеральное правительство предоставляли какие-либо виды страхования, чтобы смягчить удары безработицы. В 1929 году Американская федерация труда (AFL) была солидарна с работодателями и категорически выступала против государственного страхования от безработицы, уже ставшего общепринятой практикой во многих европейских странах. Сэмюэл Гомперс, многолетний лидер AFL, умерший в 1924 году, неоднократно осуждал страхование по безработице как «социалистическую» идею и поэтому недопустимую в Соединенных Штатах. Его преемники продолжали придерживаться этой философии вплоть до кануна Великой депрессии. Жесткость руководства AFL в сочетании с враждебностью большинства работодателей и общим процветанием десятилетия неумолимо редела ряды организованного труда. Членство в профсоюзах неуклонно снижалось с максимума военного времени, составлявшего около пяти миллионов человек, до менее чем трех с половиной миллионов к 1929 году.
AFL сама заслуживала некоторой доли вины за это сокращение. Озлобленный долгой историей вмешательства правительства на стороне менеджмента, Гомперс проповедовал философию «волюнтаризма». По его мнению, труд должен избегать государственной помощи и полагаться только на свои собственные ресурсы, чтобы добиться уступок от работодателей. К сожалению, эти ресурсы были до боли скудными. Их ценность, по сути, снижалась, поскольку неквалифицированные рабочие неумолимо вытесняли квалифицированных мастеров, чьи ремесленные гильдии составляли AFL. Неквалифицированные рабочие были в значительной степени сосредоточены в таких огромных отраслях массового производства, как сталелитейная и автомобильная, которые все больше доминировали в американской экономике. Здоровье профсоюзного движения зависело от их организации в соответствии с принципами «промышленного профсоюза», который объединял всех работников отрасли в единый профсоюз. Но эта стратегия столкнулась с элитарными и исключающими организационными доктринами AFL, которая группировала рабочих по профессиональному признаку – например, машинистов, плотников или листопрокатчиков.
Воображая себя рабочей аристократией, профсоюзные деятели игнорировали проблемы своих неквалифицированных коллег. Этническое соперничество усугубляло проблемы в доме труда. Квалифицированные рабочие, как правило, были старыми, коренными белыми американцами, в то время как неквалифицированные были в основном недавними городскими иммигрантами из глубинки Европы и сельских районов Америки. AFL, изолировав себя от мужчин и женщин, которые быстро становились большинством промышленных рабочих, передала руководству мощное антирабочее оружие. Руководство знало, как им воспользоваться. U.S. Steel цинично использовала этнические разногласия, которые были бичом американского профсоюзного движения, когда AFL в 1919 году нерешительно отказалась от своих традиционно элитарных взглядов и возглавила забастовку с целью организации профсоюза в сталелитейной промышленности. Корпорация направила агентов в сталелитейные районы Чикаго и Питтсбурга, чтобы разжечь вражду между местными рабочими и рабочими-иммигрантами. Они возбудили самые мрачные опасения забастовщиков, завербовав около тридцати тысяч южных негров, жаждущих получить ранее запрещенные рабочие места, чтобы пересечь линии пикетов. На этих камнях расового и этнического недоверия великая сталелитейная забастовка 1919 года потерпела катастрофическое поражение. После её катастрофического провала Американская федерация труда вернулась к своей исторической исключительности и в основном оставила неквалифицированных рабочих на произвол судьбы.
Манипулирование этническими и расовыми страхами было лишь одним из нескольких инструментов, которые руководство использовало для подавления рабочих организаций. Самым страшным из этих инструментов был контракт «желтой собаки», который обязывал отдельных работников в качестве условия найма никогда не вступать в профсоюз. Работодатели также полагались на дружественных судей, которые выносили судебные запреты, запрещающие забастовки, пикетирование, выплату пособий по забастовке и даже общение между организаторами и рабочими. «Брак трудового запрета с контрактом „желтой собаки“, – говорит историк труда Ирвинг Бернштейн, – был опасен для выживания профсоюзного движения в Соединенных Штатах». Верховный суд сыграл свадьбу в 1917 году в деле Hitchman Coal & Coke Co. v. Mitchell. Доктрина Хитчмана сделала контракты «желтых собак» неисполнимыми по закону. По сути, она делала незаконными практически любые попытки организовать профсоюз без согласия работодателя. В 1920-х годах работодатели активно использовали этот правовой инструмент. За это десятилетие была вынесена половина всех трудовых запретов, зарегистрированных за полвека после 1880 года. Эта судебная враждебность породила разочарование и возмущение среди рабочих. «Растущее ожесточение организованного труда по отношению к федеральным судам», – заявил консервативный сенатор от Пенсильвании Джордж Уортон Пеппер в 1924 году, – грозило «революционными» результатами. Конгресс, наконец, предоставил некоторое облегчение в виде Закона Норриса-Ла Гардиа о борьбе с неисполнением контрактов 1932 года, который запрещал федеральным судам выносить судебные запреты на исполнение контрактов «желтых собак». Но даже подписав этот закон, Герберт Гувер поручил своему генеральному прокурору заявить, что его положения «носят настолько противоречивый характер, что их… может устранить только судебное решение». Таким образом, предупреждение Пеппера о неспокойном характере труда громко прозвучало в десятилетие депрессии. В 1937 году оно потрясло самые устои Верховного суда.[44]44
Bernstein, Lean Years, 196, 201, 414. Полный текст решения по делу Хитчмана см. 245 U.S. 229 (1917).
[Закрыть]
Организованное рабочее движение также погибало от доброты. Заповеди «капитализма благосостояния» находили все большее одобрение у менеджеров по персоналу, которые перенимали методы управления промышленностью, провозглашенные в начале века Фредериком Уинслоу Тейлором. Некоторые корпорации, как правило, крупные и выступающие против профсоюзов, стремились одновременно завоевать лояльность своих работников и обезвредить профсоюзных организаторов. Они создавали «профсоюзы компании» и предлагали бонусы к акциям и планы участия в прибылях, а также страхование жизни, места отдыха и даже пенсии по старости. Однако одной из заповедей капитализма всеобщего благосостояния было то, что контроль над всеми этими программами оставался в руках их корпоративного спонсора, который мог изменять или прекращать их по своему усмотрению. Когда наступил крах, преходящая щедрость работодателей с ужасом обнаружила себя как убогую замену подлинной силе коллективных переговоров, которую мог обеспечить только независимый профсоюз, или законным льготам, которые могло предоставить только федеральное правительство.
ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ ЖЕНЩИН, работавших за зарплату в 1929 году, были сосредоточены в небольшом количестве профессий, включая преподавание, канцелярскую работу, домашнее хозяйство и торговлю одеждой. По мере того как расширялся сектор услуг в экономике, увеличивалось и присутствие женщин в рабочей силе. В 1900 году женщины составляли около 18 процентов всех работников, а в 1930 году – 22 процента, когда примерно каждая четвертая женщина имела оплачиваемую работу. Типичная работающая женщина была не замужем и не достигла возраста двадцати пяти лет. Выйдя замуж, что делали почти все женщины, как правило, до двадцати двух лет, она вряд ли снова стала бы работать по найму, особенно пока у неё дома были дети. Только одна мать из десяти работала вне дома, а число пожилых работниц, с детьми или без, было незначительным. Даже на этом позднем этапе индустриальной эры традиционное разделение семейного труда, которое промышленная революция ввела столетием ранее: муж работал за зарплату вне дома, а жена – без зарплаты в нём, – все ещё сохраняло свою силу в американской культуре.[45]45
Recent Social Trends 1:277. См. также Alice Kessler-Harris, Out to Work: A History of Wage-Earning Women in the United States (New York: Oxford University Press, 1982), esp. chap. 8.
[Закрыть] Однако традиционные определения семьи и места женщины в ней ослабевали. Замужние женщины могли оставаться заметным меньшинством среди всех работающих женщин, но их число росло почти втрое быстрее, чем рост женской занятости в целом. Здесь, задолго до середины века, уже были заметны, хотя и слабо, динамичные изменения в структуре занятости женщин, которые к концу столетия изменят саму структуру семейной жизни.[46]46
Recent Social Trends 1:666. См. также Kessler-Harris, Out to Work, 229.
[Закрыть]
Другие свидетельства изменений в статусе женщин были более очевидны. В послевоенное десятилетие дебютировала легендарная «flapper», провозгласив с помощью искусных театральных приёмов новую этику женской свободы и сексуального паритета. Девятнадцатая поправка, принятая как раз к президентским выборам 1920 года, обеспечила женщинам хотя бы формальное политическое равенство. Поправка о равных правах, впервые предложенная Алисой Пол из Национальной женской партии в 1923 году, стремилась гарантировать женщинам полное социальное и экономическое участие. Организованное движение за контроль рождаемости, основанное Маргарет Сангер в 1921 году как Американская лига контроля рождаемости, стало предвестником растущего женского внимания к репродуктивному контролю и эротическому освобождению. Бесчисленное множество женщин, особенно если они были городскими, белыми и обеспеченными, теперь использовали новые технологии спермицидного желе и диафрагмы типа «Менсинга», которые впервые стали массово производиться в США в 1920-х годах, чтобы ограничить размер своей семьи. Такое развитие событий обеспокоило авторов «Последних социальных тенденций», которые опасались, что старый, белый, городской средний класс будет демографически поглощён увеличением числа сельских и иммигрантских бедняков, а также чернокожих.
Многие из этих событий обеспокоили хранителей традиционных ценностей, но другие они нашли приятными. Эксплуатация детского труда – практика, возмущавшая критиков от Чарльза Диккенса в викторианской Англии до Джейн Аддамс в Америке начала двадцатого века, – постепенно отступила, поскольку рост заработной платы позволил одному наемному работнику содержать семью. Если в 1890 году почти каждый пятый ребёнок в возрасте от десяти до пятнадцати лет был занят, то в 1930 году – менее одного из двадцати, хотя Верховный суд неоднократно отклонял попытки федеральных властей законодательно запретить детский труд.[47]47
Recent Social Trends 1:271ff. Закон о детском труде Китинга-Оуэна от 1916 года был признан недействительным Верховным судом в 1918 году в деле Хаммер против Дагенхарта (247 U.S. 251) на том основании, что закон незаконно опирался на торговую власть для регулирования местных условий труда. Четыре года спустя суд на аналогичных основаниях отменил второй закон о детском труде в деле Bailey v. Drexel Furniture (259 U.S. (20)). Эти дела символизировали социальный и экономический консерватизм Суда, который так возмущал реформаторов от Теодора Рузвельта до Франклина Рузвельта, чье недовольство в конце концов вылилось в печально известное предложение о «комплектовании Суда» в 1937 году (см. главу 11).
[Закрыть]
Меньше работающих детей означало больше детей в школе. Авторы книги «Последние социальные тенденции» нашли основания для радости в том, что в 1920-х годах впервые почти большинство учащихся старшего школьного возраста остались в школе, что означает восьмикратное увеличение числа учащихся старших классов с 1900 года. Это, по их мнению, «свидетельствует о самых успешных усилиях, которые когда-либо предпринимало правительство Соединенных Штатов».[48]48
Recent Social Trends 1:xlvii.
[Закрыть]
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСПЕХИ десятилетия были столь же дорогостоящими, сколь и впечатляющими. Практически все эти расходы легли на плечи штатов, как и большая часть расходов на улучшение дорог, по которым ездили все эти новые автомобили. Как следствие, задолженность штатов в 1920-е годы резко возросла, во многих случаях до формальных пределов, установленных законодательством, или до практических пределов, навязанных кредитными рынками. Налоги штатов и местных органов власти также резко выросли, значительно опередив темпы роста доходов населения. К 1929 году правительство на всех уровнях собирало в виде налогов долю национального дохода вдвое большую, чем в 1914 году. Американцы отдавали все большую долю своего богатства не только на личное потребление, но и на коллективные цели, и многие из них возмущались этим. Хотя 15 процентов стоимости валового национального продукта, которые пошли на налоги в 1929 году, выглядели ничтожными по более поздним меркам, они представляли собой исторически беспрецедентный налоговый удар и начали вызывать политическую реакцию. Раздающиеся крики о «сбалансированном бюджете» и ограничении государственных расходов доносились не только из затхлых хранилищ фискальной ортодоксии, но и из горла граждан, чьи налоговые счета удвоились чуть более чем за десятилетие.[49]49
Recent Social Trends 2:1333–39.
[Закрыть]
Федеральное правительство также значительно увеличило налоговые сборы, хотя большая часть этих новых поступлений шла не на оплату новой социальной инфраструктуры, такой как образование и дороги, а на обслуживание долга, возникшего в ходе мировой войны. Более позднему поколению долг, образовавшийся в результате войны, может показаться пустяком, но для современников он был огромным – около 24 миллиардов долларов, что в десять раз превышало задолженность, образовавшуюся в результате Гражданской войны. Процентные выплаты по государственному долгу выросли с незначительного уровня в 25 миллионов долларов в год до 1914 года до самых крупных государственных расходов в 1920-х годах: почти миллиард долларов в год, или треть федерального бюджета.
Вместе с расходами на пособия ветеранам – ещё одним обязательством, которое выросло из-за войны, – выплаты по процентам составляли более половины федерального бюджета в послевоенное десятилетие. Расходы на скромную армию численностью около 139 000 человек и флот численностью около 96 000 моряков составляли практически всю оставшуюся часть. За пределами этих статей, все из которых были связаны с национальной безопасностью, федеральное правительство тратило и мало что делало. Калвин Кулидж без особого преувеличения сказал: «Если федеральное правительство прекратит своё существование, обычные люди не заметят разницы в делах своей повседневной жизни в течение значительного времени». Роль федерального правительства в их жизни была настолько незначительной, что большинство граждан даже не удосужились проголосовать на президентских выборах. Впервые с момента возникновения демократической политики на основе масс в эпоху Эндрю Джексона уровень участия в выборах упал ниже 50% на выборах 1920 года; в 1924 году он ещё больше снизился. Некоторые наблюдатели объясняли такое стремительное падение недавним наделением женщин избирательными правами, которые были в значительной степени незнакомы с избирательным бюллетенем и, возможно, были вполне оправданно равнодушны к национальному политическому аппарату, который, в свою очередь, был безразличен к их конкретным политическим интересам. Другие указывали на очевидную политическую апатию иммигрантов, многие из которых ещё не взяли на себя постоянное обязательство остаться в Соединенных Штатах. Однако женщины и иммигранты могли быть лишь частными случаями общего безразличия американской культуры к федеральному правительству, которое оставалось далёким, тусклым и неподвижным телом на политическом небосклоне.[50]50
Кулидж цитируется по Schlesinger 1:57.
[Закрыть]
С момента избрания Уильяма Маккинли в 1896 году, с единственным перерывом на президентство Вудро Вильсона с 1913 по 1921 год, федеральное правительство надежно находилось в руках Республиканской партии. Гровер Кливленд, президент с 1885 по 1889 год и снова с 1893 по 1897 год, был единственным демократом, кроме Вильсона, который занимал Белый дом со времен Гражданской войны. На протяжении нескольких поколений после Аппоматтокса демократы во многом сохраняли характер чисто региональной партии, единственной надежной электоральной базой которой был «твёрдый Юг». Они боролись за победу на президентских выборах с переменным успехом, добавляя к этому ядру поддержки те голоса, которые могли собрать иммигрантские общины в северо-восточных городах, таких как Бостон и Нью-Йорк. Иногда они также могли рассчитывать на поддержку в «Баттернут» регионах штатов Иллинойс – Индиана – Огайо, населенных в основном белыми мигрантами со Старого Юга, которые по-прежнему придерживались южных взглядов и политических предпочтений.
Демократы, сильные в хлопковом регионе, в целом соглашались с политикой низких тарифов, но мало с чем ещё. Твердолобые «бурбонские» демократы в духе Гровера Кливленда столкнулись с инфляционистами, извечным чемпионом которых был Уильям Дженнингс Брайан, «мальчик-оратор с Платты», «великий простолюдин», чья поразительная деревенскость символизировала экономическую и культурную пропасть, отделявшую Мэйн-стрит от Уолл-стрит. Такие самодельщики, как Джеймс Майкл Керли из Бостона или Эл Смит и Роберт Вагнер из Нью-Йорка, защитники труда, вырвавшиеся из иммигрантских гетто вроде Роксбери или Адской кухни, неловко сидели в партийных советах с хлопковыми баронами Юга вроде сенатора от Миссисипи Пэта Харрисона или сельскими техасцами вроде Джона Нэнса Гарнера – людьми, которые видели в дешевой, не профсоюзной рабочей силе главный экономический ресурс своего региона. Церебральные реформаторы вроде профессора права из Гарварда Феликса Франкфуртера с трудом уживались в одной партии с антипопулистскими демагогами вроде Хьюи Лонга из Луизианы. Культурные различия также раскалывали партию по тем же линиям, которые отделяли католиков и евреев от протестантов старой закалки, разделяли противников сухого закона «мокрых» от фундаменталистов «сухих» и отдаляли городских иммигрантов от сельских клансменов. Эти противоречивые силы вступили в такой непримиримый конфликт на съезде демократов по выдвижению кандидатов в президенты в 1924 году в Нью-Йорке, что только после 103 голосований усталые и измученные делегаты пришли к компромиссному варианту. Его возглавил адвокат корпорации Джон В. Дэвис, а вице-президентом стал губернатор Небраски Чарльз В. Брайан, брат Великого простолюдина. Сокрушительное поражение Дэвиса от Калвина Кулиджа, казалось, подтвердило подозрения многих аналитиков, что бурлящую, раздробленную толпу, известную как Демократическая партия, никогда не удастся превратить в слаженный инструмент управления. «Я не принадлежу ни к одной организованной политической партии», – подметил любимый американский юморист Уилл Роджерс. «Я – демократ».
Решающая победа Гувера над Элом Смитом в 1928 году стала решающим фактором. Смит был не просто побежден. Он был унижен, став жертвой избирательного унижения, которое, возможно, способствовало его последующей политической трансформации из героя рабочего класса в озлобленного противника «Нового курса». После кампании, печально известной религиозным фанатизмом в отношении католиков Смита, Гувер одержал одну из самых решительных побед в истории американских президентских выборов. Он даже пробил твёрдый Юг, выиграв пять бывших штатов Конфедерации. Смит взял Массачусетс, Род-Айленд и шесть штатов «чёрного пояса» – Южную Каролину, Джорджию, Алабаму, Миссисипи, Арканзас и Луизиану, которые придерживались традиционной демократической верности. Это все. Остальная часть страны громогласно отвергла кандидата, который был не только католиком, но и «мокрым» противником сухого закона, а также хриплым символом городской иммигрантской культуры, которую Америка все ещё не готова была признать своей собственной. Демократы утешались тем, что Смит собрал большинство голосов в дюжине крупнейших городов, предвещая городскую коалицию, которую «Новый курс» полностью сформирует в следующем десятилетии.[51]51
Samuel Lubell, The Future of American Politics (New York: Harper and Row, 1952), впервые выдвинул аргумент, что «до революции Рузвельта была революция Эла Смита», которая начала процесс объединения в прочное электоральное большинство городских этнических избирателей, поддерживавших «Новый курс» и Демократическую партию в течение всего периода после Второй мировой войны. Эта точка зрения была резко опровергнута Allan J. Lichtman, Prejudice and the Old Politics (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1979), в этой работе делается вывод о том, что городское большинство Смита было бумажным и что, следовательно, не события 1920-х годов, а катастрофа Депрессии по-настоящему изменила американское политическое поведение.
[Закрыть]
Республиканская партия, как и всегда, была более однородной в экономическом и этническом плане, чем Демократическая, но и она, в манере массовых, «всеобъемлющих» американских партий, содержала свои собственные конфликтующие элементы. Под руководством Теодора Рузвельта в первом десятилетии века республиканцы в течение короткого сезона пытались вернуть себе право называться партией реформ. Но ТР вывел своих прогрессивных последователей из рядов республиканцев в раскол третьей партии «Бычий лось» в 1912 году. Тем самым он обеспечил избрание Вильсона и способствовал укреплению власти консерваторов в GOP. Некоторые бывшие «быки», например чикагский реформатор и будущий министр внутренних дел Гарольд Икес, стали демократами только по названию; другие, как сенатор от Небраски Джордж Норрис, оказались в бессильном меньшинстве в партийных советах во время триумфального восхождения консерваторов в 1920-е годы.
Прогрессисты времен Теодора Рузвельта были очень разными людьми, и некоторые из их разногласий, часто громко, отражались на протяжении всего «Нового курса». Но их объединяло стремление, как говорил Уолтер Липпманн, заменить мастерство на дрейф, или, как мог бы выразиться Гувер, социальное планирование на laissez-faire: короче говоря, стремление использовать правительство в качестве агентства по обеспечению благосостояния людей. Прогрессисты всех убеждений считали, что правительство должно как-то контролировать феноменальную экономическую и социальную мощь, которую современный индустриализм концентрировал все в меньшем и меньшем количестве рук. Больше нельзя было считать, что общественные интересы просто естественным образом вытекают из конкуренции множества частных интересов. Требовалось активное государственное руководство.
Консервативные республиканцы, вернувшие себе Конгресс в 1918 году и Белый дом в 1920-м, мало интересовались любой формой активности правительства. Республиканские администрации 1920-х годов отказались от многих прогрессивных политик или отменили их, а большинство других уничтожили. Генеральный прокурор Хардинга, Гарри М. Догерти, в 1922 году погасил забастовку железнодорожников, успешно подав федеральному судье прошение о самом удушающем антирабочем запрете, который когда-либо издавался. В том же году Конгресс вернулся к традиционному республиканскому протекционизму: Тариф Фордни-МакКамбера поднял импортные пошлины до запретительного уровня, существовавшего до мировой войны. В 1925 году Кулидж назначил на пост председателя Федеральной торговой комиссии человека, который считал комиссию «инструментом угнетения, беспорядков и вреда», что лишь слегка преувеличивает мнение консерваторов обо всех регулирующих органах. Администрации Хардинга и Кулиджа противостояли прогрессивным предложениям о строительстве на федеральном уровне гидроэлектростанций на реке Теннесси, в частности в Маскл-Шоалс, штат Алабама. А приспешники Хардинга продемонстрировали своё хищническое отношение к экологическим ценностям страны в скандалах с Teapot Dome и Elk Hills, когда они пытались сдать нефтяные запасы ВМС США в Вайоминге и Калифорнии в аренду частным компаниям, с которыми были связаны.[52]52
Уильям Э. Хамфри цитируется по Schlesinger 1:65.
[Закрыть]
Никто лучше не олицетворял хриплые заповеди laissez-faire, которые теперь были вновь закреплены в политике, чем флегматичный преемник несчастного Хардинга, Калвин Кулидж. «Мистер Кулидж был настоящим консерватором, возможно, равным Бенджамину Гаррисону», – говорил Герберт Гувер, который часто враждовал со своим шефом. «Он был фундаменталистом в религии, в экономическом и социальном устройстве, а также в рыбалке», – добавил Гувер, который с презрением относился к бесхитростному использованию Кулиджем червей. Известный своей молчаливостью, Кулидж время от времени произносил ёмкие лозунги, которые подводили итог консервативной республиканской ортодоксии. «Главное дело американского народа – это бизнес», – легендарно произнёс он в 1925 году. В другой раз он заявил несколько более экспансивно: «Человек, который строит фабрику, строит храм; человек, который там работает, поклоняется ему».[53]53
Hoover, Memoirs: The Cabinet and the Presidency, 56; Кулидж цитируется по Schlesinger 1:57.
[Закрыть]
Эпиграммы Кулиджа точно отражали принципы бережливости и laissez-faire, которые лежали в основе федеральной политики 1920-х годов. Немногочисленные и хрупкие органы позитивного государства, порожденные довоенными прогрессистами, зачахли от безделья. Кулидж лично отклонил амбициозные планы Герберта Гувера по финансируемым из федерального бюджета проектам управления реками, особенно на иссушенном Западе, поскольку посчитал их слишком дорогими. На тех же основаниях он наложил вето на предложения о помощи фермерам и об ускоренных «бонусных» выплатах ветеранам мировой войны. Он сопротивлялся всем попыткам реструктурировать 10 миллиардов долларов военных долгов союзников перед американским казначейством. («Они наняли деньги, не так ли?» – заявил он в очередной порции политических резюме). Довольный «процветанием Кулиджа», он мирно и часто дремал. Он разыгрывал слуг Белого дома. Он хранил молчание. («Если вы ничего не скажете, к вам не обратятся за повторением», – говорил он.) Позднее Гувер вспоминал, что он считал, что девять из десяти проблем «уйдут в канаву раньше, чем дойдут до вас», и поэтому их можно спокойно игнорировать. «Проблема с этой философией, – комментировал Гувер, – заключалась в том, что когда десятая беда настигала его, он был совершенно не готов к ней, и к тому времени она приобретала такой импульс, что предвещала катастрофу». Ярким примером этого стал бум и оргия безумных спекуляций, начавшаяся в 1927 году, в связи с которыми он отверг или обошел стороной все наши тревожные призывы и предупреждения «принять меры». Со своей стороны, Кулидж сказал о Гувере в 1928 году: «Этот человек давал мне непрошеные советы в течение шести лет, и все они были плохими».[54]54
Hoover, Memoirs: The Cabinet and the Presidency, 56; Wilson, Herbert Hoover, 122.
[Закрыть]








