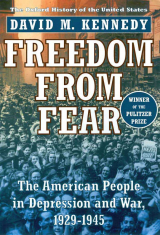
Текст книги "Свобода от страха. Американский народ в период депрессии и войны, 1929-1945 (ЛП)"
Автор книги: Дэвид М. Кеннеди
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 73 страниц)
Когда 1934 год подошел к концу и начался третий год «Нового курса», выздоровления все ещё не было видно. Любопытная пассивность американского народа, вызывавшая недоумение стольких наблюдателей, сходила на нет, уступая место нарастающему чувству недовольства и беспокойному требованию ответов. Особенно в разоренной сельской местности, которая была первой заботой Гувера и Рузвельта, дела шли все хуже и хуже. В великой долине Миссисипи и на северных равнинах, а также в мрачных кварталах рабочего класса промышленных городов Северо-Востока ропот недовольства наконец-то грозил перерасти в крик о революции.
7. Погоня за призраком выздоровления
Я фермер… Прошлой весной я думал, что вы действительно намерены что-то сделать для этой страны. Теперь я все бросил. Отныне я клянусь вечно мстить финансовым баронам и буду делать все возможное, чтобы наступил коммунизм.
– Фермер из Индианы Франклину Д. Рузвельту, 16 октября 1933 г.
В октябре 1933 года Лорена Хикок направила Блюэтт на запад, в аграрные земли Америки, и вернулась к местам своего детства.
Депрессия здесь «длится уже 10 или 12 лет», – напомнила она Хопкинсу из Айовы. «Эти равнины прекрасны, – писала она Элеоноре Рузвельт из Северной Дакоты. – Но, о, ужасная, давящая серость здешней жизни. И страдания, как людей, так и животных… Большинство фермерских зданий не красили уже Бог знает сколько времени… ! Если бы мне пришлось жить здесь, думаю, я бы просто тихонько закончил жизнь и покончил с собой… Люди здесь……находятся в оцепенении. Над этим местом висит какой-то безымянный ужас».[336]336
Richard Lowitt and Maurine Beasley, eds., One Third of a Nation: Lorena Hickok Reports on the Great Depression (Urbana: University of Illinois Press), 73.
[Закрыть]
По мере того как NRA включала в свои кодовые соглашения все новые и новые отрасли, цены на промышленную продукцию стабилизировались, а затем и вовсе выросли. Но в сельском хозяйстве – секторе, который «Новый курс» считал наиболее нуждающимся в оживлении и с которым связывал свои главные надежды на восстановление, – цены оставались на уровне менее 60 процентов от уровня 1929 года. Фермеры чувствовали себя обманутыми. В ноябре в фермерских округах Миннесоты Хикок отметила «ожесточение по отношению к NRA… NRA совсем не популярна, если быть уверенным. А как же иначе?» – спросила она. Цены, которые платили фермеры, «действительно росли быстрее, чем их доходы».[337]337
Lowitt and Beasley, One Third of a Nation, 74, 117.
[Закрыть] Удивительно, но «Новый курс» в 1933 года, казалось, усугублял, а не решал проблему «равновесия» в американской экономике. «Мы долго терпели и мучились, – сказал один из руководителей фермерских хозяйств в октябре 1933 года. Нам обещали „Новый курс“… Вместо этого мы имеем все ту же старую колоду».[338]338
Davis 3:89.
[Закрыть]
В округе Мортон, Северная Дакота, Хикок вышла с собрания в «маленькой обшарпанной деревенской церкви» и обнаружила нескольких фермеров, одетых во все джинсы, которые у них были, сгрудившихся внутри её машины в поисках тепла. Когда зима сомкнула свои тиски над северными равнинами, фермеры сжигали коровий навоз («буйволиную щепу») и камыш, нарезанный из высохших озерных русел, в качестве топлива. Страдали даже животные. «Положение домашнего скота, – писала Хикок, – плачевно». Дойные коровы высыхали из-за нехватки корма. У фермеров, имеющих право на участие в дорожных работах, не было достаточно здоровых упряжек, чтобы тянуть дорожные скреперы. «Полуголодные лошади падали в упряжке, – рассказывала Хикок, – прямо на дорожных работах… Они даже собирали русский чертополох, чтобы кормить им своих лошадей и скот. Русский чертополох, к вашему сведению, – объяснила она Хопкинсу, – это растение с мелкими корнями, которое осенью засыхает и разлетается по прериям, как мотки колючей проволоки. Влияние на пищеварительный аппарат животного… я думаю, будет таким же, как если бы оно съело колючую проволоку». Через несколько дней в соседней Южной Дакоте она обнаружила, что жены фермеров кормят своих детей супом из русского чертополоха.[339]339
Davis 3:55–60, 91, 96.
[Закрыть]
«Южная Дакота, – сообщала она Хопкинсу, – это „Сибирь“ Соединенных Штатов. Более безнадежного места я никогда не видела. Половина людей – особенно фермеры – напуганы до смерти… Остальные люди апатичны». Она излила свои чувства Элеоноре Рузвельт: «О, эти бедные, запутавшиеся люди, живущие своей унылой жизнью… И, Боже мой, какие семьи! Сегодня я была у женщины, у которой десять детей и она собирается завести ещё одного. У неё их так много, что она не называет их по именам, а обращается к ним „эта маленькая девочка“ и „этот маленький мальчик“». Хикок писала:
Далеко в обдуваемой ветрами прерии, в том, что когда-то было домом, ремонт не проводился годами. Пол в кухне был застелен кусками жести… Со стен обвалилась штукатурка. В щели между окнами были засунуты газеты. А в этом доме бегали два маленьких мальчика… без единого шва, кроме поношенного комбинезона. Ни обуви, ни чулок. Их ноги были багровыми от холода… Вот из чего, дорогая леди, состоят фермерские забастовки и аграрные революции. Коммунистические агитаторы сейчас здесь, работают среди этих людей.
Страна к западу от реки Миссури, – заявила она, начисто развенчав священные догматы пограничного бунтарства, – «никогда не должна была быть открыта».[340]340
Davis 3:83, 90, 60–61, 83–85.
[Закрыть] Бедственное положение жителей прерий оказалось ещё хуже, чем Хикок помнила со времен своего девичества. Суровая реальность и неослабевающие масштабы сельской бедности явно поразили её. Возможно, она читала «Табачную дорогу», бестселлер Эрскина Колдуэлла 1932 года о похоти и нищете в глубинке Джорджии, или, будучи в гостях у Элеоноры в Нью-Йорке, даже видела сценическую адаптацию романа Колдуэлла, которая тогда шла с аншлагами на Бродвее. Но никакая художественная литература, даже мелодраматическая «Гроздья гнева» Джона Стейнбека, написанная позже, в десятилетие депрессии, не могла в полной мере отразить безлюдные факты американской сельской жизни.
В середине 1930-х годов только 16 процентов фермерских семей получали доход выше национального медианного уровня в пятнадцать сотен долларов в год. Более половины всех фермерских семей имели годовой доход менее тысячи долларов. В 1934 году доход на душу населения в фермерских хозяйствах составлял всего 167 долларов. В том же году, даже после усилий CWA, только в одном фермерском доме из десяти был крытый туалет; только в одном из пяти было электричество. Частые беременности, роды без медицинской помощи, недоедание, пеллагра, малярия, анкилостома и другие паразиты требовали больших затрат человеческой жизни и энергии. Более чем в тринадцати сотнях сельских округов, в которых проживало около семнадцати миллионов человек, не было ни одной больницы общего профиля, а в большинстве из них не было даже медсестры общественного здравоохранения. Неграмотность в сельских районах встречалась в два раза чаще, чем в городах. Почти миллион сельских детей в возрасте от семи до тринадцати лет вообще не посещали школу. В этой общей удручающей картине юго-восточные штаты были самыми неблагополучными. Издольщики и арендаторы, аграрный класс, особенно сосредоточенный на старом Юге, были, вероятно, самыми бедными американцами. Исследование, проведенное среди издольщиков в четырех южных штатах, показало, что средний годовой денежный доход белых семей составляет 350 долларов, а чёрных – 294 доллара.[341]341
Anna Rochester, Why Farmers Are Poor (New York: International Publishers, 1940), 11–13; HSUS, 483.
[Закрыть]
Хикок нашла Средний Запад «унылым» зимой 1933–34 годов, но даже отрезвляющие сцены нужды и лишений, с которыми она столкнулась в Дакотах, не смогли подготовить её к тому, что она увидела на Юге в начале 1934 года. «Я просто не могу описать вам некоторые вещи, которые я видела и слышала здесь в последние несколько дней. Я никогда их не забуду – никогда, пока жива», – писала она Хопкинсу из Джорджии в январе. Рабочие южных ферм, «полуголодные белые и негры», – сообщала она, – «борются за то, чтобы есть меньше, чем моя собака получает дома, за привилегию жить в хижинах, которые бесконечно менее удобны, чем его конура». Хикок признавала, что Депрессия, безусловно, погубила регион, но она была достаточно проницательна, чтобы заметить, что на её глазах накапливались ужасающие плоды поколений бедности, пренебрежения и расового угнетения. «Если в штате и существует школьная система, то она просто не функционирует», – писала она. «Она не может. Дети просто не могут ходить в школу, сотни детей, потому что у них нет одежды. Неграмотные родители сотен других не отправляют их в школу. В результате в некоторых сельских районах вы видите сотни мальчиков и девочек в подростковом возрасте, которые не умеют ни читать, ни писать. Я не преувеличиваю… Некоторые из них едва могут говорить!»[342]342
Lowitt and Beasley, One Third of a Nation, 158–59.
[Закрыть]
В цитрусовых рощах Флориды она обнаружила сезонных сельскохозяйственных рабочих, живущих фактически в состоянии «пеона», даже когда близлежащие туристические отели были «с комфортом заполнены». Флоридские цитрусоводы, – возмущалась она, – «обманули весь мир… за то, что они подлые, эгоистичные и безответственные». В феврале в Северной Каролине она дала волю своему негодованию по поводу исторических преступлений системы издольщиков и намекнула на угрозу, которую даже скромные, нерешительные программы раннего «Нового курса» уже начали представлять для южных нравов:
Правда в том, что сельский Юг никогда не выходил за рамки рабского труда… Когда у них забрали рабов, они приступили к созданию системы пеонажа, которая была настолько близка к рабству, насколько это вообще возможно, и включала как белых, так и чёрных. Во время Депрессии патерналистскому домовладельцу пришлось несладко, чтобы «обставить» своих арендаторов [предоставить кредит на семена, инструменты и продукты]. Он был чертовски рад, что мы взяли на себя эту работу. Но теперь, обнаружив, что CWA взяла на себя часть этого избытка рабочей силы… он в панике, понимает, что ему, возможно, придётся пойти на более выгодные условия с арендаторами и платить поденщикам больше, и поднимает страшный вой против CWA. Что бы мы ни делали здесь, что бы ни отнимало избыток сельской рабочей силы, это заставит этих фермеров вопить.[343]343
Lowitt and Beasley, One Third of a Nation, 164–65, 186–87.
[Закрыть]
Некоторые из этих домовладельцев и их политические покровители кричали прямо президенту Рузвельту. Когда один из фермерских рабочих написал губернатору Джорджии Юджину Талмаджу, что «я не буду пахать ни на чьем муле от восхода до заката за 50 центов в день, когда я могу получить 1,30 доллара за то, что притворяюсь, что работаю на канаве», Талмадж переслал письмо в Белый дом. «Я так понимаю… что вы одобряете оплату фермерского труда от 40 до 50 центов в день», – горячо ответил Рузвельт. «Почему-то я не могу вбить себе в голову, что зарплата такого масштаба позволяет обеспечить разумный уровень жизни американцев».[344]344
Schlesinger 2:274. Рузвельт продиктовал этот ответ Талмаджу, но отправил письмо за подписью Гарри Хопкинса.
[Закрыть]
По всему Югу Хикок снова и снова слышала одни и те же жалобы: что CWA, в отличие от NRA, отказывается признавать исторически сложившиеся различия в оплате труда чернокожих и белых; что перспектива федеральных выплат по льготам засасывает низкооплачиваемых сельскохозяйственных рабочих, особенно чернокожих, в такие города, как Саванна, где они грозят стать постоянным классом социального обеспечения; что «федеральное правительство пришло сюда и заставило всех бездельников работать за большие деньги, чем когда-либо платили за труд здесь раньше»; что настойчивое стремление многих федеральных чиновников «приструнить негров» возбудило южных чернокожих и грозит взорвать неустойчивую расовую систему региона.[345]345
Lowitt and Beasley, One Third of a Nation, 154; Leuchtenburg, 138.
[Закрыть] Эти критические замечания обнажили глубину экономической отсталости региона, а также трудности, связанные с любой политикой, которая могла бы нарушить напряженную мембрану классовых и расовых отношений на Юге.
Дальше к западу, в регионе, в центре которого соприкасаются Техас и Оклахома, природа и человек сговорились к 1930-м годам, чтобы породить экологическую и человеческую катастрофу под названием «Пыльная чаша». Пионеры, которые первыми вышли на высокие южные равнины, назвали себя «дерноуборщиками» и принялись ломать саму землю. К 1920-м годам их тракторы сдирали кожу с земли, царапая её хрупкое лицо, чтобы посадить все большие урожаи, больше хлопка и пшеницы, чтобы везти их на рынок, поскольку цены за тюк и бушель неуклонно падали. Они заделывали землю бороздами, которые вымывали акры верхнего слоя почвы, когда шли дожди. Когда в 1930 году дожди прекратились, израненная земля растрескалась, и сухая трава хрустела под сапогами людей. К 1934 году в некоторых районах на глубине трех футов в измученной почве не было никакой влаги. Ветер поднимал поверхностный порошок в небо, создавая высоченные восьмитысячефутовые волны, известные как «чёрные метели». Огромные земляные тучи поднимались над землей и обрушивались на города на востоке. Одна пыльная буря настолько затемнила Грейт-Бенд, штат Канзас, что один из жителей утверждал: «Леди Годива могла проехать по улицам так, что даже лошадь её не заметила». Канзасский газетчик Уильям Аллен Уайт сравнил это явление с пеплом, похоронившим Помпеи. В традициях приграничных небылиц есть анекдот о том, как фермер из «Пыльной чаши» потерял сознание, когда капля воды попала ему в лицо; он ожил только тогда, когда на него высыпали три ведра песка.
В годы депрессии «Пыльная чаша» выкосила тысячи «бывших». Их обычно называют «оки», но хотя более трехсот тысяч человек были вывезены из Оклахомы, ещё больше тысяч приехали из Техаса, Канзаса и Колорадо. Они были такими же жертвами собственных методов ведения сельского хозяйства, как и жестокости природы. «Хватка и жадность», – сказал журналист Кери Маквильямс, наказали их не меньше, чем пыль и тракторы. В основном они попали в Калифорнию, хотя и в другие места тоже, и вскоре стали символами самых страшных бедствий десятилетия. Их история была похожа на перевернутую версию эпической американской сказки. Они были беженцами из сказочного сердца, покинувшими прерии, которые манили их предков на запад, печальными свидетельствами гибели мечты об Америке как о нераскрытом рудном пласте с неисчерпаемыми богатствами, уже не подающими надежды пионерами, а удрученными беженцами. Фотограф Доротея Ланж и её муж, экономист Пол Тейлор, запечатлели их исхудавшие лица и записали их скудные истории в книге «Американский исход: история человеческой эрозии», опубликованной в 1938 году. В следующем году Джон Стейнбек подарил литературное бессмертие переселенцам из Оки в своём романе-бестселлере «Гроздья гнева», по которому в 1940 году был снят популярный фильм.[346]346
Donald Worster, Dust Bowl: The Southern Plains in the 1930s (New York: Oxford University Press, 1979); and James N. Gregory, American Exodus: The Dust Bowl Migration and Okie Culture in California (New York: Oxford University Press, 1989).
[Закрыть]
На Среднем Западе, который, помимо Юга, был ещё одним крупным сельскохозяйственным регионом страны, тем временем назревали свои собственные проблемы. В отличие от Юга, где сравнительно небольшое число помещиков-баронов владело огромными земельными участками, здесь преобладали семейные фермы в разросшихся поясах кукурузы, пшеницы, крупного рогатого скота и молочных продуктов, которые тянулись через широкий Средний континент, через Палузу на Тихоокеанском Северо-Западе и в зелёную впадину Пьюджет-Уилламетт на западе Вашингтона и Орегона. (В Калифорнии, штате с крупнейшим в стране объемом сельскохозяйственного производства, структура землевладения больше походила на южную). Как правило, обремененные долгами, семейные фермы стали уходить с молотка аукциониста, поскольку банки сначала обращали взыскание на имущество, обеспечивавшее невыплаченные ипотечные кредиты, а затем пытались возместить часть стоимости, предлагая выкупленные фермы на продажу тому, кто предложит наибольшую цену. По всему Среднему Западу на аукционах собирались группы соседей, чтобы запугать потенциальных покупателей и заставить их отказаться от участия в торгах. В результате этой порой жестокой тактики фермы возвращались к своим первоначальным владельцам, иногда за символическую плату в один цент. К 1933 году шумная организация, Ассоциация фермерских праздников, возглавляемая Майло Рино, популистом из прерий и оратором в духе Уильяма Дженнингса Брайана, требовала прекратить конфискации и ввести санкционированные правительством кодексы для контроля производства и гарантирования цен в сельскохозяйственном секторе, как это делало NRA для промышленности.
Суровые самосуды часто сопровождали эти действия. В Ле-Марсе, штат Айова, в апреле 1933 года толпа фермеров, лица которых были закрыты синими косынками, похитила судью, отказавшегося приостановить процедуру взыскания долга, пригрозила ему линчеванием, сорвала с него одежду и оставила избитым, грязным и униженным в придорожной канаве. Вскоре губернатор Айовы перевел полдюжины графств на военное положение. Хикок рассказала о срыве распродажи залогового имущества в Южной Дакоте, когда «толпа с фермы» разоружила помощников шерифа и «закончила тем, что сорвала с шерифа одежду и сильно избила его».[347]347
Lowitt and Beasley, One Third of a Nation, 79.
[Закрыть]
В октябре 1933 года Рино призвал к «фермерской забастовке», если не будут выполнены его требования: инфляция валюты, мораторий на отчуждение имущества и, самое главное, поддержка цен на фермерские продукты. Для пущей убедительности Рино бросил пощечину «денежным лордам с Уолл-стрит». На шумном собрании в Де-Мойне, штат Айова, 30 октября губернаторы Северной и Южной Дакоты, Айовы, Миннесоты и Висконсина одобрили программу Рино. Губернатор Северной Дакоты Уильям Лангер уже пригрозил использовать Национальную гвардию своего штата для введения эмбарго на поставку любой пшеницы из Северной Дакоты по цене ниже «себестоимости». Даже когда пять губернаторов отправились в составе группы из Де-Мойна в Вашингтон, чтобы выдвинуть эти требования, в верхней части долины Миссисипи вспыхнули новые вспышки насилия. Бастующие фермеры переворачивали чаны с молоком, блокировали дороги и препятствовали доставке крупного рогатого скота и свиней на большие скотопригонные склады в Омахе. Тем временем инфляционисты, такие как Элмер Томас из Оклахомы, угрожали миллионным маршем на Вашингтон, чтобы заставить администрацию подчиниться. «Запад кипит от волнений», – признал Рузвельт, и фермеры «должны иметь более высокие цены, чтобы расплатиться с долгами».[348]348
Schlesinger 2:236–37.
[Закрыть]
Гром, грянувший в сельскохозяйственном поясе, побудил Рузвельта начать всерьез проводить инфляционную политику, к которой его отказ от участия в Лондонской экономической конференции подготовил почву. Президент принял весьма сомнительную теорию корнельского профессора Джорджа Ф. Уоррена о том, что значительные государственные закупки золота подстегнут инфляцию и тем самым одновременно уменьшат долговое бремя и повысят цены на товары. Ортодоксальные банкиры и ведущие экономисты были в шоке. Рузвельт отмахнулся от их возражений. «Я хотел бы, чтобы наши друзья-банкиры и экономисты осознали серьезность ситуации с точки зрения классов должников… и меньше думали с точки зрения тех 10 процентов, которые составляют классы кредиторов», – сказал он своему секретарю казначейства. В конце октября Рузвельт объявил в беседе у камина, что Финансовая корпорация реконструкции начнёт закупать добытое в США золото по «ценам, которые будут определяться время от времени после консультаций с министром финансов и президентом… Таким образом, мы продолжаем двигаться в сторону управляемой валюты».[349]349
Schlesinger 2:240.
[Закрыть]
После этого произошел один из самых странных эпизодов в истории американских финансов. Каждое утро в течение следующих нескольких недель Рузвельт за яичницей называл цену, по которой правительство будет покупать золото в этот день. Люди с твёрдыми деньгами с отвращением покидали администрацию. Рузвельт лично уволил одного из видных несогласных, заместителя министра финансов Дина Ачесона.
Когда в январе 1934 года программа покупки золота завершилась, цена золота выросла с 20,67 доллара за унцию до 35 долларов. Доллар потерял около 40% своей валютной стоимости, измеряемой в золоте, – девальвация, которая теоретически могла бы способствовать росту американского экспорта, но на самом деле не принесла ничего, кроме ещё больших финансовых потрясений немногим оставшимся торговым партнерам Америки. Внутренние цены на сырьевые товары, тем временем, фактически немного снизились в конце 1933 года. Подобно спору с треском, схема скупки золота развивалась от сомнительных предпосылок к нелепому завершению. Наблюдая за происходящим из Англии, Джон Мейнард Кейнс заметил, что манипуляции Рузвельта с валютой «больше похожи на золотой стандарт под алкоголем, чем на идеальную управляемую валюту моей мечты». Вскоре после этого Кейнс позвонил Рузвельту в Белый дом. «Я видел вашего друга Кейнса», – сказал озадаченный президент министру труда Фрэнсису Перкинсу. «Он оставил целую кучу цифр. Должно быть, он скорее математик, чем политический экономист». В качестве Кейнса он несколько недипломатично заметил Перкинсу, что «предполагал, что президент более грамотен в экономическом плане».[350]350
Keynes, «Open Letter to President Roosevelt», New York Times, December 31, 1933, sec. 8, 2; Frances Perkins, The Roosevelt I Knew (New York: Viking, 1946), 225–26. Инфляционисты получили ещё один удар, когда в июне 1934 года им удалось принять Закон о закупке серебра. Он обязывал правительство покупать серебро у отечественных производителей до тех пор, пока государственные серебряные запасы не достигнут стоимости одной трети золотого запаса – значительное улучшение по сравнению с брайановским соотношением «16 к 1». Однако правительство монетизировало лишь часть своих серебряных запасов в виде монет и «серебряных сертификатов» малого номинала, которые обращались ещё почти тридцать лет. В итоге Закон о покупке серебра стал не столько триумфом инфляционистов, сколько ошеломляющей победой серебродобывающей промышленности, которая воспользовалась удобным политическим моментом, чтобы гарантировать государственные закупки своей продукции по совершенно искусственным ценам.
[Закрыть] Покупка золота удовлетворила зуд Рузвельта к действиям, даже необоснованным. Золотая схема служила и политическим целям президента. «Джентльмены, – читал он в конце октября лекцию группе скептически настроенных правительственных чиновников, – если бы мы продержались ещё неделю или около того без того, чтобы я сделал этот шаг в отношении золота, в стране произошла бы аграрная революция».[351]351
Schlesinger 2:242.
[Закрыть] Рузвельт преувеличивал революционные масштабы того, что происходило в американской сельской местности в 1933 году. Конечно, Лорена Хикок сообщала, что коммунистические организаторы пытались повлиять на движение «Праздник фермеров»; что Сиу-Сити, штат Айова, был «очагом „красных“»; и что фермеры в Императорской долине Калифорнии были «просто в истерике» по поводу коммунистов.[352]352
Lowitt and Beasley, One Third of a Nation, 79, 107, 306.
[Закрыть] Но несколько вспышек хулиганства и разрозненные разливы молока не сделали революции. Ассоциация фермеров-праздников, которая была не более чем отколовшейся группой Национального союза фермеров, самой маленькой из фермерских организаций, достигла пика своей силы и влияния после собрания в Де-Мойне 30 октября и вскоре угасла. В конечном итоге Хикок больше впечатлил не революционный потенциал множества разъяренных фермеров с вилами, а оцепенение и бездуховность, которые все ещё висели над большей частью фермерского пояса, словно знойная летняя дымка. «Мне сказали в Бисмарке, – сообщала она в тот самый день, когда состоялась встреча в Де-Мойне, – что в стране, которую я посетила сегодня днём, я найду много беспорядков – дух „фермерского праздника“. Не могу сказать, что это так. Они показались мне почти слишком терпеливыми».[353]353
Lowitt and Beasley, One Third of a Nation, 58.
[Закрыть]
Что бы ещё ни говорили по этому поводу, схема скупки золота позволила фермерскому поясу оставаться в относительном спокойствии достаточно долго, чтобы основные сельскохозяйственные программы «Нового курса» начали оказывать своё действие. К концу 1933 года контракты на рефинансирование, заключенные Администрацией фермерского кредита, начали спасать семейные фермы, которым грозило лишение права собственности. Вскоре выплаты пособий и товарные кредиты Администрации по регулированию сельского хозяйства также начали поступать в фермерский пояс. Как и промышленный сектор при NRA, сельское хозяйство начало медленно стабилизироваться. Но полноценное восстановление ещё долго не удавалось достичь фермерам страны, особенно самым бедным из них.
Покупка золота также отражала дух экономического изоляционизма «попрошайки-соседа», который лежал в основе раннего «Нового курса», а в глубинах Депрессии пропитал практически все канцелярии мира. Когда яростно националистически настроенный администратор AAA Джордж Пик выступил за вывоз за границу растущих сельскохозяйственных излишков Америки, министр сельского хозяйства Генри А. Уоллес, придерживавшийся международных взглядов, оборвал его не менее националистической репликой: «На данный момент мы должны действовать так, – объяснил Уоллес, – как будто мы являемся самодостаточной сельскохозяйственной экономикой».[354]354
Schlesinger 2:55.
[Закрыть] Заявление Уоллеса имело глубокие последствия. Экономическое спасение, по его мнению, зависело от экономической изоляции. Только в такой изоляции американские фермеры смогут справиться с демонами перепроизводства, которые мучили и приводили их к нищете на протяжении более десяти лет.
Бедственное положение фермеров стало классической иллюстрацией того, как легендарная «невидимая рука» Адама Смита в определенных обстоятельствах может оказаться неспособной обеспечить всеобщее благосостояние из множества конкурирующих собственных интересов. Как группа, американские фермеры ежегодно поставляли на рынок больше урожая, чем рынок мог поглотить по ценам, которые фермеры считали приемлемыми. Отдельные фермеры, что вполне логично, пытались сохранить свой уровень доходов, компенсируя снижение цен на единицу продукции увеличением её объема. Они обрабатывали больше гектаров, вносили больше удобрений, покупали больше тракторов, сеялок и комбайнов и вывозили на рынок ещё больший урожай. Но совокупность этих индивидуальных решений ещё больше затопила рынки и ещё больше снизила цены. Коллективное несчастье, а не общее благо, стало горьким плодом стремления фермеров к свободному рынку.
Как разорвать этот порочный круг – проблема, которая ставила в тупик сельскохозяйственных политиков на протяжении более десяти лет до 1933 года. Джордж Пик и другие сторонники закона Макнари-Хаугена в 1920-х годах стремились избавиться от излишков американского урожая за границей, переместив их на зарубежные рынки с помощью государственных субсидий, если это было необходимо. Президент Гувер пытался побудить фермерские кооперативы к созданию более упорядоченных сельскохозяйственных рынков и создал Федеральный фермерский совет для поддержки уровня цен путем государственных закупок излишков урожая. Но в неспокойной международной экономической обстановке 1933 года, когда все страны отчаянно искали убежища в политике протекционизма и автаркии, поиски Пика на внешних рынках были обречены с самого начала. Так же, как и пример быстро обанкротившегося Совета по сельскому хозяйству Гувера, обречены были любые сельскохозяйственные меры, которые не смогли ухватиться за красную нить сокращения фермерского производства.
«Новые курсовики» считали, что в сельскохозяйственной политике на карту поставлено гораздо больше, чем благосостояние фермеров. Большинство из них пошли дальше идеи секретаря Уоллеса о «самодостаточной сельскохозяйственной экономике». По их мнению, не только сельское хозяйство, но и вся американская экономика была практически самодостаточным образованием. Её континентальные масштабы и разнообразные физические ресурсы делали её менее зависимой от внешней торговли, чем практически любое другое современное государство. Политика Рузвельта по стабилизации обменного курса и золотого запаса изолировала её эффективнее, чем когда-либо. А внутри герметичного сосуда американской экономики, утверждали «новые курсовики», восстановление зависело прежде всего от установления нового «баланса» между производственным потенциалом и потребительской способностью путем изменения условий торговли между промышленностью и сельским хозяйством. Ни одна идея не пульсировала в самом сердце «Нового курса» в 1933 году с большей силой, чем убежденность в том, что от успеха усилий ААА по стимулированию потребительского спроса путем повышения доходов фермеров зависят надежды не только фермеров страны, но и самой нации.
Учитывая явные диспропорции в американской экономике в годы после Первой мировой войны – не говоря уже о национальной мифологии о крепких йоменах и благородных сыновьях и дочерях земли как опоре Республики, – идея о том, что фермеры – ключ к восстановлению, была неоспоримо привлекательной. В конце концов, фермеры все ещё составляли около 30 процентов рабочей силы. Многие американцы легко вспоминали ту не столь уж далёкую эпоху, когда фермеры составляли большинство населения США. Представители фермерских организаций искусно играли на аккордах национальной памяти, рассказывая о бедах сельской местности во времена Депрессии. Эти беды были вполне реальными. «Коэффициент паритета» – соотношение между ценами, которые фермеры получали за корзину товаров, которые они продавали, и ценами, которые они платили за корзину товаров, которые они покупали, – на протяжении всего десятилетия 1920-х годов так и не восстановился до уровня Первой мировой войны. После 1929 года он катастрофически упал. В конце 1920-х годов коэффициент паритета составлял 92 процента от того, что было в относительно благополучный базовый период 1910–14 годов. К 1932 году он опустился до 58 процентов. Общий доход фермерских хозяйств в 1932 году составлял менее одной трети от того, что было в и без того плохом 1929 году.[355]355
HSUS, 489.
[Закрыть]
Невозможно отрицать нищету и убожество, царившие в 1930-х годах в американской сельской местности. Нельзя отрицать и того, что экономически здоровый сельскохозяйственный сектор был бы полезен как для тех, кто жил и работал в нём, так и для их городских родственников, продававших им одежду, машины, книги и утварь. Но в вере «новых курсовиков» в возрождение сельского хозяйства как главного ключа к всеобщему процветанию было более чем много анахронизма, а в реакции самих фермеров на «Новый курс» – много грубого оппортунизма.
Относительное значение сельского хозяйства в американской экономике и относительная численность рабочей силы на фермах сокращались в течение длительного времени до наступления Депрессии. Глобальная конкуренция, механизация, повышение производительности сельского хозяйства и промышленный рост способствовали устойчивой миграции населения из страны в город, которая продолжалась на протяжении столетия или более – не только в Америке, но и практически во всём западном мире, о чём убедительно свидетельствуют миллионы перемещенных крестьян из долин Вислы и Дуная, с холмов Карпат и Апеннин, которые в течение десятилетий стекались в американские города. В Америке, как и в других странах в середине двадцатого века, долгосрочная динамика роста потребительского спроса и экономической жизнеспособности в наибольшей степени проявлялась не в сельской местности, а в промышленных городах. Популистское движение в конце XIX века стало ярким, хотя и горьким свидетелем этих событий. Когда Уильям Дженнингс Брайан в 1896 году насмехался над городскими жителями, что если они «уничтожат наши фермы… то на улицах всех городов страны вырастет трава», он ссылался на домашнюю, но уже устаревшую экономическую истину. На самом деле популизм был вызван вполне обоснованной тревогой по поводу того, что сельская местность неуклонно затмевается, что население, власть и экономическое лидерство все быстрее перетекают в города.
Именно на промышленность и города, на сталеплавильные печи и сборочные конвейеры, химические и электронные лаборатории могли бы направить основные усилия политики, стремившиеся к восстановлению экономики в 1933 году, при лучшем понимании истории. В этих отраслях был заложен потенциал новых технологий, обещавших в будущем огромную экономическую жизнеспособность. Но ностальгия, интеллектуальная инерция и политическое давление манили «новых курсовиков» назад, к кукурузным полям, сенокосам и пасторальным идиллиям национальной мифологии – и в гостеприимные объятия тощего и голодного сельскохозяйственного лобби. Популисты в 1890-х годах пытались вырвать из аграрного мифа некоторые политические уступки, чтобы смягчить последствия неумолимого экономического сокращения сельского хозяйства, и они проиграли. Но во время кризиса 1930-х годов аватары Брайана поднялись вновь. Они зазвучали все те же аграрные мифы и добились уступок, превосходящих самые роскошные мечты Великого Простолюдина. «Новый курс» заложил основу для системы фермерских субсидий, которая в конечном итоге высмеяла порывы пограничного индивидуализма и сделала сельскохозяйственный сектор фактически подопечным государства. Если не считать младенцев, запеленатых в материнских объятиях, ни один член американского общества не вышел бы из «Нового курса» с большей нежностью, чем фермеры, особенно крупные коммерческие производители, на которых распространялось большинство сельскохозяйственных льгот «Нового курса».








