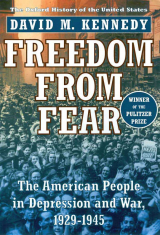
Текст книги "Свобода от страха. Американский народ в период депрессии и войны, 1929-1945 (ЛП)"
Автор книги: Дэвид М. Кеннеди
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 73 страниц)
Неуклонный процесс урбанизации усилил электоральную мощь городских избирателей, в основном состоящих из этнических общин иммигрантов, страдающих от галопирующей безработицы в тяжелом промышленном секторе. Их представители, в частности, нью-йоркский депутат Роберт Вагнер, возглавили в Конгрессе борьбу за федеральное законодательство по борьбе с безработицей и общественным работам. Вместе с гидроэнергетикой, талисманом либеральных республиканцев, таких как Джордж Норрис, эти пункты должны были составить большую часть законодательной программы самого Рузвельта в начале «Нового курса». Их вклад в восстановление экономики, по крайней мере в краткосрочной перспективе, был спорным, но они, несомненно, способствовали той долгосрочной политической перестройке, о которой мечтал Рузвельт.
Рузвельт мечтал об этом не один. Для консервативных старейшин Демократической партии, потрясенных выдвижением Рузвельта, его видение будущего партии было нежелательным и, возможно, неизбежным кошмаром. Однако другие приветствовали эту перспективу. В беседе с Луисом Брандейсом Рузвельт заявил, что «его администрация должна быть либеральной и что он рассчитывает потерять часть своих сторонников-консерваторов. Я сказал ему: „Я надеюсь на это“, – сообщал Брандейс Феликсу Франкфуртеру, – что он должен перераспределить… часть сил в каждой партии». Моули тоже приветствовал «возможность, которую мы сейчас имеем для либеральной партии… что должно стать самым значительным выравниванием партий в истории».[226]226
Freidel, Launching, 64, 70.
[Закрыть]
Способствовал этой возможности и усложнял её состав семьдесят третьего Конгресса, избранного при Рузвельте в 1932 году. Более половины его членов были избраны после 1930 года – 14 новых сенаторов и 144 новых представителя в 1932 году и столько же двумя годами ранее. В подавляющем большинстве это были «дети Депрессии», их политическая карьера зародилась в период кризиса, а будущее зависело от того, что с этим кризисом нужно что-то делать, и делать это как можно скорее. Хотя большая часть руководства Демократического конгресса оставалась старой гвардией, южной, аграрной и консервативной, рядовое демократическое большинство в обеих палатах состояло в основном из свежих, северных, городско-индустриальных представителей, по крайней мере, потенциально либеральных. Как минимум, они были нетерпимы к бездействию, подталкиваемые своими избирателями к борьбе с Депрессией, и их вряд ли заставят замолчать апелляции к традициям. Они были ещё не сформировавшейся и не окрепшей силой, которую Рузвельт мог бы приспособить для своих целей по переделке партии – или же силой и стремительностью, которые могли бы заставить президента действовать.
Инфляция была одной из мер, способных объединить это разрозненное сборище демократов в Конгрессе. Вызванный рост цен облегчил бы бремя долгов, повысил бы стоимость активов и товаров, разжижил бы кредитную систему и дал бы толчок новому экономическому старту – так звучали аргументы. К традиционному инфляционному хору в Конгрессе присоединились новые голоса, и к началу 1933 года их требования разразились бурным крещендо. К ужасу «мозговых трестеров», Рузвельт, казалось, был очарован их музыкой. «Он раздражал своих экономических советников, – писал Тагвелл, – тем, что упорно возвращался к монетарным устройствам, принятым им самим. В глубине души мы верили в надежные деньги. Гринбек был частью популистской традиции, которая, как мы надеялись, осталась позади. Мы прекрасно понимали, что это не так; его сторонники звучали все громче и громче; все старые схемы удешевления денег, очевидно, были ещё живы, и появилось множество новых. Губернатор хотел знать о них все. Мы с содроганием предоставили ему информацию».[227]227
Tugwell, Brains Trust, 97–98.
[Закрыть]
ТАКОВ БЫЛ запутанный набор советов по политике, который преследовал избранного президента и нестабильное созвездие политических сил, сформировавшееся в Вашингтоне в день инаугурации. Рузвельт столкнулся с бюджетниками и инфляторами, регуляторами и разрушителями доверия, традиционалистами-южанами и беспокойными городскими либералами. Чтобы подчинить непредсказуемый новый Конгресс своей воле, Рузвельт расчетливо удержал распределение около ста тысяч рабочих мест среди заслуженных демократов до окончания специальной законодательной сессии, которую он попросил созвать 9 марта 1933 года. Таким образом, в первые месяцы президентства Рузвельта большинство правительственных бюро и департаментов все ещё были укомплектованы республиканцами, оставшимися от администрации Гувера. Так, Моули записал своё впечатление о том, что Рузвельт и его окружение «стояли в городе Вашингтоне 4 марта, как горстка мародеров на враждебной территории».[228]228
Moley, After Seven Years, 128.
[Закрыть]
5. Сто дней
Философия? Философия? Я христианин и демократ – вот и все.
– Франклин Д. Рузвельт, отвечая на вопрос «В чём заключается ваша философия?».
Вашингтон в 1933 году был ещё просторным, неторопливым городом с ярко выраженным южным колоритом. Ещё не обросший пригородами, он мечтательно спал среди пологих лесных массивов Вирджинии и Мэриленда, его медленные ритмы демонстрировали «временные» здания времен мировой войны, которые все ещё были разбросаны по городу, и недостроенные колонны того, что со временем станет Министерством труда. Это ещё не был имперский город, оживлённый центр политического и экономического командования, каким его собирался сделать Рузвельт.
Субботним утром в день инаугурации улицы обычно вялой столицы начали заполняться шумными демократами, жаждущими отпраздновать окончание своего долгого изгнания из политической власти. Вашингтон, украшенный бантами и обвешанный веселыми политическими юнкерами, пытался создать настроение, не поддающееся серой пасмурной погоде и способное хоть на мгновение сдержать мрачную тревогу, охватившую всю нацию. Ведь за праздничной атрибутикой Вашингтон 4 марта 1933 года был городом на осадном положении. А в городах и деревушках за пределами столицы миллионы американцев с опаской косились на него.
Осада началась, как это уже стало до тошноты знакомо за предыдущие три года, с очередной банковской паники. Она началась в Мичигане, где 14 февраля губернатор объявил восьмидневные банковские «каникулы», чтобы уберечь от краха пошатнувшиеся банки своего штата. Столь радикальные меры в одном из ключевых промышленных штатов вызвали толчки по всей стране. Опасения общественности по поводу банковской системы и разочарование в банкирах усилились в этот момент благодаря откровениям, прозвучавшим в зале слушаний банковского и валютного комитета Сената, где советник комитета Фердинанд Пекора ежедневно вытягивал из князей Уолл-стрит скандальные признания в злоупотреблениях, фаворитизме, уклонении от налогов и коррупции. Несмотря на решительные возражения Гувера, Конгресс ещё больше подорвал доверие к банкам, опубликовав названия учреждений, получающих кредиты RFC, – эта политика была равносильна передаче в эфир официального реестра самых хилых и находящихся под угрозой исчезновения банков.
Пережив три года депрессии и став свидетелями более пяти тысяч банкротств банков за последние три года, американцы на этот раз отреагировали на происходящее с неистовой поспешностью и отчаянием последней надежды. Тысячами, в каждой деревне и мегаполисе, они бежали в свои банки, выстраивались в очереди с сумками и ранцами и уносили свои вклады в валюте или золоте. Они прятали эти драгоценные остатки своих сбережений под матрасом или в банках из-под кофе, зарытых на заднем дворе. Более состоятельные вкладчики вывозили золото из страны. Цены на акции снова упали, хотя и не с высоты 1929 года.
Эта очередная банковская паника побудила Гувера 18 февраля обратиться к Рузвельту с «дерзким» призывом сделать жест, который успокоил бы взволнованный финансовый мир. Не получив ответа, Гувер 28 февраля вновь обратился к Рузвельту с просьбой сделать какое-нибудь обнадеживающее заявление. «Заявление, сделанное даже сейчас в том ключе, который я предложил», – умолял Гувер, – «избавило бы миллионы людей от потерь и трудностей». Далее он предложил Рузвельту созвать специальную сессию Конгресса как можно скорее после дня инаугурации.[229]229
Frank Freidel, Launching the New Deal (Boston: Little, Brown, 1973), 188; William Starr Myers and Walter H. Newton, The Hoover Administration: A Documented Narrative (New York: Charles Scribner’s Sons, 1936), 360.
[Закрыть] И снова Рузвельт отказался. Без согласия избранного президента временный президент не будет действовать. Из Вашингтона пришло лишь молчание.
Но в холлах банков по всей стране не было тишины. Кричащие вкладчики толкались и протискивались к кассам, требуя свои деньги. В каждом штате банковская система дрожала, прогибалась, и от окончательного краха её спасли только каникулы, объявленные правительством. Банки Мэриленда были закрыты на три дня по указу правительства 24 февраля. Аналогичные закрытия последовали в Кентукки, Теннесси, Калифорнии и других странах. Утром в день инаугурации Нью-Йоркская фондовая биржа внезапно приостановила торги; то же самое сделал и Чикагский торговый совет. К тому времени правительственные постановления закрыли все банки в тридцати двух штатах. Практически все банки были закрыты ещё в шести штатах. В остальных штатах вкладчики могли снять не более 5 процентов своих денег, в Техасе – не более десяти долларов в день. Инвесторы перестали вкладывать деньги, а рабочие – работать. Около тринадцати миллионов пар рук, готовых к работе, не могли найти себе занятие по душе. Многие из них бездействовали в течение трех лет. Теперь они сжимали руки в тревожном разочаровании или с надеждой молились друг другу. Самая богатая страна в истории, надменная цитадель капиталистической эффективности, всего четырьмя годами ранее являвшаяся образцом, казалось бы, вечного процветания, страна гордости пилигримов, мечтаний иммигрантов и манящих границ, Америка лежала в напряжении и неподвижности, превратившись в пустырь экономического опустошения.[230]230
Davis 3:26.
[Закрыть]
Накануне инаугурации, в пятницу, 3 марта, Гувер предпринял последнюю попытку заручиться сотрудничеством Рузвельта. Жест уходящего президента был глупым по своей запоздалости и обреченным на тщетность по манере подачи. Отказавшись передать своему преемнику обычное приглашение на предъинаугурационный обед в Белом доме, Гувер нехотя согласился принять Рузвельтов на послеобеденный чай. Затем он превратил этот и без того не слишком приятный светский приём в неловкий призыв к Рузвельту в последнюю минуту использовать сомнительные полномочия Закона о торговле с врагом во время мировой войны для регулирования поставок золота за границу и снятия денег из банков. Встреча закончилась неудачно. На вежливое предложение Рузвельта о том, что Гувер не обязан делать традиционный ответный звонок избранному президенту, Гувер ответил ледяным тоном: «Мистер Рузвельт, когда вы проработаете в Вашингтоне столько же, сколько я, вы узнаете, что президент Соединенных Штатов никому не звонит». Разгневанный Рузвельт выпроводил свою разгневанную семью из комнаты. Кроме необходимой близости во время инаугурационных формальностей на следующий день, эти два человека больше никогда не видели друг друга.[231]231
Freidel, Launching, 192–93.
[Закрыть]
ДЕНЬ ИНАУГУРАЦИИ Рузвельт начал с посещения короткой службы в епископальной церкви Святого Иоанна. Директор его старой Гротонской школы Эндикотт Пибоди молился Господу, чтобы Он «благословил раба Твоего Франклина, избранного в президенты Соединенных Штатов». После короткой остановки в отеле «Мэйфлауэр», чтобы срочно посоветоваться со своими советниками по поводу все ещё продолжающегося банковского кризиса, Рузвельт облачился в свой официальный наряд и отправился в Белый дом. Там он присоединился к изможденному и невеселому Гуверу, чтобы проехать по Пенсильвания-авеню к инаугурационной платформе на восточной стороне Капитолия.
Опираясь на руку сына, Рузвельт прошел несколько шагов к трибуне. Нарушив прецедент, он произнёс всю присягу, а не просто повторил «да» в ответ на вопрос верховного судьи. Затем он начал свою инаугурационную речь, твёрдо произнося её своим богатым теноровым голосом. Откровенно признавая ущербное состояние государственного корабля, капитаном которого ему предстояло стать, он начал с заверения соотечественников в том, что «эта великая нация выстоит, как выстояла, возродится и будет процветать… Единственное, чего нам следует бояться, – провозгласил он, – это сам страх». Бедственное положение нации, объявил он, объясняется «не провалом существа». Напротив, «правители, занимающиеся обменом человеческих благ, потерпели неудачу из-за собственного упрямства и некомпетентности, признали свою несостоятельность и отреклись от власти… Денежные менялы покинули свои высокие места в храме нашей цивилизации. Теперь мы можем восстановить этот храм в соответствии с древними истинами». Величайшая задача, – продолжил он, – «заставить людей работать», и в качестве средства для этого он намекнул на «прямой наем правительством» на проекты общественных работ. Затем он коснулся понятия «баланс», как он слышал, что его обсуждали «мозговые трестеры», пообещав «повысить стоимость сельскохозяйственной продукции и вместе с этим получить возможность покупать продукцию наших городов». Он добавил своё мнение о целесообразности перераспределения населения из городов в сельскую местность. Он упомянул о необходимости предотвратить закрытие ипотечных кредитов, регулировать ключевые отрасли промышленности и особенно сократить государственные бюджеты. Он призвал к «строгому надзору за всеми банковскими операциями, кредитами и инвестициями». Он подчеркнул приоритет внутренних проблем над международными. Он косвенно намекнул на инфляционные меры, пообещав обеспечить «адекватную, но надежную валюту». (Один конгрессмен, занимавшийся твёрдыми деньгами, пожаловался, что это означает, что Рузвельт «за надежную валюту, но много»).[232]232
Leuchtenburg, 42.
[Закрыть] Он объявил, что созывает специальную сессию Конгресса для решения этих вопросов. Затем, осторожно, но тем не менее зловеще, он заявил, что если Конгресс не предпримет никаких действий, «я попрошу у Конгресса единственный оставшийся инструмент для преодоления кризиса – широкие полномочия исполнительной власти для ведения войны против чрезвычайной ситуации, такие же широкие, как полномочия, которые были бы предоставлены мне, если бы мы действительно подверглись вторжению иностранного врага».[233]233
PPA, (1933), 11–16.
[Закрыть] Всего за несколько недель до инаугурации, направляясь на борт судна Nourmahal во Флориде, Рузвельт беспокойно говорил о необходимости «действовать, действовать». Став наконец президентом, он начал действовать с впечатляющей энергией.
Первым и отчаянно срочным делом стал банковский кризис. Уже выходя из отеля Mayflower, чтобы выступить с инаугурационным осуждением «менял денег», он одобрил рекомендацию уходящего министра финансов Огдена Миллса о созыве экстренного совещания банкиров из ведущих финансовых центров. На следующий день, в воскресенье, 5 марта, Рузвельт издал две прокламации: одна созывала Конгресс на специальную сессию 9 марта, другая, ссылаясь на Закон о торговле с врагом, прекращала все операции с золотом и объявляла четырехдневные национальные банковские каникулы – обе меры, которые Гувер тщетно убеждал его одобрить в предыдущие недели. Теперь люди Гувера и Рузвельта приступили к напряженному восьмидесятичасовому сотрудничеству, чтобы проработать детали чрезвычайной банковской меры, которая могла бы быть представлена на специальной сессии Конгресса. Днём и ночью в коридорах Министерства финансов частные банкиры и правительственные чиновники, как старые, так и новые, неистово трудились, пытаясь спасти мертвый труп американских финансов. В ту суматошную неделю никто не вел нормальную жизнь, вспоминал Моули. «Смятение, спешка, страх совершить ошибку, сознание ответственности за экономическое благополучие миллионов людей смертельно пошатнули здоровье некоторых из нас… и оставили остальных готовыми огрызаться на собственные изображения в зеркале… Только Рузвельт, – заметил Моули, – сохранил атмосферу человека, нашедшего счастливый образ жизни».[234]234
Raymond Moley, After Seven Years (New York: Harper and Brothers, 1939), 191.
[Закрыть]
Приспешники Рузвельта и Гувера «забыли о том, что они республиканцы или демократы», – комментирует Моули. «Мы были просто кучкой людей, пытавшихся спасти банковскую систему».[235]235
Moley, After Seven Years, 148.
[Закрыть] Уильям Вудин, новый министр финансов, и Огден Миллс, его предшественник, просто поменялись местами по обе стороны стола министра в здании Казначейства. В остальном в комнате ничего не изменилось. Двухпартийное сотрудничество, за которое так ратовал Гувер, теперь происходило, но под эгидой Рузвельта, а не Гувера – и, как надеялись все эти люди, не слишком поздно. Когда специальная сессия Конгресса собралась в полдень 9 марта, у них был готов едва заметный законопроект.
Законопроект был зачитан в Палате в 13:00, в то время как некоторые новые представители ещё пытались занять свои места. Печатные копии не были готовы для членов. Символично, что для этого использовалась свернутая газета. После тридцати восьми минут «дебатов» палата приняла законопроект единогласными криками. Сенат одобрил законопроект всего семью несогласными голосами – все из аграрных штатов, исторически подозрительно относящихся к Уолл-стрит. Президент подписал закон в 8:36 вечера. «Капитализм, – заключил Моули, – был спасен за восемь дней».[236]236
Moley, After Seven Years, 155.
[Закрыть]
Чрезвычайный банковский закон стал поразительной демонстрацией склонности Рузвельта к действиям и готовности Конгресса, по крайней мере на данный момент, подчиниться его руководству. Но он не означал намерения радикально перестроить американскую капиталистическую систему. Закон узаконил действия, которые Рузвельт уже предпринял в соответствии с положениями Закона о торговле с врагом, предоставил президенту широкие дискреционные полномочия в отношении операций с золотом и иностранной валютой, наделил КРФ правом подписываться на привилегированные акции банков, расширил возможности Федерального резервного совета по выпуску валюты и разрешил вновь открывать банки под строгим государственным надзором. Это была основательно консервативная мера, которая была разработана в основном чиновниками администрации Гувера и частными банкирами. Как позже заметил один конгрессмен, «президент выгнал менял из Капитолия 4 марта, а 9-го они все вернулись». Неортодоксальность в этот момент, объяснил Моули, «истощила бы последние остатки сил капиталистической системы» – результат, столь же далёкий от мысли Рузвельта, как и от мысли Гувера, не говоря уже о мысли Конгресса.[237]237
Leuchtenburg, 44; Moley’s remark is in After Seven Years, 155.
[Закрыть] По техническим причинам банковские каникулы были продлены на следующие выходные, в результате чего понедельник, 13 марта, стал днём возобновления работы банков под контролем правительства. В предыдущее воскресенье вечером, в 10:00 по восточному времени, десятки миллионов американцев включили свои радиоприемники, чтобы послушать первую из «Бесед у камина» Рузвельта. Работая с проектом, подготовленным заместителем министра финансов Гувера Артуром Баллантайном, Рузвельт простыми словами объяснил, что было сделано в Вашингтоне. Он сказал своим слушателям, «что безопаснее хранить деньги в вновь открытом банке, чем под матрасом».[238]238
PPA (1933), 64.
[Закрыть] Голосом, одновременно властным и ласковым, властным и в то же время интимным, он успокаивал нервную нацию. Его гротонско-гарвардский акцент можно было бы принять за снобизм или снисходительность, но вместо этого он передавал то же чувство оптимизма и спокойной уверенности, которым были наполнены его самые интимные личные беседы.
В понедельник тринадцатого числа банки вновь открылись, и результаты волшебства Рузвельта с Конгрессом и народом сразу же стали очевидны. Депозиты и золото начали снова поступать в банковскую систему. Затянувшийся банковский кризис, острый по меньшей мере с 1930 года, корни которого уходят в 1920-е годы и даже во времена Эндрю Джексона, наконец-то закончился. И Рузвельт, принимая все заслуги, стал героем. Уильям Рэндольф Херст сказал ему: «Думаю, на ваших следующих выборах мы сделаем их единогласными». Даже Генри Стимсон, который совсем недавно считал Рузвельта «арахисом», прислал свои «самые сердечные поздравления».[239]239
Schlesinger 2:13.
[Закрыть]
Простые жители страны тоже присылали свои поздравления, а также добрые пожелания, предложения и особые просьбы. Около 450 000 американцев написали своему новому президенту в первую неделю его пребывания в должности. В дальнейшем почта регулярно поступала со скоростью от четырех до семи тысяч писем в день. Почтовому отделу Белого дома, в котором во времена Гувера работал один-единственный сотрудник, пришлось нанять семьдесят человек, чтобы справиться с потоком корреспонденции. Рузвельт затронул сердца и воображение своих соотечественников так, как ни один предшественник на его памяти.
ОН НАМЕРЕВАЛСЯ ПОДДЕРЖИВАТЬ этот контакт и использовать его. Рузвельт справедливо полагал, что большинство газет в стране находятся в руках политических консерваторов, на поддержку которых в суде общественного мнения рассчитывать не приходится. Отчасти именно поэтому он так расчетливо использовал новое электронное средство массовой информации – радио, с помощью которого он мог напрямую обращаться к публике без вмешательства редакторов. И если можно было ожидать, что издатели и редакторы выступят против него, он, тем не менее, мог привлечь репортеров.
Первая пресс-конференция Рузвельта стала личным и политическим триумфом. Сто двадцать пять репортеров Белого дома, чувствуя, что центр власти в Вашингтоне перемещается с Капитолийского холма в Белый дом, повышая тем самым престиж своего ранее утомительного задания, собрались в Овальном кабинете утром 8 марта. Рузвельт встретил их со свойственной ему теплотой. Он заставил их почувствовать себя членами его семьи. Он балагурил и шутил. Самое главное – он объявил о долгожданных изменениях в правилах проведения президентских пресс-конференций. По его словам, он надеялся встречаться с репортерами дважды в неделю, в удобное для утренних и вечерних изданий время. Контраст с Гувером, который более года практически не проводил пресс-конференций, был резким. Резким было и заявление Рузвельта о том, что он не будет требовать письменных вопросов, которые должны быть представлены заранее, как это было принято на протяжении более десяти лет. Он не будет отвечать на гипотетические вопросы, сказал он, и не разрешит прямое цитирование, если только оно не будет сделано его собственным штабом в письменном виде. Его собственные заявления будут делиться на три категории: новости, которые можно приписать источнику в Белом доме; «справочная информация», которую репортеры могут использовать по своему усмотрению, но без прямого указания авторства; и комментарии «не для протокола», которые должны рассматриваться как конфиденциальные и не подлежащие публикации ни в какой форме. Последняя категория была главным ударом. Она приглашала рабочую прессу в интимную, почти заговорщическую близость к резиденции власти, тонко втягивая их в орбиту президентской воли. Польщенные и взволнованные, репортеры спонтанно разразились аплодисментами. Рузвельт откинулся в кресле, сияя.
10 марта Рузвельт направил в Конгресс свою вторую чрезвычайную меру, запросив полномочия на сокращение федерального бюджета на 500 миллионов долларов. «В течение трех долгих лет федеральное правительство находилось на пути к банкротству», – заявил он. Он призвал ликвидировать некоторые правительственные агентства, сократить зарплату гражданских и военных служащих правительства, включая конгрессменов, и, что ещё более спорно, почти на 50% сократить выплаты ветеранам – статья, которая в то время составляла почти четверть федерального бюджета в 3,6 миллиарда долларов. Многие конгрессмены воспротивились такой атаке на одну из самых популярных статей федеральных расходов. Отметив, что остатки «Бонусной армии» все ещё стоят лагерем под Вашингтоном, и помня о том, как Герберт Гувер сильно пострадал от её рук, 92 демократа, в основном аграрные радикалы и представители «машины» из крупных городов, сломали свои ряды и проголосовали против президента. Законопроект прошел в Палате представителей только при поддержке консерваторов. Он быстро прошел через Сенат только потому, что руководство демократов предусмотрительно включило в законодательный календарь сразу за ним популярную меру по легализации пива, предотвратив тем самым длительные дебаты.
20 марта Рузвельт подписал Закон об экономике, а двумя днями позже – Закон о доходах от продажи пива и вина. Последняя мера предвосхитила отмену запрета. 20 февраля 1933 года Конгресс, работающий вхолостую, принял законопроект об отмене Двадцатой поправки. Необходимые три четверти штатов должны были ратифицировать этот закон до 5 декабря, когда Двадцать первая поправка стала законом, положив конец эксперименту с запретом и ознаменовав очередную неудачу для протестантских сил, в основном проживающих в сельской местности, которые пытались сделать Америку сухой.
За две недели новая администрация покончила с банковским кризисом, радикально сократила федеральные расходы и обеспечила новые доходы за счет легализации пива и легких вин. В процессе президент взял верх и победил два самых мощных политических лобби в Вашингтоне: ветеранов и сторонников запрета. Кроме того, он, по всей видимости, вывел страну из состояния застоя и кислой отставки и возродил в народе веру в себя. Наконец-то появился лидер, который мог вести за собой, и Конгресс, который можно было заставить следовать за собой. Рузвельт продолжал склонять партию к своей воле, отказываясь от распределения покровительственных должностей, которых так жаждали демократы. Благодаря этому, как отметил один из обозревателей, «отношения президента с Конгрессом до самого конца сессии носили оттенок ожидания, который является лучшей частью молодой любви». Вопрос о том, перерастут ли эти отношения в стабильный и продуктивный брак, остается открытым.[240]240
James T. Patterson, Congressional Conservatism and the New Deal: The Growth of the Conservative Coalition in Congress (Lexington: University Press of Kentucky, 1967), 11.
[Закрыть]
Куда именно вел Рузвельт? Его законопроект о банковской деятельности был, по сути, продуктом Министерства финансов Гувера. Его законопроект об экономике выполнил обещание, данное в предвыборной речи в Питтсбурге, и сократил федеральные расходы сильнее, чем осмелился Гувер. Законопроект о пиве, открыв новые источники доходов для федерального правительства, выполнил важнейшую политическую задачу архиконсервативных сил Раскоба в Демократической партии. Вряд ли это было похоже на «новую сделку», которая внушала надежды прогрессистам и вызывала опасения у консерваторов с момента выдвижения Рузвельта на пост президента восемью месяцами ранее.
Созывая специальную сессию, Рузвельт имел в виду лишь эти три чрезвычайные меры. Теперь же, почувствовав неожиданную уступчивость Конгресса, он решил задержать его на сессии и выступить с дополнительными предложениями, которые должны были оправдать ожидания либералов и придать смысл и содержание «Новому курсу». Они состояли из целого ряда инициатив, направленных на восстановление и реформы, а также на политическую перестройку. Вскоре аналитики окрестили этот всплеск законодательной активности «Сто дней». Когда она завершилась с закрытием специальной сессии 16 июня, Рузвельт направил пятнадцать посланий в Конгресс и, в свою очередь, подписал пятнадцать законопроектов. В совокупности достижения «Ста дней» представляли собой шедевр президентского лидерства, не имевший аналогов в то время и не имевший аналогов с тех пор (за исключением «второй сотни дней», которую Рузвельт возглавил во время великого всплеска реформ в 1935 году). Первые «Сто дней» выковали главное оружие Рузвельта в борьбе с депрессией и сформировали большую часть исторической репутации «Нового курса». Они также не поддались попыткам многих поколений оценить их точное экономическое и социальное воздействие и, что, возможно, ещё более досадно, их коллективную идеологическую идентичность. Как и человек, который ими руководил, «Сто дней», а за ними и сам «Новый курс», озадачили историков, ищущих точные определения этой плодотворной творческой эпохи.
РУЗВЕЛЬТ ПРОИЗВЕЛ первый залп в шквале своих дополнительных законодательных предложений 16 марта, когда направил в Конгресс свой фермерский законопроект. «Я откровенно говорю вам, что это новый и непроторенный путь», который прокладывает его законопроект, – сказал Рузвельт, – «но я с такой же откровенностью говорю вам, что беспрецедентное состояние требует испытания новых средств для спасения сельского хозяйства».[241]241
PPA (1933), 74.
[Закрыть] Здесь Рузвельт повторил заявления Герберта Гувера о новаторстве его собственного фермерского законодательства, принятого на другой специальной сессии Конгресса всего четырьмя годами ранее. То, что оба президента оказались правы, свидетельствует как об упрямстве сельскохозяйственного кризиса, так и о расширении круга политических возможностей, которые закладывала Депрессия. Фермерский законопроект Рузвельта действительно представлял собой новое мышление, и его было много. «Редко, если вообще когда-либо, – писал автор газеты New York Herald Tribune, – в американском Конгрессе представлялся столь масштабный законопроект». Другой обозреватель заявил, что законопроект «стремится узаконить практически все, что только может прийти в голову».[242]242
Schlesinger 2:40; Davis 3:69.
[Закрыть]
В основе сельскохозяйственной программы Рузвельта лежала знакомая «мозговым трестам» идея «баланса» – повышения доходов фермеров как средства поддержания спроса на отечественную промышленную продукцию. На данном этапе устранение дисбаланса между сельским хозяйством и промышленностью составляло суть антидепрессивной стратегии Рузвельта. В примечаниях, приложенных к изданию его официальных документов 1938 года, Рузвельт ещё раз объяснил, что считает «постоянное отсутствие достаточной покупательной способности у фермера» «одной из важнейших причин Депрессии».[243]243
PPA (1933), 75.
[Закрыть] Теперь он предложил устранить этот недостаток. Но как?
Сельское хозяйство было огромным и разнообразным сектором американской экономики. В него входили хлопкоробы Алабамы и скотоводы Монтаны, молочники Висконсина и пшеничные фермеры Дакоты, свиноводы Миссури и садоводы Нью-Джерси, фруктоводы Калифорнии и овцеводы Вайоминга, босоногие издольщики и лорды-латифундисты. Эти разрозненные интересы не имели единого мнения ни о природе недовольства сельского хозяйства, ни о том, что с ним следует делать. Несомненным было лишь то, что нужно срочно что-то делать. Только за последние четыре года доходы сельского хозяйства упали почти на 60 процентов. И сельскохозяйственная депрессия началась не только в 1929 году. К моменту Великого краха она длилась уже почти десять лет. К началу 1933 года банки забирали закладные по фермам со скоростью около двадцати тысяч в месяц. Президент Федерации фермерских бюро, одной из самых консервативных сельскохозяйственных организаций, на слушаниях в Сенате в январе предупредил: «Если для американского фермера ничего не будет сделано, то в течение двенадцати месяцев в сельской местности произойдет революция».[244]244
Davis 3:71.
[Закрыть]








