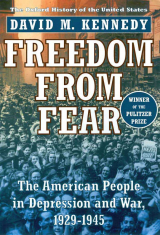
Текст книги "Свобода от страха. Американский народ в период депрессии и войны, 1929-1945 (ЛП)"
Автор книги: Дэвид М. Кеннеди
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 73 страниц)
ФОРТУНА УЛЫБАЛАСЬ лежачему Кулиджу до тех пор, пока он не покинул Белый дом в начале 1929 года в состоянии сомнамбулы. (Один остроумный человек якобы встретил новость о смерти Кулиджа в 1933 году, спросив: «Как вы можете судить?»). «Во внутренней сфере царят спокойствие и удовлетворение», – безмятежно сообщил он Конгрессу в своём последнем послании о положении дел в стране 4 декабря 1928 года. Страна должна «смотреть на настоящее с удовлетворением и смотреть в будущее с оптимизмом».[55]55
Цитируется по John Kenneth Galbraith, The Great Crash (Boston: Houghton Mifflin, 1955), 6.
[Закрыть]
Процветание длилось достаточно долго, чтобы Кулидж в 1928 году звучал правдоподобно. Но в недрах экономики уже начались небольшие, но роковые сокращения. Агония сельского хозяйства уже давно была очевидна. Теперь и другие отрасли начали ощущать подобную боль. Автомобилестроение замедлило свои впечатляющие темпы роста уже в 1925 года. В том же году сократилось жилищное строительство. Бум на рынке недвижимости Флориды утонул в разрушительном урагане в сентябре 1926 года. Объем банковских операций в Майами сократился с более чем миллиарда долларов в 1925 году до 143 миллионов долларов в 1928 году, что стало тревожным предзнаменованием финансового тромба, который вскоре задушит всю банковскую систему. В 1928 году начали накапливаться товарные запасы, которые к середине лета 1929 года выросли почти в четыре раза и составили около 2 миллиардов долларов.[56]56
Frederick Lewis Allen, Only Yesterday, (New York: Harper and Brothers, 1931), 282.
[Закрыть]
Самым зловещим из всего этого было то, что Гувер прямо назвал «оргией безумных спекуляций», охватившей фондовый рынок начиная с 1927 года. Согласно теории, рынки облигаций и акций отражают и даже предвосхищают основные реалии производства и сбыта товаров и услуг, но к 1928 году американские фондовые рынки сбросили с себя оковы угрюмой реальности. Они отправились в фантасмагорическое царство, где законы рационального экономического поведения не действовали, а цены не имели никакого отношения к стоимости. В то время как деловая активность неуклонно снижалась, цены на акции головокружительно левитировали. К концу 1928 года, писал позже Джон Кеннет Гэлбрейт, «рынок начал расти не медленными, уверенными шагами, а большими скачками». Акции Radio Corporation, символизирующие обещания новых технологий, которые способствовали спекулятивному ажиотажу, взлетали вверх десяти – и двадцатипунктовыми скачками. К лету 1929 года, по словам Фредерика Льюиса Аллена, даже когда на складах скопились непроданные запасы, цены на акции «взлетели… в голубую и безоблачную эмпирею».[57]57
Galbraith, Great Crash, 17; Allen, Only Yesterday, 309.
[Закрыть]
Деньги для подпитки стремительно растущего фондового рынка текли из бесчисленных отверстий. По словам Гэлбрейта, они текли так обильно, что «казалось, будто Уолл-стрит вот-вот поглотит все деньги мира». Часть денег текла непосредственно из карманов индивидуальных инвесторов, хотя их ресурсы были, как правило, скудны, а количество – удивительно мало. Ещё больше денег поступало от крупных корпораций. Благодаря высоким прибылям, полученным в 1920-х годах, они обзавелись огромными денежными резервами, значительную часть которых они начали перенаправлять с продуктивных инвестиций в оборудование и машины на биржевые спекуляции. Ещё больше денег поступало из банковской системы. Она тоже была полна средств, которые находили все меньше и меньше традиционных рынков сбыта. К 1929 году коммерческие банкиры оказались в необычном положении: они ссужали больше денег для инвестиций в фондовый рынок и недвижимость, чем для коммерческих предприятий. В 1927 году Федеральный резервный совет предоставил банкам больше ликвидности, снизив ставку редисконтирования до 3,5 процента и начав активную скупку государственных ценных бумаг.[58]58
Galbraith, Great Crash, 73. В 1920-х годах состав кредитных портфелей банков значительно изменился. В 1913 году коммерческие банки размещали 53 процента своих кредитов в коммерческие предприятия, 33 процента – в ценные бумаги и 14 процентов – в недвижимость. К 1929 году эти показатели составили соответственно 45, 38 и 17 процентов. Susan Estabrook Kennedy, The Banking Crisis of 1933 (Lexington: University Press of Kentucky, 1973), 13.
[Закрыть]
Эта политика «легких денег» была во многом обусловлена влиянием Бенджамина Стронга, сурового и влиятельного управляющего Федеральным резервным банком Нью-Йорка. Политика Стронга должна была поддержать неосмотрительное решение канцлера казначейства Уинстона Черчилля, принятое в 1925 году, о возвращении Великобритании к довоенному золотому стандарту по старому обменному курсу 4,86 доллара за фунт. Этот нереально высокий курс ограничивал британский экспорт, увеличивал импорт и грозил истощить золотой запас Банка Англии. Стронг небезосновательно полагал, что снижение процентных ставок и удешевление денег в Америке остановит утечку золота из Лондона в Нью-Йорк и тем самым стабилизирует международную финансовую систему, которая все ещё неуверенно оправлялась от последствий мировой войны. Та же политика, разумеется, способствовала огромным спекулятивным заимствованиям в Соединенных Штатах. Именно эти катастрофические последствия побудили Герберта Гувера презрительно назвать Стронга «ментальным приложением к Европе» – замечание, которое также намекало на концепцию Гувера о том, на кого следует возложить вину за последующую депрессию.
Важно отметить, что большая часть денег, предоставленных банками для покупки акций, была вложена не непосредственно в акции, а в брокерские кредиты «колл». Кредиты «до востребования» позволяли покупателям приобретать акции на марже, используя денежный платеж (иногда не более 10 процентов, но чаще всего 45 или 50 процентов от цены акции) и кредит, обеспеченный стоимостью купленных акций. Теоретически кредитор может «потребовать» возврата долга, если цена акций упадет на сумму, равную их залоговой стоимости. Хотя некоторые крупные брокерские дома избегали механизма «колл-кредит», большинство расточительно использовали его. Эта практика стала настолько популярной, что на пике бума брокеры могли взимать огромные проценты за выдачу клиентам кредитов под залог акций. Благодаря низкой ставке редисконтирования Федеральной резервной системы банки-члены могли занимать федеральные фонды под 3,5% и предоставлять их на рынке колл по 10% и более. Когда спрос на кредиты до востребования превысил даже достаточно ликвидные ресурсы банковской системы, на помощь пришли корпорации. В 1929 году на их долю пришлась примерно половина средств, полученных по кредитам до востребования. Standard Oil of New Jersey выдавала тогда около 69 миллионов долларов в день; Electric Bond and Share – более 100 миллионов долларов.[59]59
Galbraith, Great Crash, 36.
[Закрыть]
Все эти экстравагантно доступные кредиты сами по себе не были причиной бума, так же как топливо само по себе не создает огонь. Для горения в финансовом мире, как и в физическом, требуется не только топливо, но и кислород, и зажигание. Ни одному наблюдателю не удалось точно определить искру, из которой разгорелся пожар, охвативший и в конце концов поглотивший рынки ценных бумаг в 1928 и 1929 годах. Однако очевидно, что кислород для его поддержания был связан не только со сложными рыночными механизмами и техническими приёмами трейдеров, но и с простой атмосферой – в частности, с настроением спекулятивных ожиданий, которое витало в воздухе и вызывало фантазии о легком богатстве, превосходящем мечты скупости.
Многие возлагают вину на бездействующую Федеральную резервную систему за неспособность ужесточить кредитование по мере распространения спекулятивного пожара, но хотя можно утверждать, что политика легких денег 1927 года помогла разжечь пламя, факт остается фактом: к концу 1928 года оно, вероятно, уже не поддавалось контролю с помощью ортодоксальных финансовых мер. Федеральный резервный совет обоснованно не решался повысить ставку редисконтирования, опасаясь наказать неспекулятивных бизнес-заемщиков. Когда в конце лета 1929 года он все же установил ставку редисконтирования на уровне 6 процентов, проценты по кредитам до востребования составляли почти 20 процентов – спред, который ФРС не смогла бы преодолеть без катастрофического ущерба для законных заемщиков. Кроме того, ФРС досрочно исчерпала свои и без того скудные возможности по привлечению средств путем продажи государственных ценных бумаг на открытом рынке. К концу 1928 года объем таких ценных бумаг в системе едва превышал 200 миллионов долларов – ничтожные суммы по сравнению с почти 8 миллиардами долларов кредитов до востребования, находившихся на тот момент в обращении. По обычным меркам, кредит после 1928 года был очень ограничен. В основе зла, которое вскоре постигло Уолл-стрит, лежали не деньги, а люди – мужчины и женщины, чья жажда быстрой наживы отбросила все ограничения финансового благоразумия и даже здравого смысла.
Первые сигналы бедствия прозвучали в сентябре 1929 года, когда цены на акции неожиданно упали, но быстро восстановились. Затем в среду, 23 октября, началась лавина ликвидаций. Огромный объем акций, превышающий шесть миллионов штук, перешел из рук в руки, уничтожив бумажные ценности на сумму около 4 миллиардов долларов. Телеграфный тикер, передававший информацию о сделках трейдерам по всей стране, отставал почти на два часа.
В этой атмосфере тревоги и неопределенности рынок открылся в «чёрный четверг», 24 октября, лавиной ордеров на продажу. Было продано рекордное количество акций – 12 894 650. К полудню потери составили около 9 миллиардов долларов. Тикер сработал с четырехчасовым опозданием. Но когда в 7:08 вечера отстучала последняя сделка дня, оказалось, что небольшое восстановление цен позволило сдержать потери сессии до трети от уровня предыдущего дня.
Если четверг был чёрным, то что можно сказать о следующем вторнике, 29 октября, когда было куплено и продано 16 410 000 акций – рекорд, продержавшийся тридцать девять лет? «Чёрный вторник» накрыл Уолл-стрит плащом мрака. Трейдеры потеряли всякую надежду на то, что страшное потрясение можно как-то предотвратить. Ещё две ужасные недели цены на акции продолжали свободно падать в те же небесные пустоты, через которые они недавно так чудесно поднимались. Теперь открылась суровая правда о том, что леверидж работает в двух направлениях. Умножение стоимости, которое стало возможным при маржинальной покупке на растущем рынке, действовало с беспристрастной и страшной симметрией, когда стоимость падала. Пропасть даже на несколько пунктов в цене акции заставляла требовать возврата маржинальных кредитов. Заемщику приходилось вносить дополнительные средства или соглашаться на принудительную продажу ценных бумаг. Миллионы таких продаж, происходивших одновременно, выбили пол из-под ног многих акций. Безжалостное падение продолжалось в течение трех недель после «чёрного вторника». К середине ноября испарилось около 26 миллиардов долларов – примерно треть стоимости акций, зафиксированной в сентябре.[60]60
Красочные рассказы о биржевом крахе 1929 года можно найти в Allen’s Only Yesterday and Galbraith’s Great Crash. Более надежными являются Robert Sobel’s The Great Bull Market: Wall Street in the 1920s (New York: Norton, 1968) and Panic on Wall Street (New York: Macmillan, 1968).
[Закрыть]
Вокруг этих драматических событий осени 1929 года сложилось множество мифов. Пожалуй, самым устойчивым заблуждением является представление о том, что крах стал причиной Великой депрессии, продолжавшейся на протяжении всего десятилетия 1930-х годов. Этот сценарий, несомненно, обязан своей долговечностью интуитивному правдоподобию и удобному соответствию канонам повествования, которые требуют, чтобы исторические рассказы имели узнаваемые начало, середину и конец и объясняли события в терминах идентифицируемых истоков, развития и разрешения. Эти условности успокаивают; они делают понятными и, следовательно, терпимыми даже самые страшные человеческие переживания. Рассказчик и шаман иногда удовлетворяют одни и те же психические потребности.
Однако неприятная правда заключается в том, что самые ответственные исследователи событий 1929 года не смогли продемонстрировать ощутимую причинно-следственную связь между крахом и депрессией. Никто не возлагает на биржевой крах исключительную ответственность за то, что за ним последовало; большинство отрицает его первенство среди многочисленных и запутанных причин десятилетнего экономического спада; некоторые утверждают, что он не сыграл практически никакой роли. Один из авторитетов прямо и резко заявляет, что «с помощью эмпирических данных никогда не была доказана причинно-следственная связь между событиями конца октября 1929 года и Великой депрессией».[61]61
Sobel, Great Bull Market, 147. Другие ученые последнего времени не столь категоричны, но в целом разделяют вывод Собела. См. например, Peter Temin, Did Monetary Forces Cause the Great Depression? (New York: Norton, 1976), esp. 69–83; and Michael A. Bernstein, The Great Depression: Delayed Recovery and Economic Change in America, 1929–1939 (Cambridge: Cambridge University Press, 1987), esp. 4–7.
[Закрыть]
Конечно, современники придерживались именно такой точки зрения сразу после краха, когда 1929 год уступил место 1930-му. Иначе и быть не могло, ведь на самом деле никакой явной депрессии, «Великой» или иной, объяснять было нельзя. Позднее некоторые авторы высмеивали Герберта Гувера за то, что 25 октября 1929 года он заявил, что «основной бизнес страны, то есть производство и распределение товаров, находится на здоровой и процветающей основе».[62]62
Notably Schlesinger in The Crisis of the Old Order (Schlesinger 1) and Galbraith in The Great Crash.
[Закрыть] Однако в ретроспективе это заявление кажется разумно и ответственно точным. Конечно, к середине лета 1929 года можно было обнаружить замедление деловой активности, но пока не было причин считать его чем-то большим, чем обычным спадом в деловом цикле.
Что было явно ненормальным, так это взрывной рост цен на акции почти в два раза с 1928 года. Гувер давно предостерегал от спекулятивных излишеств и теперь мог с полным основанием рассматривать крах как давно предсказанную коррекцию, которая наконец очистит экономическую систему от нездоровых токсинов. В этом мнении у него была многочисленная компания, в том числе и выдающаяся. Джон Мейнард Кейнс писал из Англии, что «чёрный четверг» был здоровым событием, которое перенаправит средства со спекулятивных на продуктивные цели. Уважаемый финансовый писатель «Нью-Йорк Таймс» Александр Дана Нойес назвал крах «реакцией на оргию безрассудных спекуляций» и повторил оценку Гувера, добавив, что «подобных эксцессов торговля и промышленность ещё не практиковали». Американская экономическая ассоциация в декабре 1929 года предсказала восстановление экономики к июню 1930 года. В начале 1930 года газета New York Times косвенно указала на современную оценку значимости краха, заявив, что самой важной новостью 1929 года была экспедиция адмирала Берда на Южный полюс.[63]63
Sobel, Great Bull Market, 136–37, 145–46; David Burner, Herbert Hoover: A Public Life (New York: Knopf, 1979), 2 50. Нойес, правда, предусмотрительно добавил: «Мы ещё не знаем, является ли нынешний эпизод „большим кризисом“ старого времени или нет» 62.
[Закрыть]
Поведение самих финансовых рынков подтвердило эти настроения в течение нескольких недель после краха. К апрелю 1930 года цены на акции восстановили около 20% потерь предыдущей осени. Средний показатель промышленных акций по версии New York Times находился примерно на том же уровне, что и в начале 1929 года, что было примерно вдвое выше уровня 1926 года. В отличие от предыдущих паник на Уолл-стрит, эта пока не привела к краху ни одной крупной компании или банка. По мере того как последние мгновения 1929 года ускользали, великий крах можно было с полным основанием рассматривать как событие неординарное, но, вероятно, странное. Для многих отдельных держателей акций крах, несомненно, стал бедствием, но это бедствие не было депрессией. Пока нет. Ещё одна басня, дошедшая до нас из той бурной осени – во многом благодаря огромной популярности ностальгического очерка Фредерика Льюиса Аллена «Только вчера», написанного в 1931 году, – рассказывает о легионах ушлых мелких держателей акций, опьяненных мечтами о бредовом десятилетии, которые внезапно были уничтожены крахом и массово погрузились во мрак депрессии.[64]64
Гэлбрейт приводит описание Алленом шофера, мойщика окон, камердинера, медсестры и скотовода, которые играли на рынке. Даже такой авторитет, как Пол Самуэльсон, ссылаясь на Аллена, заявляет: «В Соединенных Штатах во время сказочного биржевого бума „ревущих двадцатых“ домохозяйки, носильщики Пульмана, студенты колледжа в перерывах между занятиями – все покупали и продавали акции». См. Galbraith, Great Crash, 82, and Paul Samuelson, Economics: An Introductory Analysis, 5th ed. (New York: McGrawHill, 1961), 143–44. Питер Темин также отчасти винит Аллена в том, что он придал мощный импульс мифу о крахе как главной причине Депрессии: «Крах фондового рынка стал для Аллена точкой раздела между безграничным оптимизмом и столь же безграничным пессимизмом… В сознании Аллена… крах фондового рынка стал символом огромного расхождения между 1920-ми и 1930-ми годами… [Но] символ и реальность следует тщательно различать». Temin, Did Monetary Forces, 75–76.
[Закрыть] Эта привычная картина тоже сильно искажена. Аллен, вероятно, опирался на оценку, сделанную Нью-Йоркской фондовой биржей в 1929 году, согласно которой около двадцати миллионов американцев владели акциями. Позже выяснилось, что эта цифра сильно преувеличена. Главный актуарий Министерства финансов подсчитал, что в 1928 году ценными бумагами владели только три миллиона американцев – менее 2,5 процента населения, а брокерские фирмы сообщили о значительно меньшем количестве клиентов – 1 548 707 человек в 1929 году.[65]65
Sobel, Great Bull Market, 73–74; Galbraith, Great Crash, 83.
[Закрыть]
Итак, если верить легендам, средний американец – в данном случае это описание охватывает по меньшей мере 97,5 процента населения – не владел акциями в 1929 году. Даже косвенное владение акциями должно было быть минимальным в эпоху, предшествующую созданию пенсионных фондов, давших миллионам рабочих финансовую долю в капитализме. Таким образом, крах сам по себе не оказал прямого или непосредственного экономического воздействия на типичного американца. Депрессия, однако, была бы другой историей.
КОГДА ОТКРЫЛСЯ 1930 год, исследователи, составлявшие сборник «Последние социальные тенденции», только начинали свои изыскания. Серьёзно относясь к своей президентской миссии, они проявляли большой интерес к этому типичному американцу.[66]66
Последующее обсуждение в основном основано на книге «Последние социальные тенденции» (Recent Social Trends, passim) и на материалах HSUS. В качестве отправной точки для определения жизненного цикла «типичного» американца 1930 года в нём взяты данные о том, что средний возраст в том году составлял 26,5 лет.
[Закрыть] Его возраст, как они определили, составлял двадцать шесть лет. (Он был бы мужчиной, этот гипотетически абстрагированный индивид, поскольку мужчин в Соединенных Штатах было больше, чем женщин, до 1950 года, когда под влиянием сокращения иммиграции, значительного числа мужчин и повышения уровня выживаемости матерей женщины впервые стали составлять численное большинство американского населения). Он родился во время первого срока президентства Теодора Рузвельта, в самый разгар прогрессивной реформаторской закваски. Его рождение пришлось на время внезапного нападения Японии на русский флот в Порт-Артуре (Китай) – нападения, которое привело к войне, поражению России и первой русской революции (в 1905 году) и возвестило о стремлении Японии играть в великодержавную игру.
Около миллиона иммигрантов – практически ни одного японца, благодаря неприятному «джентльменскому соглашению», по которому японское правительство нехотя согласилось ограничить вывоз людей, – въезжали в Соединенные Штаты в каждый год его раннего детства. Ему исполнилось десять лет, когда в 1914 году началась Первая мировая война, и он только-только стал подростком – термин, действительно, понятие, ещё не вошедшее в широкий обиход, – когда президент Вудро Вильсон втянул Соединенные Штаты в войну. К моменту окончания боевых действий, в 1918 году, он окончил восьмой класс и завершил своё формальное школьное образование. (Если бы он был чернокожим, то закончил бы его на три года раньше).
Он был слишком молод, чтобы видеть сражения, но вскоре пришёл к выводу, что вся затея с отправкой американских войск в Европу была бесполезной, колоссальной ошибкой и непростительным отступлением от почтенной американской доктрины изоляции. Зрелище несчастных европейцев, разоряющихся в Германии, покорно подчиняющихся фашистскому диктатору в Италии, приветствующих большевиков – большевиков! – в России, а затем, в довершение всего, отказывающихся выплачивать свои военные долги Соединенным Штатам, подтвердило мудрость традиционного изоляционизма, насколько он понимал.
Выросший в деревне, где не было ни туалетов со смывом, ни электрического освещения, в 1920-е годы он переехал в город, в квартиру, чудесным образом оснащенную водопроводом и проводкой. На улицах он столкнулся с многочисленным и экзотическим потомством всех тех иммигрантов, которые приехали, когда он был ещё ребёнком. Вместе они вступали в новую эпоху, когда их страна неуклюже, без чертежей и предвидений, переходила от сельскохозяйственной к индустриальной экономике, от ценностей простой сельской бережливости к ценностям яркого городского потребительства и, как бы ни сопротивлялась эта идея, от провинциального изоляционизма к неизбежному международному участию.
Работы в то время было много, и за неё платили хорошую зарплату. Упорным трудом он зарабатывал чуть больше ста долларов в месяц. За последние годы его несколько раз увольняли, но он успел накопить небольшой запас сбережений в банке, чтобы пережить, когда снова наступит безработица, а он знал, что она обязательно наступит. Фондовый рынок только что рухнул, но, похоже, начал восстанавливаться, и в любом случае он не владел акциями – впрочем, как и все его знакомые. Вечерами он «работал на радио». По выходным он ходил в кино, благо теперь там был звук. Иногда он нарушал закон и поднимал бокал. В единственный выходной день в неделю он катался на машине, которую покупал в рассрочку.
Он жил лучше, чем когда-либо мечтали его родители. Он был молод и энергичен; времена были хорошие, а будущее обещало быть ещё лучше. Он только что отдал свой первый президентский голос в 1928 году за Герберта Гувера, самого компетентного человека в Америке, а может быть, и во всём мире. В том же году он женился на девушке на три года моложе его. Она бросила работу, чтобы родить им первого ребёнка. Они начали подумывать о покупке дома, возможно, в одном из новых пригородов. Жизнь только начиналась.
И их мир вот-вот должен был рухнуть.
2. Паника
Знаете, единственная проблема капитализма – это капиталисты: они чертовски жадны.
– Герберт Гувер – Марку Салливану
Когда 4 марта 1929 года состоялась инаугурация Герберта Гувера, писала журналистка Энн О’Харе Маккормик, «мы были в предвкушении волшебства… Вся страна была огромной, ожидающей галереей, глаза которой были устремлены на Вашингтон. Мы вызвали великого инженера, чтобы он решил за нас наши проблемы; теперь мы удобно и уверенно сидели и наблюдали за тем, как эти проблемы решаются. Современный технический ум впервые оказался во главе правительства… Почти с чувством, что мы даем гению шанс, мы ждали, когда начнётся представление».[67]67
Anne O’Hare McCormick, «A Year of the Hoover Method», New York Times, March 1930, sec. 5, 1.
[Закрыть] Ждать пришлось недолго, так как Гувер быстро созвал Конгресс на специальную сессию, чтобы разобраться с упрямой депрессией в сельском хозяйстве.
Собравшись 15 апреля, представители быстро узнали, что новый президент не потерпит возрождения предложений Макнари-Хаугена по экспортным субсидиям. Вместо этого Гувер потребовал «создания большого инструментария, наделенного достаточными полномочиями и ресурсами, чтобы… перевести сельскохозяйственный вопрос из области политики в область экономики».[68]68
Цитируется по Harris Gaylord Warren, Herbert Hoover and the Great Depression (New York: Oxford University Press, 1959), 169.
[Закрыть] Потрясенный властной аурой Гувера, Конгресс быстро подчинился. «Президент пользуется такой огромной популярностью в стране, – сказал один из сенаторов, – что республиканцы здесь стоят на коленях, а демократы снимают шляпы».[69]69
Сенатор-республиканец от Южной Дакоты Питер Норбек – Г. Дж. Моэну, 20 апреля 1929 г., цит. по Jordan A. Schwarz, The Interregnum of Despair: Hoover, Congress, and the Depression (Urbana: University of Illinois Press, 1970), 6.
[Закрыть] 15 июня президент подписал Закон о сельскохозяйственном маркетинге, создав Федеральный фермерский совет с капиталом в 500 миллионов долларов для развития сельскохозяйственных кооперативов и стабилизационных корпораций. Кооперативы должны были поддерживать упорядоченные рынки различных товаров – например, хлопка, шерсти и орехов пекан, – способствуя заключению добровольных соглашений между производителями. Если кооперативы не смогут навести порядок на своих рынках, стабилизационные корпорации будут готовы купить неуправляемые излишки. Когда 15 июля члены Фермерского совета собрались в Белом доме, торжествующий Гувер справедливо сообщил им, что на них возложена «ответственность, полномочия и ресурсы, которые никогда прежде не предоставлялись нашим правительством для помощи какой-либо отрасли».[70]70
К тому времени, когда Совет фермеров заработал в полную силу, углубляющаяся мировая депрессия настолько ослабила цены на сельскохозяйственную продукцию, что даже беспрецедентные суммы, выделенные в июне 1929 года, оказались явно недостаточными, чтобы остановить падение. Совет прекратил своё существование в 1933 году, потеряв около 371 миллиона долларов в тщетных попытках поддержать цены. Schwarz, Interregnum of Despair, 172, 176.
[Закрыть] Великий спектакль, казалось, начался, и не без доли волшебства. Всего за шестьдесят дней Великий Инженер вырвал у Конгресса смелое средство от сельскохозяйственной депрессии, которая продолжалась почти десять лет. Более того, это средство несло в себе безошибочные признаки отличительного политического гения самого Гувера. Оно воплощало принцип стимулируемого государством добровольного сотрудничества, лежавший в основе его социальной мысли, и в то же время предусматривало прямое вмешательство государства в частную экономику, если добровольность оказывалась неадекватной.
В редкой для президентов степени Гувер был рефлексирующим человеком с научными наклонностями, даже чем-то вроде политического философа. По иронии судьбы, именно та тщательность, с которой он разрабатывал свои руководящие принципы, и твердость, с которой он им следовал, со временем окажутся одними из его главных недостатков как лидера. Так же как и его привычка к одиночеству, сформировавшаяся в раннем детстве и подкрепленная жестоким опытом.
Гувер родился в квакерской семье в Вест-Бранче, штат Айова, в 1874 году. Его отец умер, когда Герберту было шесть лет, а мать – чуть больше трех лет спустя. Застенчивого ребенка-сироту разбросали по родственникам и друзьям квакеров, сначала в Айове, а затем в Ньюберге, штат Орегон, где в возрасте пятнадцати лет его отправили жить к дяде, который был школьным учителем и строгим дисциплинаром. Всю свою жизнь он носил отпечаток своего сельского квакерского происхождения. Он одевался просто, говорил просто, смотрел на мир с безмятежным бесстрастием и серьёзно прислушивался к голосу своей совести. Ранняя потеря родителей и воспитание среди незнакомых людей выработали в мальчике природную отстраненность и превратили его в зрелого мужчину с тщательно выверенной ледяной замкнутостью. К моменту приезда в Орегон Гувер уже успел зарекомендовать себя как замкнутый, но добросовестный одиночка, «самый тихий, самый работоспособный и самый трудолюбивый мальчик», которого она когда-либо встречала, сказала одна её знакомая из Орегона[71]71
Joan Hoff Wilson, Herbert Hoover: Forgotten Progressive (Boston: Little, Brown, 1975), 10.
[Закрыть]. Получив в 1895 году степень по геологии в «пионерском классе» Стэнфордского университета, Гувер недолго работал поденщиком на почти заброшенных горных месторождениях Сьерры. Затем в 1897 году он устроился на работу в лондонский международный горнодобывающий концерн Bewick, Moreing, который отправил молодого инженера в Австралию на поиски золота. Вскоре он нашел его и вскоре после этого помог разработать новые технологии для более эффективного извлечения золота из руды. Его работодатели были довольны. Когда в 1900 году Гувер вернулся из очередной командировки в Китай с документами на новое обширное месторождение угля, компания Bewick, Moreing сделала его своим партнером. В течение следующих четырнадцати лет Гувер путешествовал по миру, разрабатывая и контролируя горнодобывающие предприятия в Австралии, Азии, Африке и Латинской Америке. В 1909 году он опубликовал «Принципы горного дела» – руководство для инженеров и менеджеров, в котором пропагандировались коллективные переговоры, восьмичасовой день и серьёзное внимание к безопасности на шахтах. Книга стала стандартным учебником в школах горного дела и способствовала распространению репутации Гувера как необычайно прогрессивного, просвещенного бизнесмена. В 1914 году, в возрасте сорока лет, сколотив состояние, оцениваемое примерно в 4 миллиона долларов, он отошел от активной деятельности. Его квакерская совесть побуждала его к добрым делам. Его жена Лу Генри Гувер, выпускница геологического факультета Стэнфорда, на которой он женился в 1899 году, тоже побуждала его к добрым делам. Она была грозной женщиной, которая на всю жизнь стала его щитом от назойливого мира, организатором пунктуально правильных званых обедов, на которых Гувер укрывался за маской приличия и формальности.
Когда началась Великая война, Гувер вызвался организовать международную помощь Бельгии, страдавшей тогда от немецкой оккупации. Его успех в деле «накормить голодающих бельгийцев» принёс ему международную репутацию великого гуманиста. В 1917 году Гувер вернулся в Соединенные Штаты, чтобы служить администратором продовольствия в правительстве Вудро Вильсона в военное время. По окончании войны он сопровождал Вильсона в Париж в качестве личного советника президента, а также в качестве экономического директора Высшего экономического совета, председателя Межсоюзнического продовольственного совета и председателя Европейского угольного совета. Ему, как никому другому, принадлежала заслуга в реорганизации разрушенной войной европейской экономики. Благодаря ему были вновь открыты шахты, расчищены реки, восстановлены мосты и дороги, доставлены продовольствие и медикаменты. К тому времени, когда подписавшие договор в Версале поставили свои имена, Гувер стал знаменитой фигурой, объектом восхищения с оттенком благоговения. Реформист-юрист Луис Брандейс считал его «самой крупной фигурой, которую война ввела в жизнь Вашингтона». «Высокий общественный дух Гувера, его необыкновенный ум, знания, сочувствие, молодость и редкое восприятие того, что действительно полезно для страны, – восторгался Брандейс, – с его организаторскими способностями и умением внушать преданность сделают замечательные вещи на посту президента». Помощник министра военно-морского флота Франклин Д. Рузвельт провозгласил Гувера «несомненным чудом, и я хотел бы, чтобы мы сделали его президентом Соединенных Штатов. Лучшего кандидата не найти».[72]72
Schlesinger 1:80–82.
[Закрыть] В конце войны партийная принадлежность Гувера была неизвестна, и прогрессисты обеих партий обхаживали его. Но вскоре он объявил себя республиканцем, участвовал в кампании Уоррена Г. Хардинга и был вознагражден назначением на пост министра торговли, который он занимал в течение восьми лет.
Долгие годы, проведенные Гувером за границей, пробудили в нём острый интерес к отличительным культурным чертам своей страны, и в 1922 году он собрал свои мысли на эту тему в небольшой книге «Американский индивидуализм». Рецензент в «Нью-Йорк Таймс» отнес её «к немногим великим формулировкам американской политической теории».[73]73
Цитируется по Wilson, Herbert Hoover, 55.
[Закрыть] Возможно, эта похвала была преувеличена – возможно, читатель удивился тому, что современный министр торговли может даже удержаться в интеллектуальном окружении Гамильтона, Мэдисона и Джея, – но «Американский индивидуализм» по любым меркам был необычайно вдумчивым размышлением об американском состоянии. Кроме того, она стала поучительным путеводителем по идеям, которые легли в основу поведения Гувера на посту президента.
В конце концов, «индивидуализм» – это понятие, которое было придумано для описания социального развития, считавшегося уникальным для американского общества. Алексис де Токвиль впервые ввел этот термин в оборот столетием ранее в книге «Демократия в Америке», где он заявил, что «индивидуализм имеет демократическое происхождение». Он отличается от простого эгоизма и во многих отношениях более опасен, потому что более изолирован. Эгоизм, говорил Токвиль, «заставляет человека связывать все с собой и предпочитать себя всему на свете», но индивидуализм все же более губителен, потому что он «располагает каждого члена общества к тому, чтобы отделиться от массы своих собратьев и обособиться».[74]74
Alexis de Tocqueville, Democracy in America (New York: New American Library, 1956), 192–93.
[Закрыть]
Гувер утверждал, что Токвиль ошибался, что американский индивидуализм по своей сути не был ни эгоистичным, ни солипсическим. Скорее, он включает в себя уважение к другим и привязанность к обществу в целом. В лексиконе Гувера слово, которое отражало суть американского индивидуализма, – это служение. «Идеал служения», – писал Гувер в книге «Американский индивидуализм», – «великая духовная сила, излившаяся из нашего народа, как никогда прежде в истории мира». Это был уникально американский идеал, который, к счастью, сделал ненужным в Америке тот отвратительный рост формальной государственной власти, от которого страдали другие нации.[75]75
Herbert Hoover, American Individualism (Garden City, N.Y.: Doubleday, Page, 1923), 28–29.
[Закрыть]
Гувер в некотором смысле возродил видение спонтанно возникшего общества взаимопомощи, населенного добродетельными, полными общественного духа гражданами, которое вдохновляло республиканских теоретиков эпохи американской революции. Несомненно, на его мышление повлияло и квакерское воспитание с его мягким, но твёрдым акцентом на ценности консенсуса и взаимовыручки. Из какого бы источника Гувер ни исходил, он выражал индивидуализм, который не был просто «суровым» и одиноким типом, который карикатуристы несколько несправедливо вложили в его уста (хотя он действительно произносил эту фразу). Его идеальный индивидуализм был, скорее, общинным и кооперативным, проистекающим из веры в лучшее «я» каждого гражданина. Главная роль правительства заключалась в том, чтобы сформулировать и оркестровать стремления этих лучших «я» и предоставить информацию и средства для их объединения. Правительство действительно может вмешаться туда, где волюнтаризм потерпел явную неудачу, но только после справедливого испытания. Правительство не должно произвольно и бесцеремонно подменять добровольное сотрудничество принудительной бюрократией. Это путь к тирании и разложению уникальной политической души Америки.








