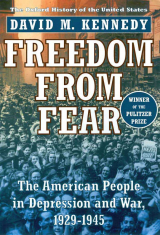
Текст книги "Свобода от страха. Американский народ в период депрессии и войны, 1929-1945 (ЛП)"
Автор книги: Дэвид М. Кеннеди
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 73 страниц)
EPIC поддерживали такие интеллектуалы, как Джон Дос Пассос и Теодор Драйзер, а также лидер Международного профсоюза работников женской одежды Дэвид Дубински. Они были сильно разочарованы результатами выборов в Калифорнии. Поражение Синклера показалось многим левым символом проблем с обычной политикой, с традиционными политическими партиями и с самим Франклином Рузвельтом, тем более что усилия самого Рузвельта по преодолению депрессии не принесли никаких результатов. «Провал – тяжелое слово», – заявило радикальное периодическое издание «Common Sense» в конце 1934 года, озвучив мысли многих представителей все более раздробленной и взволнованной левой. «И все же мы считаем, что, судя по данным, от „Нового курса“ нельзя ожидать ничего, кроме провала».[393]393
Common Sense, September 1934, 2, цитируется по Leuchtenburg, 95.
[Закрыть]
По мере распространения этих настроений возникла вероятность появления лидера – кого-то более житейского, чем лунный Синклер, более широкого, чем однопартиец Таунсенд, более целенаправленного и дисциплинированного, чем порой беспечный Олсон, более приземленного, чем мозговитая толпа вокруг «Здравого смысла», более американского, чем социалисты или коммунисты, – кого-то, кто смог бы собрать новый политический сосуд, чтобы вместить все кипящее недовольство народа, все больше сбиваемого с толку Депрессией. Политика, как и природа, не терпит вакуума. Рузвельт легко заполнил пространство, освободившееся после провалов политики Гувера, но что может ворваться в пустоту, образовавшуюся после очевидного провала «Нового курса»? Возможно, это был один из тех моментов – редкий в американской истории, но его возможности очевидны даже в других развитых демократиях, что ярко продемонстрировал приход к власти нацистов в Германии, – когда массовое движение может вырвать инициативу у устоявшихся политических властей и навязать нации свою собственную повестку дня.
КТО МОГ БЫ ВОЗГЛАВИТЬ такое движение? Экстраординарные времена породили экстраординарных кандидатов, причём в необычайном изобилии. Из легионов радикалов, демагогов, нострамологов и просто сумасбродов, процветавших в накаленной атмосфере Депрессии, никто не казался поначалу более маловероятным мессией, чем преподобный Чарльз Эдвард Кофлин, уроженец Канады, римско-католический священник.
В 1926 году, в возрасте тридцати четырех лет, Кофлин стал пастором крошечного нового прихода в детройтском пригороде Ройал-Оук, церковь которого была объявлена святыней недавно канонизированной святой Терезы, Малого Цветка Иисуса. Скромная паства Кофлина, насчитывавшая всего двадцать пять католических семей, казалась невероятно мощной базой, с которой можно было бы привлечь внимание всей страны. К тому же мрачная и суровая община Ройал-Оук находилась далеко от центров национального влияния.
И все же маленькая паства Кофлина, состоявшая в основном из рабочих-автомобилистов, достаточно благополучных, чтобы переехать в пригород из копоти и грохота Детройта, представляла собой растущую силу в американской политической жизни. Эти католики из низшего среднего класса, многие из которых едва ли на поколение оторвались от своих предков в старых странах, были благодарными, но настороженными бенефициарами процветания 1920-х годов. Это были не самые бедные американцы, а скорее те, кому удалось подняться на одну-две ступеньки по лестнице социальной мобильности. Это были люди, которые с гордостью украшали свои гостиные фотографиями в рамке из цветного ротогравюрного раздела воскресной газеты, иногда брали отпуск, покупали машину в рассрочку, предвкушали, как однажды станут владельцами собственного дома, свободного и чистого. Депрессия не столько обделила их, сколько быстро остановила их смелый марш к осуществлению американской мечты. В Ройал-Оуке и в десятках других кварталов в крупных промышленных городах Северо-Востока и верхнего Среднего Запада они ютились в своих тесных этнических анклавах, беспокоились о своём шатком экономическом положении и негодовали по поводу непримиримой, по их мнению, враждебности протестантского большинства. У Кофлина было своё собственное напоминание об этой враждебности, когда Ку-клукс-клан приветствовал его в Ройал-Оуке, сжигая крест на лужайке его церкви. Лидеры вроде бостонского Джеймса Майкла Керли уже сделали карьеру на том, чтобы подогревать тревогу и играть на недовольстве людей, подобных прихожанам Кофлина, но Керли и другие католические мэры, такие как Джимми Уокер из Таммани-Холла в Нью-Йорке и Антон Чермак из Чикаго, были местными фигурами. Кофлин же стремился к национальной известности. Средством, которое могло бы доставить его туда, по его мнению, была чудесная, новомодная технология, которой не исполнилось и десяти лет: радио.
В конце 1920-х годов политические и социальные эффекты радио только начинали ощущаться, не говоря уже о том, чтобы их понимать. В течение нескольких лет после первых коммерческих передач на детройтской станции WWJ в 1920 году большинство радиостанций работали на малой мощности, обычно менее ста ватт. Сигналы можно было надежно передавать лишь на несколько миль. Станции, многие из которых спонсировались местными церквями, профсоюзами или этническими организациями, обслуживали рынки, едва ли превышающие по площади микрорайоны. Большая часть программ – религиозные службы, ток-шоу, водевили и «часы национальностей» с новостями из Польши или Италии – предназначалась для отдельных этнических сообществ на их родных языках. Таким образом, радио дебютировало как технология, укрепляющая местные институты. Но новое средство массовой информации быстро превратилось в электронные шлюзы, через которые хлынул односторонний поток продуктов массовой культуры, захлестнувший ценности, нравы и вкусы некогда изолированных населенных пунктов. Первые пятитысячеваттные передатчики появились в 1925 году, а десятитысячеваттные станции начали вещать к 1928 году. Сети вскоре стали платформой для коммерческих спонсорских и общенациональных синдицированных программ, начиная с Amos ’n’ Andy, бессменно популярного комедийного шоу, которое впервые вышло в эфир в 1928 году.
Радио разрушило замкнутость местных сообществ. Оно также, не случайно, катализировало гомогенизацию американской популярной культуры. И оно обещало произвести революцию в политике. Позже ученые использовали термин «дезинтермедиация» для описания потенциальных политических эффектов радио (и в конечном итоге, конечно, телевидения). Радио давало возможность концентрировать и осуществлять власть сверху, обходить и сокращать влияние лидеров и институтов, которые раньше были посредниками между отдельными людьми и местными сообществами, с одной стороны, и национальными политическими партиями и правительством страны – с другой. Как и в сфере культуры, в политической сфере радио на практике было односторонним каналом. Мощные голоса лились по эфиру и омывали миллионы слушателей. Мало кто из слушателей мог ответить. Радио создало политическую среду, невообразимо далёкую от «дайте и возьмите» городского собрания, которое Томас Джефферсон называл «лучшей школой политической свободы, которую когда-либо видел мир». Радио могло стать средством массовой информации, обладающим огромной силой, как во благо, так и во вред. Франклин Рузвельт был одним из первых, кто почувствовал его политические возможности. Другим был отец Чарльз Кофлин.[394]394
Lizabeth Cohen, Making a New Deal: Industrial Workers in Chicago, 1919–1939 (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), 129ft, предлагает отличное обсуждение раннего влияния радио.
[Закрыть] Кофлин начинал довольно скромно: 17 октября 1926 года микрофон, прикрепленный к его кафедре, передал слова его воскресной проповеди слушателям детройтской радиостанции WJR. В течение трех лет его послания передавали также станции в Чикаго и Цинциннати. В 1930 году он заключил сделку с Columbia Broadcasting System, чтобы передавать свои проповеди по всей стране. К тому времени, когда Депрессия полностью охватила страну, десятки миллионов американцев регулярно собирались у своих радиоприемников в воскресные дни, чтобы послушать «радиосвященника». В этнических кварталах промышленного пояса жители могли пройти несколько кварталов в летнее воскресенье и не пропустить ни одного слова из голоса отца Кофлина, доносившегося из открытых окон салонов.
И что это был за голос! Слегка приправленный бродкастом, мелодичный и успокаивающий, он был голосом, по словам романиста Уоллеса Стегнера, «такого плавного богатства, такой мужественной, сердечной, доверительной близости, такого эмоционального и вкрадчивого обаяния, что любой, проходя мимо него по радио, почти автоматически возвращался, чтобы услышать его снова. Это был, – заключил Стегнер, – без сомнения, один из величайших ораторских голосов двадцатого века… Это был голос, созданный для обещаний».[395]395
Alan Brinkley, Voices of Protest: Huey Long, Father Coughlin, and the Great Depression (New York: Knopf, 1982), 90. За большую часть моего рассказа о Кофлине и Хьюи Лонге, и особенно за понимание идеологии, которую они представляли, я глубоко обязан исследованию Бринкли.
[Закрыть]
Это был голос, который все чаще говорил не о религии, а о политике. В первых передачах Кофлин затрагивал такие темы, как значение таинств и зло контроля рождаемости, но в своей проповеди от 12 января 1930 года он сделал новый шаг вперёд, яростно атаковав коммунизм, который в то время угрожал завоевать новообращенных среди растущих рядов безработных авторабочих Детройта. Вскоре, свободно переняв католические доктрины социальной справедливости, изложенные в папских энцикликах Rerum Novarum (1891) и Quadragesimo Anno (1931), Кофлин обрушился с инвективами на Герберта Гувера, обличая международных банкиров, выступая против золотого стандарта, требуя инфляции – прежде всего, инфляции за счет монетизации серебра – и провозглашая достоинства национализации всей американской банковской системы. «Я чертовски хорошо знал, – непочтительно размышлял он, раскрывая манию величия, которая в конечном итоге поможет его уничтожить, – что маленький народ, средний человек, страдает. Я также знал, что ни у кого не хватает смелости сказать правду о том, почему нация находится в такой смертельной опасности. Я знал, что если кто-то и будет информировать американских граждан, то это должен быть я».[396]396
Michael R. Beschloss, Kennedy and Roosevelt: An Uneasy Alliance (New York: Norton, 1980), 114.
[Закрыть] Миллионы слушателей впитывали его послание. К 1932 году почта поклонников Кофлина, большая часть которой была набита деньгами, требовала внимания 106 клерков и четырех личных секретарей. Два года спустя он получал больше писем, чем любой другой человек в Соединенных Штатах, включая президента.
Мало что из этого, особенно готовность Кофлина осыпать словесными ударами и без того пошатывающегося Герберта Гувера, было упущено Франклином Рузвельтом. В мае 1931 года родственник из Детройта написал Рузвельту, что у Кофлина «есть последователи, почти равные мистеру Ганди… Он хотел бы предложить свои услуги… С ним будет трудно справиться, и он может быть полон динамита, но я думаю, что вам лучше приготовиться сказать „да“ или „нет“». Поначалу Рузвельт колебался, но ни один политик, претендующий на президентский пост, не мог позволить себе игнорировать эти ослепительные цифры Кофлина. Более того, Рузвельт, несомненно, видел в Кофлине мост к католическим иммигрантским общинам, которые он надеялся привлечь в свою национальную избирательную коалицию. В соответствии с этим Рузвельт поддерживал Кофлина через двух надежных ирландско-католических посредников: финансиста Джозефа П. Кеннеди и либерального мэра Детройта Фрэнка Мерфи. По их настоянию священник – «падре», как интимно называл его Рузвельт, – дважды посетил кандидата Рузвельта в 1932 году и отправил ему подхалимскую телеграмму после получения Рузвельтом номинации от демократов: «Я с вами до конца. Скажите слово, и я последую за вами».[397]397
Charles J. Tull, Father Coughlin and the New Deal (Syracuse: Syracuse University Press, 1965), 15.
[Закрыть]
В ходе последующей кампании Кофлин сердито осуждал Гувера, к несомненному удовольствию и несомненной выгоде Рузвельта. В первые месяцы «Нового курса» «падре» ещё больше заискивал перед Рузвельтом, пышно одобряя политическую программу нового президента. «Новый курс – это курс Христа!» – провозглашал он. По словам Кофлина, страна стояла перед выбором: «Рузвельт или гибель». Опьяненный своим очевидным доступом к власти, Кофлин стал без предупреждения заходить в Белый дом, шутить с сотрудниками Рузвельта, украшать свои замечания репортерам интимными упоминаниями «Босса» и самонадеянно предлагать списки добрых католиков, которые должны получить назначения послов. Эта фальшивая фамильярность стала для президента слишком большой. «Кем, черт возьми, он себя возомнил?» спросил Рузвельт у своего помощника. «Он должен сам баллотироваться в президенты».[398]398
Beschloss, Kennedy and Roosevelt, 116.
[Закрыть]
Учитывая религиозные предрассудки страны, римский воротничок Кофлина делал такой забег маловероятным. С учетом Конституции его канадское происхождение делало это невозможным. Но ни религиозные предрассудки, ни юридические препятствия не могли помешать кампании радиосвященника против денежной власти – этого старого американского врага, обосновавшегося на Уолл-стрит, сплетенного с ужасными международными банкирами, махинации которых, как мрачно намекал Кофлин, хитроумно организуются зловещим еврейским директоратом. По мере того как продолжалась депрессия, пока Рузвельт скорее восстанавливал, чем экспроприировал банки, и особенно по мере того как он не проводил достаточно энергичную инфляционную политику, Кофлин все больше критиковал «Новый курс». Когда в начале 1934 года министерство финансов попыталось остановить серебристов, опубликовав список серебряных спекулянтов, в котором значилось имя личного секретаря Кофлина, Кофлин обрушился с яростью на врагов «языческого серебра» и под страхом «политической смерти» потребовал от Демократической партии объяснить, «почему посреди изобилия царит нужда». Сейчас, как никогда раньше, он четко заявил: «Я выступаю за „Новый курс“».[399]399
Brinkley, Voices of Protest, 123.
[Закрыть]
Вскоре Кофлин пошёл дальше. Старые политические партии, заявил он в конце 1934 года, «практически мертвы» и должны «сдать скелеты своих гниющих туш в залы исторического музея».[400]400
Schlesinger 3:24.
[Закрыть] 11 ноября 1934 года он объявил о рождении нового политического органа, который он окрестил Национальным союзом за социальную справедливость. Его платформа «Шестнадцать принципов» включала в себя призывы к денежным реформам, а также к национализации ключевых отраслей промышленности и защите прав трудящихся. Несмотря на скудную организационную структуру и неопределенное число членов – по разным оценкам, до восьми миллионов, – Национальный союз представлял собой потенциально грозную новую политическую силу, способную мобилизовать промышленных рабочих-иммигрантов, которые к этому времени уже пять лет кипели от нежелательного безделья. По всем признакам, кроме названия, это была новая политическая партия, или, конечно, она стремилась стать таковой. Во всём, кроме своей демографической базы, она воскрешала популистское движение 1890-х годов, с его навязчивыми идеями о деньгах, теориями заговора, раздражённым антиинтернационализмом и намеками на антисемитизм. Все дальше отдаляясь от Рузвельта, которого он вскоре обвинил в том, что тот «перехитрил Гувера» и защищает «плутократов» и «коммунистов», Кофлин вскоре воспользовался возможностью испытать на практике эту новую политическую машину.
16 января 1935 года Рузвельт попросил одобрить договор, предусматривающий присоединение Америки к Всемирному суду, заседающему в Гааге. Многие члены официальной семьи президента с самого начала считали, что предложение о вступлении в Суд было политической ошибкой. «Меня все время удивляло, что президент ставит этот вопрос так остро, как он его поставил», – писал в своём дневнике Гарольд Икес. «Я уверен, что настроения в стране в подавляющем большинстве против вступления в Суд Лиги… Если бы это предложение было вынесено на голосование народа, оно было бы провалено два к одному».[401]401
Ickes Diary 1:284.
[Закрыть] Но для Рузвельта это предложение представляло собой небольшой жест, который мог бы смягчить изоляционистский образ, созданный им во время Лондонской экономической конференции. Рузвельт все больше убеждался в том, что международная ситуация опасно ухудшается, о чём свидетельствовали недавний отказ Японии от соглашений об ограничении военно-морских сил, заключенных в предыдущее десятилетие, и очевидная решимость Токио приступить к строительству нового огромного боевого флота. Перед лицом таких вызовов Америка не могла позволить себе бездействовать, рассуждал Рузвельт. Он надеялся послать миру скромный сигнал о том, что он не полностью отказался от своих собственных интернационалистских убеждений, сформированных на службе у Вудро Вильсона, временно оставленных в 1932 и 1933 годах, но вновь пробудившихся в условиях надвигающегося мирового кризиса середины 1930-х годов. Приверженность Суду могла бы также послужить воспитательной цели внутри страны, отучая американцев от самодовольного парохиализма, который они вновь обрели после фиаско Великой войны. После тщательного опроса огромного демократического большинства в новом Сенате и с заверениями, что членство в Суде никоим образом не повредит американскому суверенитету, Рузвельт пошёл вперёд, уверенный в успехе.
У Кофлина были другие идеи. В воскресенье, 27 января, он выступил в эфире с проповедью об «угрозе Мирового суда», осудив предложение Рузвельта, а также «международных банкиров», которые якобы являются бенефициарами этой гнусной затеи президента. Он призвал своих слушателей отправить телеграммы своим сенаторам с требованием проголосовать «против». Подстегиваемая изоляционистской прессой Херста, обширная аудитория Кофлина ответила лавиной телеграмм, которые сотнями тысяч были доставлены в здание сената утром в понедельник, 28 января. На следующий день Сенат не смог собрать две трети голосов, необходимых для ратификации договора о суде. «Я не намерен, чтобы эти джентльмены, чьи имена я не могу даже произнести, не говоря уже о том, чтобы написать их по буквам, решали права американского народа», – заявил сенатор от Луизианы Хьюи Лонг. Предложение Суда, казавшееся несомненным всего несколькими днями ранее, погибло. Рузвельт был ошеломлен. «Радиопереговоры таких людей, как Кофлин, обернули все против нас», – мрачно писал он другу.[402]402
T. Harry Williams, Huey Long (New York: Knopf, 1969), 800; Elliott Roosevelt, ed., FDR: His Personal Letters, 1928–1945 (New York: Duell, Sloan, and Pearce, 1950), 451.
[Закрыть]
Борьба в Мировом суде стала молниеносной демонстрацией силы Кофлина и нанесла Рузвельту сильнейший удар. «Легенда о неуязвимости быстро исчезает», – писал обозреватель Артур Крок. Значительная политическая репутация Рузвельта ощутимо пошатнулась, не говоря уже о его жестком политическом влиянии, особенно в сфере дипломатии, которая становилась все более актуальной. Если даже скромный и в значительной степени символический акт ассоциации с международным трибуналом в Гааге был так резко отвергнут, казалось, что у Рузвельта мало шансов подтолкнуть своих соотечественников к отказу от исторического изоляционизма и к какому-либо значимому обязательству объединиться с другими демократиями в противостоянии растущей угрозе диктатуры и агрессии. Рузвельт с особой горечью отзывался о сенаторах, которых поколебала кампания Кофлина. «Что касается 36 джентльменов, проголосовавших против принципа Всемирного суда, – писал он лидеру сенатского большинства Джозефу Робинсону, – то я склонен думать, что если они когда-нибудь попадут на небеса, то будут очень долго извиняться – если только Бог против войны, а я думаю, что он против».[403]403
Edgar B. Nixon, ed., Franklin D. Roosevelt and Foreign Affairs (Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press, 1969), 2:381.
[Закрыть]
Не менее удручающим для Рузвельта, чем фактическое поражение по договору о мировом суде, был способ его достижения. По мере того как Кофлин укреплял и использовал своё политическое влияние, он проявлял злой гений в раскрытии самых тёмных уголков национальной души. Он коварно играл на худших инстинктах своих последователей: их подозрительном провинциализме, непросвещенности, жажде простых объяснений и экстравагантных средств для решения неоспоримых проблем, готовности верить в заговоры, угрюмых обидах и слишком человеческой способности к ненависти. В начале 1935 года Национальный союз за социальную справедливость так и не был сформирован, а устойчивая политическая сила Кофлина все ещё оставалась предметом предположений. Но если священнику радио удастся объединить своих последователей с другими диссидентскими движениями протеста, бушевавшими по всей стране: Таунсендом и Синклером в Калифорнии, Олсоном и Ла Фоллеттами на верхнем Среднем Западе и, особенно, меркантильным сенатором от Луизианы Хьюи Пирсом Лонгом, то неизвестно, какие разрушительные фурии могут быть развязаны.
Из всех этих фигур Лонг был самым проницательным оператором и самым профессиональным политиком. У него были мозги, деньги, амбиции, экстравагантные ораторские способности, дар политического театра и люпиновое чутье на политическую язву нации. Он был радикалом, который с наибольшей вероятностью мог добиться успеха. Лонг также был крайним примером политического вида, присущего американской демократии, вида, узнаваемого по характерному языку. Лонг говорил на языке более страстном и красочном, чем другие представители его рода, но, как и Кофлин, он говорил на знакомых акцентах американского популизма. Популизм был идиомой американского производства. Он был слышен слушателям ещё Алексису де Токвилю во времена Эндрю Джексона. Он разбух до рёва во время потрясений Народной партии в 1890х годах и никогда полностью не затихал. Зачастую в грубых каденциях необученной сельской американской речи, популистский диалект озвучивал страхи бессильных и враждебность отчужденных. В нём говорилось о равенстве и свободе, но главным из них было равенство. Равенство, писал Токвиль, было главной «страстью» американцев. Стремясь к равенству, американцы были «пылкими, ненасытными, непрекращающимися, непобедимыми; они требуют равенства в свободе, а если они не могут его получить, они все равно требуют равенства в рабстве. Они вынесут нищету, рабство, варварство, но не вынесут аристократии».[404]404
Alexis de Tocqueville, Democracy in America (New York: Vintage, 1945), 2:102–3.
[Закрыть] Популизм противопоставлял добродетели «народа» порокам теневой элиты, чьи алчные махинации угнетали бедных и извращали демократию. Это всегда был язык негодования, грубого классового антагонизма, окантованного завистью и злобой. В напряженной атмосфере 1930-х годов он легко мог превратиться в язык репрессий.[405]405
Расширенное обсуждение популистского направления в американской политической культуре см. Michael Kazin, The Populist Persuasion: An American History (New York: Basic, 1995).
[Закрыть]
Лонг владел языком популистов в такой степени, в какой мало кто мог сравниться с ним до или после него. Кроме самого Франклина Рузвельта, ни одна фигура не вспыхивала более ярким светом на омраченном депрессией американском политическом ландшафте. Выступая против богатства и Уолл-стрит, воспевая достоинства и невзгоды простого человека, Лонг пронесся по национальной сцене, полный звука и ярости. В течение долгого, напряженного сезона казалось, что традиционная политическая система не сможет сдержать ни его, ни сдерживаемую ярость, которую он грозился выпустить.
Лонг был родом из округа Уинн, покрытого соснами района с красными почвами на севере центральной части Луизианы. Винн был местом ферм с одним человеком и мулом, небольших лесопилок и скудных милостей. Населяли его в основном простые белые южные баптисты, которым мало чем можно похвастаться на этой земле, кроме своей репутации сквернословов. На протяжении многих поколений они с подозрением относились к чужакам и мучились под двойным бременем бедности и бесправия, причём тяжесть первого напрямую объясняла постоянство второго. Многие из их предков были юнионистами в сепаратистской Луизиане; другие возглавляли популистское движение в Луизиане в 1890-х годах; третьи активно голосовали за кандидата в президенты от социалистов Юджина Дебса в 1912 году. Ни один из этих непостоянных жестов неповиновения не улучшил их положение. Уинн так и остался неизменным гулом инакомыслия в одном из самых бедных и коррумпированных штатов Союза. Накануне Депрессии пятая часть взрослых белых мужчин штата и гораздо большая часть чернокожих были неграмотны. Несмотря на богатые природные запасы нефти и газа, олигархия самодовольных бизнесменов и надменных плантаторов поддерживала в Луизиане доход на душу населения ниже, чем во всех остальных штатах, за исключением девяти.
Лонг родился в 1893 году, когда популистское движение было на пике популярности. Больше, чем знаки зодиака, его отличали земное место и исторический момент рождения. Он был наследником богатого наследия кислого негодования и разочарованного радикализма. Мало кто более естественно подходил к темпераменту агннера.
Впервые Лонг баллотировался на государственную должность в 1918 году, успешно выдвинув свою кандидатуру на пост железнодорожного комиссара штата. На протяжении 1920-х годов комиссар Лонг приобрел репутацию защитника народа и бича крупных корпораций, особенно Standard Oil Company, которые управляли штатом с баронским размахом. В 1928 году он участвовал в предвыборной кампании на пост губернатора под лозунгом, который отражал суть старой популистской мечты о беспрепятственном изобилии и радикальном выравнивании: «Каждый человек – король, но никто не носит корону». Используя гнойные экономические претензии штата, Лонг одержал внушительную победу. Теперь, сказал Лонг своим сторонникам в ночь выборов, «мы покажем им, кто здесь хозяин…Вы, парни, держитесь за меня…Мы только начинаем».[406]406
Brinkley, Voices of Protest, 22.
[Закрыть]
Действительно, все только начинается. Губернатор Лонг принялся за работу с полной отдачей. Он поднял налоги на добычу нефти и газа и использовал полученные доходы для столь необходимых улучшений системы автомобильных дорог штата, бесплатных учебников для школьников, новых больниц и общественных зданий. Тем временем он все крепче сжимал политический аппарат штата, превратив Луизиану в самое близкое к диктатуре государство, которое когда-либо знала Америка.
Избранный в Сенат США в 1930 году, Лонг отказывался покидать пост губернатора ещё почти два года, занимая обе должности одновременно. Наконец, прибыв в июне 1933 года, чтобы занять место в Сенате, он заехал в Белый дом к Франклину Рузвельту. «Фрэнк», – назвал Лонг президента, чьи гарвардские манеры и отточенные манеры отталкивали популиста из Уинна. В заученном жесте наглого неуважения Лонг нахально пренебрег своей соломенной шляпой, снимая её только для того, чтобы время от времени выразительно постучать по неподвижному колену Рузвельта. В этом и многих других случаях Лонг излучал презрение к национальному политическому истеблишменту, к магнатам, инсайдерам и «высоким шляпам», которые смотрели сквозь пальцы на таких, как честные деревенщины из Винн-Пэриш. «Все, что меня волнует, – говорил он, – это то, что думают обо мне парни у развилок ручья».[407]407
Brinkley, Voices of Protest, 75.
[Закрыть]
Они любили его. Луизианцы позволили Лонгу и его лейтенантам захватить беспрецедентную власть. С помощью подкупа и принуждения Лонг пополнил свой огромный политический сундук. Будучи уверенным в своих силах в родном штате и обеспеченным финансами, Лонг вышел на национальную арену в роли героя из деревенщины и играл её с упоением. Он носил костюмы из белого шелка и галстуки из розового шелка, откровенно баловался, пил виски в лучших барах, размашисто разъезжал по Вашингтону и с вызовом дышал в зубы своим критикам. Мать президента называла его «этот ужасный человек». Друзья называли его «Кингфиш», в честь персонажа радиопередачи Amos ’n’ Andy. («Кингфиш», – говорили критики Лонга, усматривая параллели с другим опасным демагогом). New York Times назвала его «человеком с медным фасадом и кожаными легкими». Франклин Рузвельт назвал его «одним из двух самых опасных людей в стране». (Вторым, по словам Рузвельта, был начальник штаба армии Дуглас МакАртур).[408]408
Schlesinger 3:61; Brinkley, Voices of Protest, 56–58.
[Закрыть] Как и отец Кофлин, Лонг поначалу поддерживал «Новый курс», особенно его ранний акцент на инфляции. Но Закон об экономике и особенно NRA убедили его в том, что Рузвельт – всего лишь ещё один презренный высокопоставленный шляпник, находящийся в постели с «денежной властью», крупными корпорациями и укоренившейся элитой отвратительного восточного истеблишмента. Как и отец Кофлин, он вскоре был готов открыто отречься от программы Рузвельта. Как и отец Кофлин, как и сам Рузвельт, он полагался на радио, чтобы найти свою аудиторию и создать свою политическую базу.[409]409
Как и отец Кофлин, Лонг стал объектом контратаки со стороны администрации Рузвельта. Президент заблокировал все федеральное покровительство машине Лонга в Луизиане и приказал Службе внутренних доходов провести расследование в отношении Лонга и его политических соратников.
[Закрыть]
Как и Эптон Синклер, Лонг также полагался на письменное слово для распространения своих идей. В октябре 1933 года он опубликовал автобиографию «Каждый человек – король», а в 1935 году, в прямом подражании Синклеру, – «Мои первые дни в Белом доме». Ни одна из этих книг не произвела впечатления на критиков, один из которых насмехался, что Лонг «неуравновешенный, вульгарный, во многом невежественный и довольно безрассудный». Однако Лонга мало волновали похвалы литераторов. Его книги, по словам историка Алана Бринкли, были «предназначены для мужчин и женщин, не имеющих привычки читать книги». Те же, кто имел такую привычку, могли прочитать тонко беллетризованные рассказы о персонажах, основанных на Лонге, в книге Синклера Льюиса «Этого здесь не может быть» (1935), предостерегающей истории о возможностях фашизма в родной Америке, и позднее в «Все люди короля» Роберта Пенна Уоррена (1946), чувствительном романе о психологии власти и коррупции.[410]410
Brinkley, Voices of Protest, 70.
[Закрыть]
В 1934 году Лонг основал общество «Разделим наше богатство». Он выступил в эфире с простой платформой: он сделает «каждого человека королем», конфисковав крупные состояния, обложив их прогрессивным подоходным налогом и распределив доходы между всеми американскими семьями в виде «домашнего имущества» в размере пяти тысяч долларов – достаточно, по его мнению, для дома, автомобиля и, что немаловажно, радио. Кроме того, каждой семье был бы гарантирован минимальный годовой доход в размере двадцати пятисот долларов в год (почти вдвое больше медианного дохода семьи в то время).[411]411
HSUS, 303, приводит медианный доход семьи в размере 1231 доллара в 1939 году.
[Закрыть] Но и это было ещё не все: Лонг добавил обещания сократить рабочий день, улучшить льготы для ветеранов, субсидии на образование для молодёжи и пенсии для пожилых людей. («Это привлекло к нам множество жителей Таунсенда», – говорил один из приспешников Лонга).[412]412
Schlesinger 3:63.
[Закрыть] Он излагал свою программу в терминах, давно знакомых в Уинн-Пэриш, рисуя картину американского Эдема, развращенного змеей монопольной власти:
Бог пригласил нас всех к себе, чтобы мы ели и пили, сколько захотим. Он улыбнулся нашей земле, и мы вырастили обильный урожай, чтобы есть и носить. Он показал нам в земле железо и другие предметы, чтобы мы могли делать все, что захотим. Он открыл нам секреты науки, чтобы наш труд был легким. Бог призывал: «Приходите на мой пир!» [Но затем] Рокфеллер, Морган и их толпа поднялись и взяли достаточно для 120 000 000 человек, оставив только 5 000 000, чтобы все остальные 125 000 000 могли поесть. И столько миллионов людей будут голодать и лишатся тех благ, которые дал нам Бог, если мы не призовем их вернуть часть этих благ обратно.[413]413
Brinkley, Voices of Protest, 70.
[Закрыть]
Современные аналитики подсчитали, что даже если бы все существующие богатства находились в ликвидной форме и могли быть обналичены и распределены, конфискация всех состояний, превышающих миллион долларов (больше, чем требовал Лонг), дала бы не пять тысяч долларов на семью, а всего четыреста. Большие налоги, необходимые для того, чтобы гарантировать всем минимальный доход в двадцать пять сотен в год, не оставили бы годовой доход ни одного человека выше трех тысяч долларов. Лонга мало волновала подобная арифметика. Он знал, что, хотя схема «Разделяй наше богатство», как и план Таунсенда, может быть плодом никудышных экономических фантазий, это блестящее, двадцать четыре карата, политическое золото. «Будьте готовы к поношениям и насмешкам со стороны некоторых высокопоставленных лиц», – предостерегал он своих слушателей. «Пусть никто не говорит вам, что перераспределить богатство этой страны сложно. Это просто».[414]414
Schlesinger 3:64; Brinkley, Voices of Protest, 73.
[Закрыть]








