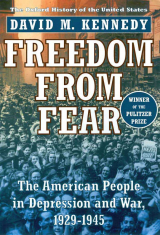
Текст книги "Свобода от страха. Американский народ в период депрессии и войны, 1929-1945 (ЛП)"
Автор книги: Дэвид М. Кеннеди
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 73 страниц)
Банкиры, собравшиеся под сверкающими люстрами Меллона 4 октября, согласились с просьбой Гувера, но, как он позже писал, «постоянно возвращались к предложению, чтобы это сделало правительство… Я вернулся в Белый дом после полуночи подавленным, как никогда раньше». После нескольких недель работы и выдачи кредитов на мизерную сумму в 10 миллионов долларов, писал Гувер, «Национальная кредитная ассоциация банкиров стала ультраконсервативной, затем боязливой и, наконец, умерла…… Её члены – и весь деловой мир – опустили руки и попросили правительство принять меры».[144]144
Hoover, Memoirs: The Great Depression, 86, 97. См. также Albert U. Romasco, The Poverty of Abundance: Hoover, the Nation, the Depression (New York: Oxford University Press, 1965), 87–96.
[Закрыть]
В этот момент Гувер стоял на берегу политического и идеологического Рубикона. Более чем двумя годами ранее он осторожно перешагнул его, создав финансируемые из федерального бюджета корпорации по стабилизации сельского хозяйства. Теперь он погрузился в него с головой. Отчаявшись спасти банковскую систему, разочаровавшись в робости частного капитала и столкнувшись с требованием бизнес-сообщества принять «правительственные меры», он предложил ряд мер, которые были равносильны отречению от его собственных волюнтаристских принципов. Эти меры, которые иногда объединяют как «вторую программу» Гувера по борьбе с депрессией (чтобы отличить их от добровольных соглашений о заработной плате и частном строительстве конца 1929 года), в конечном итоге помогут совершить революцию в американском финансовом мире. Они также заложили основу для более широкой реструктуризации роли правительства во многих других сферах американской жизни – реструктуризации, известной как «Новый курс».
Весь национальный кредитный аппарат находился в осаде. Понимание экономической теории подсказывало президенту, что ему нужны деньги. Федеральная резервная система, стремящаяся защитить золотой запас страны путем повышения процентных ставок, оказалась нежелательным партнером в этом деле. Поэтому Гувер, при неохотном попустительстве Конгресса, приступил к реформированию системы и созданию совершенно новых инструментов для укрепления провисающей кредитной структуры.
Одной из первых его инициатив стал закон Гласса-Стиголла от февраля 1932 года, который значительно расширил определение приемлемого обеспечения для кредитов Федеральной резервной системы и для выпуска банкнот ФРС. Эти меры позволили системе высвободить большое количество золота из своих резервных запасов и при этом значительно увеличить денежную базу.
В ноябре 1931 года Гувер также предложил Конгрессу предоставить держателям ипотечных кредитов услуги по редисконтированию, аналогичные тем, которые Федеральная резервная система предлагает банковским и коммерческим структурам. Ипотечные бумаги не могли быть представлены для дисконтирования в Федеральной резервной системе, но Гувер попросил, чтобы их можно было использовать в качестве обеспечения по кредитам в двенадцати новых банках домашнего займа. Как и закон Гласса-Стиголла, этот закон был призван оттаять миллионы долларов в замороженных активах. К горькому сожалению Гувера, Конгресс ослабил его законопроект, установив более высокие требования к обеспечению, чем он хотел, и отложил окончательное принятие закона о Федеральном банке домашнего займа до июля 1932 года. Тем временем тысячи семей потеряли свои дома. «Все это кажется скучной экономикой, – заметил Гувер, – но пикантная американская драма, вращающаяся вокруг потери старой усадьбы, имела миллион повторений прямо из жизни, и не из-за злодея-проектировщика, а из-за недостатка нашей финансовой системы».[145]145
Hoover, Memoirs: The Great Depression, 111.
[Закрыть]
Самой радикальной, новаторской и, в конечном счете, значимой инициативой во «второй программе» Гувера стало создание в январе 1932 года Финансовой корпорации реконструкции (RFC). Провал недолговечной Национальной кредитной ассоциации показал неадекватность частных мер по спасению подкосившихся банков. Сами банкиры требовали федеральных мер. Проглотив свои самые дорогие принципы, Гувер предоставил им такую возможность. По образцу Военной финансовой корпорации, созданной для финансирования строительства военных заводов в 1918 году, RFC стал инструментом для прямого предоставления долларов налогоплательщиков частным финансовым учреждениям. Конгресс капитализировал новое агентство на 500 миллионов долларов и разрешил ему занять ещё до 1,5 миллиарда долларов. RFC должен был использовать эти суммы для предоставления экстренных займов банкам, строительно-кредитным обществам, железным дорогам и корпорациям по стабилизации сельского хозяйства.
Business Week назвал RFC «самой мощной наступательной силой [в борьбе с депрессией], которую до сих пор удавалось создать правительству и деловому воображению». Даже критики Гувера, такие как New Republic, признали, что «не было ничего подобного». Его быстрое создание и широкие полномочия оставили сенатора Норриса «ошеломленным… Меня называли социалистом, большевиком, коммунистом и многими другими терминами подобного рода, – сказал Норрис, – но в самых смелых полетах моего воображения я никогда не думал о такой вещи, как введение правительства в бизнес в той степени, в какой его введет этот законопроект».[146]146
Romasco, Poverty of Abundance, 189; Schwarz, Interregnum of Despair, 92.
[Закрыть]
Как бы нехотя, но Гувер теперь безоговорочно отказался от своей веры в волюнтаризм и принял прямые действия правительства. «Мистер Гувер, – прокомментировал экономист Колумбийского университета Рексфорд Тагвелл, – который всегда описывал себя как человека, верящего в то, что „правительство лучше всего управляет тем, что меньше всего управляет“, теперь пытается втолкнуть правительство в банковский бизнес. По крайней мере, его программа может быть описана как „облегчение положения банков“. Эти недели и месяцы депрессии быстро и неотвратимо вплетают правительственный контроль в американскую экономику…» «При таком развитии событий, – заключил Тагвелл, который вскоре станет одним из главных архитекторов „Нового курса“, – можно представлять себе какие угодно картины участия правительства в бизнесе; ни одна из них не будет соответствовать выраженному мистером Гувером ужасу перед правительственным вмешательством».[147]147
Rexford G. Tugwell, «Flaws in the Hoover Economic Plan», Current History, January 1932, 531. Позднее Тагвелл признал, что «практически весь „Новый курс“ был экстраполирован на программы, начатые Гувером… Когда все закончилось, я однажды составил список начинаний „Нового курса“, начатых в годы пребывания Гувера на посту министра торговли, а затем на посту президента. Я пришёл к выводу, что его политика была в основном правильной. „Новый курс“ во многом обязан тому, что он начал… Гувер хотел – и достаточно ясно говорил, что хочет, – почти всех изменений, которые сейчас проходят под ярлыком „Нового курса“». Тагвелл цитируется по Joan Hoff Wilson, Herbert Hoover: Forgotten Progressive (Boston, Little, Brown, 1975), 158; см. также Tugwell, Roosevelt’s Revolution: The First Year, a Personal Perspective (New York: Macmillan, 1977), xiii-xiv; and Tugwell, The Brains Trust (New York: Viking, 1968), xxii.
[Закрыть]
Тагвелл проницательно заметил, что создание RFC стало историческим поворотом. Поворот не был бесспорным. Фиорелло Ла Гуардиа из Нью-Йорка осудил RFC как «подачку для миллионеров». Но вскоре он и другие прогрессисты, как и Тагвелл, поняли, какой судьбоносный прецедент был создан при создании RFC. Если Гувера можно было заставить поддержать федеральную помощь банкам, то почему бы не поддержать федеральную помощь безработным? Согласившись на требования банкиров о создании RFC – «банковской помощи», как назвал это Тагвелл, – президент косвенно узаконил требования других секторов экономики о федеральной помощи. Гувер уступил место высоким принципам. Теперь он стоял идеологически обделённый перед бурей требований о помощи безработным.
ШЛА ТРЕТЬЯ ЗИМА Депрессии. В давно загубленной сельской местности на полях гнили нераспроданные урожаи, а непродаваемый скот умирал на копытах, поскольку стабилизационные корпорации Федерального совета фермерских хозяйств исчерпали свои фонды поддержки цен. В городах и поселках по всей стране изможденные мужчины в потрепанных пальто, с поднятыми воротниками против холодного ветра, с газетами, затыкающими дыры в ботинках, угрюмо стояли в очереди за подаянием в суповых кухнях. Десятки тысяч перемещенных рабочих вышли на дороги, подняв вверх большие пальцы, устремились на запад, сгрудились в крытых вагонах, направляясь на юг, на север, на восток, куда бы ни вели шоссе и железные дороги, где бы ни нашлась работа. Те, кто остался на месте, приютили своих безработных родственников, выбивали счета за продукты в магазине на углу, латали свою старую одежду, штопали и перештопывали носки, пытались сохранить хоть какие-то осколки надежды на руинах своей мечты.
Депрессия с особой яростью ударила по этническим общинам, так мало укоренившимся в американской почве. Хрупкие институты, с таким трудом созданные первым поколением иммигрантов, просто развалились. Банки, обслуживающие иммигрантские кварталы, одними из первых закрыли свои двери, когда началась череда панических настроений. В Чикаго в 1930 году закрылся Государственный банк Бинга, обслуживавший чернокожую общину; вскоре за ним последовали Первый итальянский государственный банк, словацкий Государственный банк Папанек-Ковач, чешский Государственный банк Новак и Стиескал, литовский Универсальный государственный банк, еврейский Государственный банк Ноэль и «Банк Смульски», куда многие поляки вкладывали свои скудные сбережения. Общества взаимопомощи и братского страхования, а также религиозные благотворительные организации, с помощью которых иммигранты пытались защитить себя от многочисленных неопределенностей повседневной жизни, рухнули под тяжестью предъявляемых к ним требований. Еврейские благотворительные организации Чикаго в 1932 году с трудом поддерживали около пятидесяти тысяч безработных евреев. Безработные мужчины сидели дома, а их жены и дети искали работу, которую могли найти. Традиционные модели семейной власти и статуса разрушались. Одна польская женщина сказала социальному работнику в Чикаго, что, поскольку она работала четыре года, а её муж был безработным, «я – хозяин в семье, потому что я полностью управляю этим домом. Знаете, кто зарабатывает деньги, тот и хозяин». «Одной из самых распространенных вещей, – вспоминал позже один чикагский житель о своём детстве, проведенном в депрессии, – было ощущение, что твой отец не справился. Что он каким-то образом не одержал победу».[148]148
Lizabeth Cohen, Making a New Deal: Industrial Workers in Chicago, 1919–1939 (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), 248.
[Закрыть]
Никто не голодал, утверждал Гувер, но в 1932 году в Нью-Йорке школьные власти сообщили о двадцати тысячах недоедающих детей, а в садах Орегона яблоки падали на землю из-за отсутствия покупателей. Это зрелище страшной нужды посреди расточительного изобилия порождало недоумение и гнев. В Сиэтле, Чикаго, Нью-Йорке и десятках других городов мужчины и женщины по ночам рыскали по промозглым переулкам, выискивая объедки в мусорных баках.
Ни один вопрос не волновал Гувера так болезненно, не причинял ему больше политических и личных страданий, как положение безработных. К началу 1932 года без работы оставалось более десяти миллионов человек, почти 20 процентов рабочей силы. В крупных городах, таких как Чикаго и Детройт, где находились такие пострадавшие от кризиса отрасли капитального производства, как сталелитейная и автомобильная, уровень безработицы приближался к 50 процентам. В конце 1931 года власти Чикаго насчитали в городе 624 000 безработных. В Детройте компания General Motors уволила 100 000 рабочих из 260 000 сотрудников, занятых в 1929 году. В общей сложности к зиме 1931–32 годов на улицах автомобильной столицы страны простаивали 223 000 безработных.
Особенно пострадали чернокожие рабочие, которых традиционно нанимали последними и увольняли первыми. В Чикаго чернокожие составляли 4% населения, но 16% безработных; в сталелитейных районах Питтсбурга они составляли 8% населения, но почти 40% безработных.[149]149
Romasco, Poverty of Abundance, 155, 167; данные о безработице среди чернокожих взяты из Lester Chandler, America’s Greatest Depression (New York: Harper and Row, 1970), 40.
[Закрыть]
Многие работники, оставшиеся в штате, перешли на сокращенный рабочий день. Возможно, одна треть всех занятых работала неполный рабочий день, так что в целом почти 50% трудовых ресурсов страны оставались неиспользованными. Те, кому посчастливилось сохранить хоть какую-то работу, также стали работать за меньшую зарплату. В сентябре 1931 года компания U.S. Steel снизила заработную плату на 10 процентов, став первым крупным работодателем, нарушившим соглашение 1929 года с Гувером о сохранении уровня заработной платы. За ней быстро последовали General Motors и другие крупные корпорации, в которых работало около 1,7 миллиона человек. Безработица теперь представлялась не как преходящая трудность, а как глубокая, неразрешимая проблема, которая не подавала признаков ослабления. Распространилось ощущение, что страна повернула за исторический угол, чтобы оказаться перед бесконечным будущим повсеместной структурной безработицы. «Настоящая проблема Америки, – сказал один видный демократ в 1932 году, – не в том, чтобы прокормить себя ещё одну зиму, а в том, чтобы найти, что делать с десятью или двенадцатью миллионами людей, которые навсегда лишились работы».[150]150
Schwarz, Interregnum of Despair, 160.
[Закрыть]
Страна никогда прежде не знала безработицы таких масштабов и такой продолжительности. У неё не было механизма для борьбы с массовым безденежьем в таких масштабах. Частные планы страхования от безработицы, спонсируемые работодателями и профсоюзами, включая пионерскую программу компании General Electric, охватывали менее двухсот тысяч работников с началом депрессии, что составляло менее 1 процента рабочей силы частного сектора. Помощь бедным традиционно входила в обязанности правительств штатов и местных органов власти, а также частных благотворительных организаций, но их совокупные ресурсы не могли сравниться с огромным национальным бедствием, с которым они столкнулись. Многие штаты, пытавшиеся собрать больше денег на помощь за счет повышения налогов, столкнулись с восстаниями разгневанных граждан, оказавшихся в тяжелом положении. К 1932 году почти все штаты и местные органы власти исчерпали свои возможности по привлечению заемных средств, установленные законом или рынком. Пенсильвания, например, по конституции не имела права брать в долг более 1 миллиона долларов, а также взимать дифференцированный подоходный налог.
Гувер, как правило, пытался стимулировать местные органы власти и благотворительную помощь безработным с помощью двух добровольных комитетов: Чрезвычайного комитета по трудоустройству при президенте, возглавляемого Артуром Вудсом с момента его создания в октябре 1930 года и до его распада в апреле 1931 года, и его преемника – Организации президента по борьбе с безработицей, возглавляемой Уолтером С. Гиффордом, президентом American Telephone and Telegraph и председателем Общества благотворительных организаций Нью-Йорка. По некоторым показателям эти органы достигли достойных результатов. Например, выплаты муниципалитета на оказание помощи в Нью-Йорке выросли с 9 миллионов долларов в 1930 году до 58 миллионов долларов в 1932 году. Частные благотворительные пожертвования ньюйоркцев выросли с 4,5 млн долларов в 1930 году до 21 млн долларов в 1932 году. Но хотя эти цифры свидетельствовали о сострадании мэрии и, возможно, удивительно мягких сердцах отдельных ньюйоркцев, они были жалко недостаточными. Совокупные государственные и частные расходы на помощь в размере 79 миллионов долларов в Нью-Йорке за весь 1932 год составили менее чем месячную потерю заработной платы для восьмисот тысяч ньюйоркцев, оставшихся без работы. В Чикаго в конце 1931 года потери заработной платы из-за безработицы оценивались в 2 миллиона долларов в день; расходы на помощь составляли 100 тысяч долларов в день.[151]151
Romasco, Poverty of Abundance, 153–55.
[Закрыть]
Перед лицом такого развала традиционного аппарата помощи крики о прямой федеральной помощи становились все настойчивее. «Мы больше не можем полагаться на передачу шляпы и звон жестяной кружки», – писал известный канзасский редактор Уильям Аллен Уайт своему сенатору в Вашингтон. «Мы дошли до самого дна бочки». Другие звучали ещё более тревожные ноты. Мэр Чикаго Антон Чермак ворчливо сообщил комитету Палаты представителей, что федеральное правительство может либо направить в Чикаго помощь, либо ему придётся послать войска. «Если ничего не будет сделано и голод продолжится», – предупредил один из лидеров профсоюзов комитет Сената, – «двери восстания в этой стране будут открыты».[152]152
Schwarz, Interregnum of Despair, 160–61; Schlesinger 1:176.
[Закрыть]
Эти крики о надвигающейся революции были в основном пустыми риторическими потугами. Правда, некоторые коммунисты и другие крайне левые считали, что слышат звон капитализма, и призывали к действиям на улицах. Но большинство наблюдателей поразила и озадачила жуткая покорность американского народа, его стоическая пассивность, когда на него обрушился жернов депрессии. Зимой 1931–32 годов на Капитолийском холме, писала Энн О’Харе Маккормик, возможно, и происходило какое-то нервное шевеление, но «за Потомаком – тишина… вакуум; нет живительного дыхания народного энтузиазма или народного возмущения, нет тока той знаменитой энергии, которая приводит в движение американскую динамо-машину… Стареет ли Америка? Неужели мы… скатились к той печальной зрелости, которая подчиняется событиям?» «Как и мистер Микоубер, – заключила она, – мы все ждем, когда что-то произойдет».[153]153
Schwarz, Interregnum of Despair, 74.
[Закрыть]
В начале 1932 года историк Джеральд В. Джонсон подробно исследовал настроение населения. «В сознании среднего американца, – писал он, – 1931 год был годом Великой депрессии, потому что именно в последние 12 месяцев она действительно затронула нас, простых людей, не международных банкиров, не финансистов любого рода, не великих руководителей и не бездельников, которые во все годы хронически находятся на грани безработицы». Американцы начали бояться, – признал Джонсон, – но
мы ни в коем случае не отчаиваемся… Мы ни на секунду не верим, что тяжелые времена продлятся следующие 6 лет. Девятнадцать тридцать один был тяжелым годом, но он не видел штыков, не слышал стрельбы на улицах, не давал намеков на распад наших институтов… Революционеры не получили в этой стране ни одного достойного упоминания сторонника. Против красных был поднят большой шум, и некоторые люди признаются, что они их очень боятся; но трезвая правда заключается в том, что их американская кампания провалилась больше, чем их кампания в любой другой стране. На сегодняшний день капиталистическая система, похоже, так же прочно укоренилась в Америке, как и сама республика… Под самым страшным испытанием, которому она подвергалась со времен Геттисберга, Республика стоит непоколебимо.[154]154
Gerald W. Johnson, «The Average American and the Depression», Current History, February 1932, 671–75.
[Закрыть]
Эта странная апатия сохранялась и продолжала озадачивать как современников, так и историков. Даже Франклин Рузвельт находил покорность американского народа озадачивающей. «Никогда ещё не было такого времени, за исключением Гражданской войны, – вспоминал Тагвелл слова Рузвельта, – когда наши институты находились бы под такой угрозой. Он неоднократно говорил об этом, отмечая, что его чрезвычайно озадачивает тот факт, что испытания последних трех лет были перенесены так мирно».[155]155
Tugwell, Brains Trust, 295.
[Закрыть]
Затем в 1932 году эта пассивность понемногу отступила, уступив место требованию федеральных действий по крайней мере на одном фронте – помощи безработным. Но даже это требование было ограниченным и нерешительным и лишь постепенно стало определять существенное различие между двумя основными политическими партиями.
Этот вопрос был старше депрессии, он восходит как минимум к «трем законопроектам» сенатора Роберта Вагнера в 1927 году, призывающим к улучшению статистической информации о безработице, антициклическим общественным работам и реформам Службы занятости США, бюро по трудоустройству, созданного во время мировой войны. Гувер одобрил первые два из «трех законопроектов», но отклонил третий по техническим причинам, связанным с правами штатов. Когда в 1930 году Вагнер внес в Сенат законопроект о федеральном страховании по безработице, Гувер выступил против него на более глубоких философских основаниях, таких как антипатия к бюрократическому государству и страх перед созданием класса, зависящего от социального обеспечения. На самом деле президент сам призывал к страхованию от смерти и несчастных случаев на производстве, а также к страхованию от безработицы и старости, но он имел в виду поощрение частных планов, а не создание новых государственных программ.
Тем временем в штате Нью-Йорк губернатор Франклин Рузвельт в 1930 году публично одобрил государственное страхование от безработицы и пенсии по старости. В 1931 году Рузвельт добился создания Временного управления чрезвычайной помощи Нью-Йорка, первоначально рассчитанного всего на семь месяцев и финансируемого в размере 20 миллионов долларов. Само её название и короткий срок действия указывали на сохраняющуюся в американской культуре, а также в сознании самого Рузвельта тревогу по поводу опасности создания постоянного класса социального обеспечения, зависящего от правительственной «милостыни». Однако Рузвельт также прямо заявил, что помощь «должна оказываться правительством не в качестве благотворительности, а в качестве социального долга; государство с радостью принимает эту задачу, потому что верит, что это поможет восстановить тесные отношения с народом, которые необходимы для сохранения нашей демократической формы правления».[156]156
Schlesinger 1:392.
[Закрыть] Это было отношение к правительству – назвать его философией было бы слишком, – которое заметно отличало его от Гувера, который кипел от беспокойства по поводу пособий и бесконечно осыпал Конгресс и страну лекциями о сохранении моральных устоев нации, не говоря уже о целостности федерального бюджета, путем отказа от прямых федеральных выплат по пособиям по безработице. В год президентских выборов 1932 года ни один вопрос не был более тяжелым для Гувера. Великий гуманитарий, накормивший голодающих бельгийцев в 1914 году, Великий инженер, которого так надеялись возвести в президенты в 1928 году, теперь предстал Великим Скруджем, коррумпированным идеологом, который мог проглотить государственную помощь банкам, но придирчиво отмахивался от государственных пособий для безработных. Заявив о борьбе с бюджетным дефицитом и опасностью раздач, Гувер 11 июля наложил вето на законопроект Гарнера-Вагнера о помощи, хотя в конце концов неохотно согласился на компромисс – Акт о помощи и реконструкции, который он подписал 21 июля. Он уполномочивал КСФ финансировать до 1,5 миллиарда долларов на «самоокупаемые» общественные работы и предоставлять штатам займы до 300 миллионов долларов на цели помощи. Сенатор от Калифорнии Хайрем Джонсон посчитал, что согласие Гувера на принятие этого закона представляет собой «замечательный кувырок» по сравнению с его предыдущей оппозицией всем подобным мерам.[157]157
Hiram Johnson to «My Dear Boys», May 14, 1932, in The Diary Letters of Hiram Johnson (New York: Garland, 1983), 5:n.p.
[Закрыть]
КУВЫРОК ГУВЕРА случился слишком поздно, чтобы принести ему политический успех. Теперь карикатуристы регулярно изображали его как угрюмого, бессердечного скупердяя, из-за жесткой приверженности которому устаревшие доктрины привели к тому, что мужчины и женщины остались без работы и голодали. В Демократическом национальном комитете пропагандистская машина Чарльза Михельсона заработала на полную мощность, не упуская ни единого шанса наклеить на кризис ярлык «гуверовской депрессии». Народная молва добавила свои эпитеты. Брезентовые и картонные лачуги бродяг стали «гуверовскими виллами». Вывернутые пустые карманы брюк стали «гуверовскими флагами». Гувер становился все более изолированным, как в политическом, так и в личном плане. Ходила шутка, что когда президент попросил пять центов, чтобы позвонить другу, помощник протянул ему десять центов и сказал: «Вот, позвони им обоим». Один газетчик отметил, как депрессия изменила Гувера как физически, так и психологически, испортив его обычно придирчивый внешний вид, лишив уверенности в себе и пробудив в нём горечь, чуждую его квакерскому воспитанию: «Он не был похож на того Гувера, которого я видел. Его волосы были взъерошены. Он почти скрючился за своим столом и обрушил на меня залп гневных слов… против политиков и иностранных правительств… на языке, которому он, должно быть, научился в шахтерском поселке».[158]158
Wilson, Herbert Hoover, 162.
[Закрыть]
Изгнание «Бонусной армии» из Вашингтона в конце июля 1932 года оказалось особенно политически опасным для Гувера. Тысячи безработных ветеранов американских экспедиционных сил времен мировой войны съехались в Вашингтон весной и летом 1932 года. Называя себя Экспедиционными силами Бонуса, они лоббировали в Конгрессе скорейшую выплату наличными «бонуса» за военную службу, причитавшегося им в 1945 году. Когда Сенат отказался принять законопроект о бонусах, многие разочарованные ветераны вернулись в свои дома, но несколько тысяч остались, и когда 28 июля полиция округа Колумбия попыталась выселить их из зданий, которые они заняли на Пенсильвания-авеню, вспыхнули уродливые беспорядки. Двое участников марша были застрелены. После этого власти округа обратились за помощью к Гуверу, и тот вызвал федеральные войска. Поздно вечером отряд конных кавалеристов с саблями наперевес в сопровождении шести танков и колонны пехоты с примкнутыми штыками очистил здания. Командующий, генерал Дуглас МакАртур, превысил свои полномочия, которые заключались в охране зданий и удержании марширующих в их лагере на Анакостия Флэтс на окраине района. Вместо этого войска МакАртура направились в Анакостию и вытеснили участников марша из лагеря, применив слезоточивый газ. Затем солдаты подожгли их полуразрушенные лачуги.
Зрелище армии Соединенных Штатов, уничтожающей безоружных граждан с помощью танков и огнеметов, возмутило многих американцев. Эпизод с «Бонусной армией» стал символом предполагаемой бесчувственности Гувера к судьбе безработных. На самом деле худшее насилие, приведшее к двум смертям, произошло от рук районной полиции, а не федеральных войск, и вина за поджог Анакостия Флэтс лежала на МакАртуре, а не на Гувере. Но Гувер предпочел проигнорировать неподчинение МакАртура и взял на себя всю ответственность за действия армии.
«Битва при Анакостия-Флэтс», произошедшая всего через семнадцать дней после того, как Гувер наложил непопулярное вето на законопроект Гарнера-Вагнера о помощи, ознаменовала самый низкий уровень политической удачи Гувера. В июне на съезде республиканцев он был выдвинут на второй президентский срок, но эта честь мало чего стоила. Он уже был избитым человеком. Он столкнулся с дико падающей экономикой и был сбит ею. Его сломила не «Великая депрессия», а совокупность кризисов, которые только в совокупности и только к какому-то времени в 1931 году заслужили извращенное название «Великих». К концу 1931 года он фактически снял свои идеологические перчатки и вступил в бой с кризисом – «битва на тысячу фронтов», как он назвал это позднее. Но было слишком мало и слишком поздно, особенно в политически важной области помощи. Его захлестнули события, слишком масштабные и стремительные даже для его ёмкого и проворного ума. Он проиграл. Никто не сомневался, что его поражение будет подтверждено избирателями в ноябре.
Депрессия была не единственным кризисом, разрешение которого ускользнуло от некогда прославленного гения Гувера. В далёкой Азии в ночь на 18 сентября 1931 года взрыв повредил контролируемую японцами железную дорогу в северной китайской провинции Маньчжурия. Реакция была настолько быстрой, что наводила на мысль о работе агентов-провокаторов, что японские вооруженные силы захватили провинцию. В феврале 1932 года Япония установила в Маньчжурии марионеточное правительство, которое официально признала как новое государство Маньчжоу-Го, что стало прелюдией к амбициозному плану колонизации этой территории миллионами японских поселенцев.
Эти действия стали кульминацией десятилетий японских махинаций против Китая и предвестием грядущего более масштабного конфликта. Этот инцидент также предсказал робкий курс американской дипломатии в десятилетие депрессии и выявил пагубные последствия американского отстранения от участия в Лиге Наций. Когда Гувер отказался участвовать в международном бойкоте Японии, Лига смогла сделать лишь резолюцию, осуждающую действия Токио. Эта слабая попытка вытеснить Японию из Маньчжурии в конечном итоге привела лишь к тому, что Япония вышла из Лиги, ещё больше ослабив и без того слабый инструмент поддержания международного мира. Хотя государственный секретарь Генри Л. Стимсон советовал более жесткий американский ответ, осторожный Гувер не стал вводить экономические санкции, которые могли бы спровоцировать Японию. Большинство его соотечественников не возражали против сдержанности президента. «Американскому народу нет дела до того, кто контролирует Северный Китай», – писала газета Philadelphia Record.[159]159
Thomas A. Bailey, A Diplomatic History of the American People, 10th ed. (Engle-woood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1980), 699.
[Закрыть] Вашингтон довольствовался провозглашением иронично названной «доктрины Стимсона» (правильнее было бы назвать её «доктриной Гувера»), согласно которой Соединенные Штаты отказывались признать Маньчжоу-Го в качестве независимого государства – но также отказывались подкрепить непризнание экономическими или военными мерами. Столкнувшись с открытой агрессией, американцы, казалось, были способны не более чем на этот робкий пергаментный протест. Япония сделала соответствующие выводы: ей нечего было бояться ни Лиги, ни охваченной депрессией Америки. Она могла безнаказанно осуществлять свои экспансионистские планы. Таким образом, в 1931 году на испещренных ветрами равнинах Маньчжурии Япония зажгла фитиль, который спустя десять лет приведет в действие атаку на Перл-Харбор.
Посетителям Белого дома президент к этому времени казался преждевременно постаревшим. Он придерживался жесткого режима: вставал в шесть и работал без перерыва почти до полуночи. Его одежда была растрепана, волосы взъерошены, глаза налиты кровью, цвет лица пепельный. Он становился все более раздражительным и хрупким. «Как бы я хотел подбодрить бедного старого президента», – писал почтенный Стимсон, старше Гувера на семь лет.[160]160
Schwarz, Interregnum of Despair, 51n.
[Закрыть] Никогда не приспособленный по темпераменту к ожесточению и оскорблениям на политической арене, человек от природы сдержанный и неумеренно самозащищающийся, Гувер болезненно переживал удары как слева, так и справа. Уже в 1919 году он признал, что «у меня нет… умственных способностей или манеры политика… и, прежде всего, я слишком чувствителен к политической грязи».[161]161
Wilson, Herbert Hoover: Forgotten Progressive, 77.
[Закрыть] К осени 1932 года он совсем разучился участвовать в политических кампаниях. Он вышел на избирательные участки только в октябре и, казалось, вел кампанию скорее для того, чтобы оправдаться в исторической хронике, чем для того, чтобы завоевать расположение в сердцах избирателей. Всего четырьмя годами ранее он одержал одну из самых бесславных побед в истории президентских выборов. Теперь он получил ещё более серьёзное поражение, чем Эл Смит. 8 ноября 1932 года Гувер победил всего в шести штатах. Великий инженер, ещё недавно самый почитаемый американец, стал самой ненавидимой и презираемой фигурой в стране. Теперь все взоры были обращены к его преемнику, Франклину Д. Рузвельту.
ГУВЕР ПРИВНЕС в Белый дом чуткость корпоративного руководителя. Рузвельт привел с собой политиков. Гувер как президент часто поражал посетителей своими подробными знаниями и экспертным пониманием американского бизнеса. «У него был математический ум», – говорил его восхищенный секретарь Теодор Джослин. «Пусть, например, банковские чиновники придут к нему в кабинет, и он назовет количество банков в стране, перечислит их обязательства и активы, опишет тенденцию в финансовых делах и расскажет о ликвидности или её отсутствии у отдельных учреждений, и все это по памяти».[162]162
Theodore G. Joslin, Hoover off the Record (Garden City, N.Y.: Doubleday, Doran, 1934), 17.
[Закрыть] Рузвельт, напротив, производил впечатление на своих посетителей, прося их провести линию по карте Соединенных Штатов. Затем он называл по порядку все графства, через которые проходила линия, добавляя анекдоты о политических особенностях каждого населенного пункта.[163]163
William Manchester, The Glory and the Dream (Boston: Little, Brown, 1974), 50.
[Закрыть] Если Гувер с квакерской сдержанностью относился к привилегиям президентства, то Рузвельт смаковал их с упоением. К 1932 году Гувер носил мантию президента как рубашку, которую ему не терпелось сбросить. Рузвельт признался одному журналисту, что «ни один человек не отказывается от публичной жизни по доброй воле – ни один, кто хоть раз попробовал её на вкус».[164]164
Davis 2:64.
[Закрыть] Говорят, что у него не было пугающего образа президентского поста, поскольку его невозмутимое представление о президентстве состояло лишь из мысли о себе в нём.








