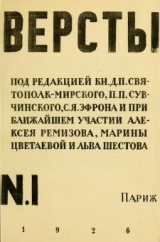
Текст книги "Версты"
Автор книги: Борис Пастернак
Соавторы: Сергей Есенин,Марина Цветаева,Исаак Бабель,Алексей Ремизов,Дмитрий Святополк-Мирский (Мирский),Николай Трубецкой,Сергей Эфрон,Лев Шестов,Илья Сельвинский
Жанры:
Газеты и журналы
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 71 страниц)
В этом его первая и главная заслуга.
Во второй книжке «Благонамеренного» останавливаешься на трех именах до селе почти неизвестных: Еленев, Эфрон, Соболев.
Пражская легенда Еленева «Си нагога» написана хорошим языком, – ровная, без сучка а задоринки. Но уже в этой ровности есть некоторая обреченность.
Рассказ С. Эфрона лаконичный, точный, – отточенный. Тех, кто еще болен «одноглазьем», кто по наелышке привык считать «белую» армию безупречной, тема рассказа отпугнет. Но и они должны будут признать уменье и даже мастерство, с которым этотрас-сказ написан. Ибо и с капитаном Рыб иным, и с господином Исааком Рабиновичем, и с госпожей Розой Рабинович мы все были знакомы п узнаем их в лицо.
И тех троих, чьи трупы были занесены сыпучьим снегом, мы не забыли и будем помнить.
Повесть Д. Соболева – «Москва». Точнее: «Буянов тупик за Москва-рекой вблизи улицы святых Иоакима и Анны (прозеванной »Якиманкой») собственный дом купца первой гильдии Никиты Феоктистовича Судош-
кина, насупротив колониальной и мелочной торговли Петра Колосова».
Темп повести медленный и ровный (даже ровна-ай, со вторым ударением на а). Так медленно течет летом обмелевшая Москва-река. И странно – гроза и появление в дверях парали-тичной Олимпиады Игнатьевны
– не пугают. Действия в повести нет (и не может быть). Главное —
– «Прямо в глаза ваши глядят глубокие очи Пречистой – «Утоли моя печали», – левее – Божья Матерь «Казанская», кроткая, потом Владычица "Тихвинская» темнеет, в скорби своей скшнившись; направо – источенные и прекрасные выступают черты Ивсрского Лика, над ним высится светлый и тихий образ голубоокого Господа Нашего Иисуса Христа – «Спас благого Молчания».
На всем протяженш вещи автор убеждает в крепости своей художественной хватки.
Теперь о писателях с большим литературным именем.
«Страды Богородицы» Ремизова поистине великолепны («великолепны» – это слово не подходит, но другого не могу найти). Читая их содрогаешься" и радуешься —■ безконечная чистота и чистая, глубокая высота. Как в молитве – лучшие, прекраснейшие слова.
Статья М. Цветаевой «Поэт о критике» вызвала возмущения и нарекания. Ни один критик (или почитающий себя таковым) не прочтет ее равнодушно. Короткая и сжатая фраза, как удар хлыста. Направленная против всех, насильственно завладевших правом похвалы н осужденья, статья эта полезное чтение для млогих, – о,очень многих.
К статье приложен «Цветник»
– отрывки из статей Г. Адамовича. «Цветник» замечательный.
БИБЛИОГРАФИЯ
Читаешь его, как юмористический журнал...
Диалог о консерватизме кн. Д. Святополк-Мирского бесспорен и ясен. В другой, нормальной, не-Зарубежной (и не в СССР) атмосфере это показалось бы вламываньем в открытые двери. Но уж такова наша судьба, что наиболее ясные положения нуждаются в наибольшем количестве доводов.
В первом, особенно во втором номере «Благонамеренного», есть один крупный недостаток: очень неудачен отдел стихотворений. В последней книжке – отрывок
из поэмы Д. Кнута – довольно слабый. У Кнута есть вещи лучше.
Кончая заметку о «Благонамеренном» необходимо отметить Архив В. А. Жуковского. Приведенные в архиве письма не только любопытны, но и ценны – особенно письма к М. Т. Каче-новскому и наследнику цесаревичу Александру Николаевичу.
Наконец, последнее замечанье: Хороший журнал. Во всяком случае единственный молодой и литературный журнал и эмиграции.'
В. Ч.
Л. н. толстой
неизданные разсказы и пьесы.
Под редакцией С. П. Мельгунова, Т. И. Полнера а А. М. Хирьякова.
С предисловием Т. И. Полнера. Издание т-ва «Н. П. Карбасниковъ»
Париж 1926.
«Посмертные художественные произведения» Толстого, изданные в год после его смерти,заключали в себе только произведения его последнего периода. Настоящая книга, наоборот, включает почти исключительно веши написанные до 1880 года. Только последние 37 (из 317) страниц заняты двумя пьесамл и одним «разговором» позднейшего времени. Эти две пьесы («О пане, который обнищал» 1888 и «Петр Мытарь» 1894.) интересное дополнение к народному театру Толстого. Они построены так-же сжато, быстро, схематически, так-же «срсдневеково», как «Первый Винокур», ьо тогда как «Винокур»нравоучителышйфсфс, вновь опубликованные пьесы – нравоучительные жития. Ценность этих двух «мираклей», особенно первого, велика. Они яркие образцы той сухости в «чистоты», которая отличает все творчество старого Толстого.
Но центр тяжести книги лежит в произведениях более ранних. Здесь на первом месте стоит, по значению и по дате, отрывок «История вчерашнего дня» (18-
51) – первый опыт Толстого в художественной прозе. Значение этого отрывка для понимания природы Толстовского творчества (раннего) огромно. .Это как бы «дни творения» Толстовского мира. Как бы присутствуешь при том, как выбиваются наружу и растут приемы его аналитическо– | го стиля. Это какое-то молодое, до-временное буйство анализа. Толстому надо было сделать большое усилие самоограничения, чтобы написать «Детство», | столь «естественное» по сравне– нию со всей современной лиге-ратурой, но столь литературное по сравнению с «Историей вчерашнего дня».
Из других вещей особенно интересны превосходный разскаЗ Как гибнет Любовь (1853). – где впервые разрабатывается тема чистой любви в противопоставлении грязной сил* пола: и ( особенно, вполне законченная комедия Зараженное Семейство (1863). Толстой одно время очень хотел ее видеть на сцене, но скоро охладел к ней. Пьеса интересна в двух отношениях: во первых, как самое яркое и
БИБЛИОГРАФИЯ
крайнее проявление семенного и бытового консерватизма Толстого, непосредственно после женитьбы и накануне «Войны и Мира», – глупый и слабый, но порядочный и «симпатичный» отец семейства блистательно тор-; жествует над «молодым поколением» новых людей, – которое все представлено дураками или негодяями. Во-вторых, комедия интересна, как первый, и уже вполне удачный, опыт Толстого в драматическом искусстве. По
построению комедия несомненно лучше «Плодов просвещения». По изумительному искусству диалога и ьнтонационнной характеристике действующих лиц – она на уровне «Живого трупа» г «Света во тьме». И сами характеры, не лишенные подлинно-комедийной преувеличенности, самым явным образом предвещают создание, в ближайшем будущем, Ростовых, Бергов и Дру-бецких.
Д. С. м.
ОПЫТЪ ОБЗОРА
«Линия ныне отделяющая политику от жизни, – неуловима», сказал Антон Крайний. Правильное наблюдение, верное... Только почему же – – ныне? Если политикой называть не только конференции и диплома-
■ тические рауты, то – и всегда так было. Только раньше политика для пас была привычная.
, II можно было вообразить, затво-
I рившись в особняке Мертвого переулка, что живешь, обходишь-
! ся без нее. II ожидаемая революция не особенно беспокоила: ну
. это явление политическое, – пусть беспокоятся губернаторы н дипломаты. Но вот она пришла.
. Из политической выросла в – социальную. Пролезла и в особ-
; няк, во все углы и щели российские, всю жизнь взбудоражила, привычный порядок "нарушила. II, главное, не кончалась. А с жизнью так смешалась, что стало очевидным: никакой революции, как чего то посторопняго или
I потусторонняго, – нбт; а вот эта непривычная жизнь – «непорядок» и есть революция. Значит – остается отказаться, отвернуться от всей этой жизни, от России. Так и сделали; уехали и постановили: «Пока существуют большевики, – нет России».
; Это провозгласил «известный» русский писатель и мыслитель Д. С. Мережковский. А другие русские писатели остались «там.» Жили и писали. Потому, что не могли не писать, раз – жили. Ходили, ездили по той-же Рос-
сии, слушали ее, видели и писали, писали' страницы русской литературы. Как «русской» литературы? России нет – пустое место. Нет и литературы. «Литературу (?) выбросили "в окно, окно захлопнули». Но ведь, читайте же, пишут же... Кто? Эти... Ну, это «такие непристойные гады, что не уместно мне их и касаться; и если насчет всех прочих сторон политики еще могут найтись спорщики, то уж, бесспорно, никогда еще мир не видел такого полного, такого плоского уродства; земля впервые им оскорблена». (Антон Крайний. Совр. Зап. т. XVIII).
Все это не для полемики выписано. Собираясь писать (скорее как читатель, а не критик) о русской пореволюционной литературе, подумал: неужели и сейчас можно оправдать такой подход к ней? Все жду: когда же наконец Антон Крайний откажется от своих злых, ненужных и неглубоких слов и выскажет свое, пусть резкое, но «литературное» мнение старого литературного критика.
Почти в каждом приходящем из России толстом журнале, альманахе встречаешь теперь одно-два новых имени авторов, выступающих с рассказом, повестью, романом.
Поэты, которые так густо шли в первые годы революции, застопорили. В журналах им отводится места меньше, чем раньше; новые имена попадаются редко —
БИБЛИОГРАФИЯ
все больше уже известные. Разумеется, говорить о каком нибудь кризисе при наличии имеющихся крупных поэтических сил, не приходится. Количественное ослаблен 1е поэтической продукции – факт скорее положительный. Выношенностьи сдержанность дают большую значимость поэтическому слову. Поэтическое ожпв-ленние, если оно питается внешним событием, не может быть долгим. Революционная взметенность подхватила поэтов первыми. Шестым чувством, дарованным поэтам, они первые учуяли в ходе революции поступь истории («наш каждый шаг неловко величав»), поняли, что разрезаны «бессмертные страницы» и, «под небом дрогнувшим тогда», понеслись к открывшимся перспективам
«Л1ы не знаем, кто наш вожатый
II куда фургоны спешат,
Но, как птица из рук .разжатых,
Ветер режет крылом душа. (Н. Тихонов).
Но поскольку внешнее вызывало переустройство лирического мира – оно переставало быть внешним, делалось своим, личным. Поэты возвращались в себя (пли становились «производствен пиками»).
А петь себя труднее, чем воспевать что-нибудь. Узнавать «куда фзргоны спешат», трезво оглядываться вокруг себя пришлось прозаикам. Вначале, когда все всколыхнулось до низов, сорвалось со своих насиженных мест, давать более пли менее широкие литературные обобщения было трудно. Довольствовались в большинстве случаев «кусками», наспех сделанными бытовыми снимками – «обсасывали вещи». Вместе с тем, даже старые, опытного глаза и выработанного приема писатели увидели, что новый «материал» им не дается, а нуждается в ином к нему подходе, в особой художнической хватке. Отсюда – формальная неустойчивость и поиски новых приемов, продолжающиеся и до сего вре-
мени. Но уже сейчас можно подвести кое какие итоги достижений пореволюционной литературы и прощупать некоторые формальные тенденции.
Дать сколь нибудь исчерпывающий обзор творчества отдельных авторов мне не под силу. Ограничусь лишь общими замечаниями о пореволюционной ли-. тературпой жизни в целом, останавливаясь на наиболее характерных для современности или – значительных, на мой взгляд, писателях. Основную, т. с. оф-фнцпальную, классификацию советских писателей на «попутчиков» и пролет-писателей сохраняю и, оставляя последних вне общих суждений, коснусь их отдельно.
Надо заметить, однако, что твердо установленного критерия для подобной классификации нет. Последний оффициальный документ – резолюция XIII с'езда партии, как будто, вовсе отказывается от этого деления. Последнее же, напр., определение слова «попутчик» Горбачева слишком разнится от всем известного определения Троцкого.
Апологет «напостоЕцев» попутчиком называет лишь того, «кто, разделяя коммунистический идеал и большевистские методы его достижения, хотя бы и с уклоном,идут за пролетариатом». Все же остальные, как то: Вересаев, Эреибург, Сераппоны, Пильняк и т. д. – «враги». Это – -у:к« третья категория.
Все же выделить пролет-писателей удобно потому, чте они очень похожи друг на другг и стилистически (вернее по от сутствию стиля), и в типологии и"даже тематически. Узнаются – ех ип§ие 1еопет.
Мне думается, что уже тепер! с бесспорностью может быть уста иовлена преобладающая теплен1 ция в современной литературе – тяга к реализму.
Но реализм – понятие слишком эластичное, широко толкуемое. Генетически он связан < наивным натурализмом, на вые ших его ступенях неожндашк открываются прорывы в роман
БИБЛИОГРАФИЯ
тимм. Реализм понимаем и как прием, манера, реализм – как направление и, наконец, реализм, как максимально заданное, реализм, как достижение (эстетическое) – есть открытие глубинного, бытийного соотношения частей, < ткрытне тайны «органической формы». Современный
, реализм является, с одной стороны, следствием реакции на утон-
, ченпе шлифованных форм декаданса, на их сбезблагодатный магизм – (импрессионистская, ритмическая проза), с другой – властно вызван всем сумасшедшим движением меняющихся жизненных форм, всем разбегом современности. Стремление к зарисовке, и литературной канонизации бытовых изменении первоначально укладывалось в рамки примитивного натурализма. Довольствовались —||Ц щи бытописанием, прямымот-
* ражением эпизодического, этнографией, фольклором. Этот «кус-ковнзм». е частностях пронзительный п талантливо поданный, в целом давал мозаику большого значения, позволяющую разглядел, осевшую на землю перемену.
, Но т, к., по выражению А. Эфро-
! са, «мы хотим жизненности в искусстве. – но не хотим жизни, прикинувшейся искусством» – от этого сырья, «материалов к литературе» нужно был'» отойти дальше к широким литерату ,.иым обобщениям "глубоко захватывающим жизнь. Естественный выход рыл – к реализму. Вот каким постулирует его А. Толстой (Писатели об искусстве и себе. «Крут»):
«Я противопоставляю эстетизму литературу монументального реализма. Ее задача – человеко-творчество. Ея метод – создание типа. Ее пафос – всечеловеческое счастье, – совершенствование... Архитектоника должна быть строга и проста, как купол неба над безкрайней степью». Толстой не видит еще в пореволюционных произведениях «целого человека». «Живой тип рево людии остается невоплощенным призраком в повестях нашего времени. Большой человек —
тип – вот задача искусства. Я хочу знать этого нового человека».
Приблизительно в этом направлении (несколько обще формулированном) в идет развитие твор чества, мне думается, боль-
ношеннн указанной цели, разумеется не прямолинейно, ибо на пего влияют и другие тенденции. Как раз Замятин, безусловно имеющий воспитательное влияние «мэтра» на молодых беллетристов, формулирует формальные задачи для новой литературы следующими словами:
«Все реалистические формы, – проектирование на неподвижные, плоские координаты эвклидова мира. В природе этих координат нет, этого ограниченного неподвижного мира нет, он условность, абстракция, нереальность. И поэтому реализм – не реален; неизмеримо ближе к реальности проектирование на мчащиеся кривые поверхности – то, что одинаково делают новая математика и новое искусство. Реализм не примитивный, не геа-Па. а геаПога – в сдвиге, в искажении, в кривизне, в необ'ектпв-ностп. Об'ективен – об'ектив фотографического аппарата. Основные признаки новой формы – быстрота движения (сюжета, фра зы): сдвиг, кривизна (в символике и лексике) – не случайны: они – следствие новых математических координат».
Если отбросить первую, для меня не вполне ясную, т. ск. идеологическую часть формулировки, то вторая —формальная, не будет стоять в большом противоречии к современному реализму, беря последний в выше приведенном смысле, – как целенаправленность. Реализм примитивный, об'ективный это и есть натурализм. Реализм подлинный, зрелый, конечно, – геаНога – высшая реальность. Сдвиг, искажение, необ'ектпв-пость не противоречат реализму. Разве Гоголевские типы объективны и «не искажены»? II разве символике у реалиста
БИБЛИОГРАФИЯ
Гоголя нет места? Что же касается быстроты движения сюжета, фразы,сдвигов в лексике, то мутация этих элементов, в любых пределах возможна при любом литературном направлении. Многое из отмеченного Замятиным действительно для современной прозы, характерно и в разных комбинациях присуще творчеству различных писателей. Но "я бы оговорил только, что все эти «сдвиги, кривизна и искажения» действуют еще как «исторические пережитки», в то время как «быстрота движения» и твердость сюжета, скупая фраза, лапидарность, вместе со стремлением к использованиям богатств народного языка суть новые тенденции – по пути к достижению «монументального» реализма. Перейдя к беглому рассмотрению творчества некоторых отдельных писателей мы можем яснее представить все «сдвиги и завоевания» современной прозы. Наиболее характерную картину всех перекрещивающихся влияний дает, на мой взгляд, творчество Пильняка.
Сложность архитектоники Пильняка, все его смещения места и времени действия, сюжетные разрывы, неожиданность переходов, разбросанность – в первую очередь обнаруживают влияние на него Андрея Белого. Его же влияние наблюдается и в конструкциях фраз, в ритмичности их (у Пильняка уя« не выдержанная," закругленно-ритмическая проза Белого, а – неровность, перебои), и в повторах речевых и образных. Во все это у Пильняка вплетается и куски нового откровенного бытовизма, и цитаты на целую страницу из эпохиальных документов," архаизмы, на ряду с мудреными иностранными словами. Н все это, беря его выражение, «.эссировалось» в нем. Формальная растерзанность Пильняка находится в соответствии с внутренней тональностью его творчества. Революционный шок привел его психологию в состояние взвинченности, доходящей иногда до истерии. Но за то
обостренность интуиции дает ему возможность глубже других прочувствовать душу нашей эпохи и проникнуть в ее исторический смысл. Люди Пильняку пе удаются, живых типов у него нет. Действующие лица у него часто представляются мне какими-то персонифицированными идеями, фокусами отвлеченных категорий, носителями тех пли иных исторических и социальных па-чал. Лучшими и ценнейшими его произведениям!? я считаю «Голый год» и «Мать сыра земля».
В первом – конденсация ужасов в масштабе небывалом, весь напряженнейший бред страшного голодного года. Последнее об-нажение земли, души и человеческого быта; звериная цепкость жизни, когда смерть близко и всюду. И надо всем этим – эзотерически, осознается что этот год, эти годы не напрасная, жестокая случайность, а исторический узел – проба смертью крепости новых начал. Во второй – становление большевизма как исконной русской стихии. Дикие поволжские мужики, темная отъ средневековья, спав-шал и теперь встающая Русь в столкновении с инородным, непонятным коммунизмом. II эти обычные Пилышковскис зпохи-альные пересечения, ..то сближение большевизма с до-петровским, анти-иетровским началом разве не есть первое, еще смутное, предугадывание какого-то нового «славянофильсио-большевистского», что-ли сознания.
И – как противуположиость «растрепанному» Пильняку – Замятии. Такой выдержанный, замкнутый, безукоризненный формовщик. II какой разнообразный. Почти бытовик (в «Уездном»), сатирик и стилист («Как исцелен был инок Эразм»), он может рассказать и «Сказки», и дать язвительную и трогатель-чую повесть о крепкоголовых «Островитянах», и найдет народную сочность языка, фольклор нашего «Севера». Он покажет все – кроме себя. Р.зве только – свою всепонимающую усмеш-
БИБЛИОГРАФИЯ
ну, ироническую, нарочито хит-, ренькую – усмешку с Анненков-, ского портрета. Еще не скажешь
– что млр для Замятина и какой I у него мир. Может быть – великая бесцельность, просто —
I жизнь.
О самом страшном («Пещера»), 1 он расскажет не пугая и с без-. падежной успокоительностью.
Пожалуй, он пишет о всем не- ппмеином (и – значит – «самом главном») в человеке. Так – часто о любви, иногда нелепейшей по неуместности, но неодолимой. И вся его «кривая символика», смещающая действие, то ' в миры ирреальные, то во времена давно бывшее – не для того ; ли, чтобы показать: – так было, ! так будет, так – везде. «Бог 1 знает, если бы у Мамая 1300 | какого-то года были бы тоже чужие руки и такая же тайна и такая же супруга – м. б. он поступил бы так же как Мамай 1917'года» (Мамай).
Замятии писатель ".современный». Но он обращен не. к «современному человеку», а к Человеку в Современности. Л – мир? Ведь даже в самоваре «отражен
– весь мир». II самовар «несомненно мыслит: Мир – мой. Мир – во мне. II что бы без меня стал делать мир? – Самовар милостиво ухмыляется миру...» (Север). II – вот показательный (поучительный) пример —■ Замятин углубленный не в «сегодняшнее», а в просто-«человеческое», в неизменное п человеке (в вечное – если хотите) писатель «новый», писатель нашей, живой эпохи, а не из прошлого русской литературы (как Бунин "напр.). Современность не в злободневности, а в том, как подходит, как берет и видит писатель неизбывные проблемы, пусть старые как мир.
И то время, когда «люто за мороженный Петербург горел и бредил» и светило «горячечное, небывалое ледяное солнце в тумане», когда «из бредового туман-Вето мира, выныривали в земной мир дракопплюдп» – время великого распада, крушений и
канунов – дает тон всему творчеству Замятина.
Отрадно и несомненно: – Замятин большой писатель. Или точнее: – Замятин – «большой» человек, с художническим глазом, владеющий в совершенстве всеми литературными изобразительными средствами. Титул – «большой писатель» у нас обычно дается не только за значительность и качество вещей, но – плюс количество таковых (чуть ли не за плодовьтость) взятых в широком диапазоне.
Замятин – писатель большого охвата и хорошей глубины. Написано им немного, но достаточно для того, чтобы заставить ждать от него многого и большого. Мастер он исключительный. С формальной стороны иначе как безупречными я не могу назвать его рассказы и повести. (Упрекаю лишь з„ двух-плаповой «Рассказ о Самом Главном» формально претендующий на многое, но являющийся «практикой»,плохо подпирающей замятинское формальное сгейо). Замятин писатель не только боль гаой литературной культуры (и, конечно, со многим от Запада) но и «знающий» писатель. Это – отдичие от многих и многих русских писателей, о которых еще Чехов выразился, что они. «чорта лысого не знают».
А вот и «молодняк», новичок в литературе – Леонид Леонов. Молод – очень (еще нет 30 лет). Писать начал уже после революции. (Если не ошибаюсь, первые его рассказы относятся к 22 году). Но одаренности такой, что судить о нем можно без снисхождения к возрасту. «Своего места» в ллтературе еще не нашел, во всяком случае, еще не четко его ограничил, но в литературу уже вступил. И писатель он не в потенции, а – уже величина. Очень удачно эпиграфом к статье о его 'творчестве А. Воронений взял слова из «Пету-шнхинского проло.ма»:
«...А еще вспомянем, как отбивали мы волю нашу кумачовыми быть, босые, раздетые, с глазами, распухшими от жестких пред-
БИБЛИОГРАФИЯ
зимних ветров, как закусывали соломенным хлебом великую боль пролома, как кутались в ворованные одеяла от холодной вьюжной изморози да от вражьих пуль, как кричалось в нашем сердце больно: «Колос-колос, услышь мужичий голос, уроди ему зерно в бревно!». Все припомнишь сразу, чтобы в жизни будущего века навсегда забыть!» Леонов молод и память о России до-революциокпоп не заполонила его, не мешает восприятию России новой. Но не ему ли в первой зрелости своей перенесшему и принявшему великие исторические годы «пролома», не ему-ли – будущему помнить, видеть и жалеть тех, кто не переступив в новое, обречены доживать печальными тенями прошлого. II Леонов любит с жалостью (иногда брезгливой) показывать этих кончающихся людей Лихаревых, Елковых и т. п. Леонова вообще тянут какие то дефективные люди, маленькие, ушибленные проломом – Ковякины, Собакины. Они и удаются ему лучше, нежели здоровые, сильные, «новые» люди, как например, неубедительный Павел, большевик из «Барсуков». В конце концов Леонов делает всю ставку именно на «мелкого» человека. От «пролома» гибнут забитые последыши, ьо другие, «мелкие» уже такими не будут. Смысл «пролома» в том, что «мелкий человек экзамен держит на – большого». Так говорит Леоновскнй ферт (чорт) в «Конце мелкого человека». ...«Вот Елков уверяет, что мол кирпичики по кирпичику растащут («мелкие» люди – А.Т.), а вдруг да врет дурак Елков? Он гибели хочет, потому что в ней все его оправдание!... Нет, а кроме шуток, – вот возьмут да и не растащут. Ведь какие дела-то сотворятся! Все наизнанку вывернется, – светопреставление, смерть мухам... пойдет он, Ванька этот, кирпичики класть, сооружать деликатное-то здание свету всему на удивление и на устрашение миллионам Елковым... Вот дела-то сотворятся, эпопея!..»
Маленького человека затертого революцией Леонов нам дал в образе художественно законченном и выпуклом. Хочется, чтобы отталкиваясь от маленького – он перешел к попытка», создания «большого человека» – типа, живого человека живой эпохи. Но для этого требуется отчетливое осознание центральной эпохпальной идеи и самостоятельная установка на новое мировоззрение.
У Леонова не только пет еще последнего, но отсутствует даже стилистическое самоопределение Вез преемственности, без влиянии никто в литературу не входит. Но у Леонова больше че» «влияния», он впадает иногда I прямое подражательство. Его Елков, напр., и по словечкам и пс психологии, как тип – какая-тс помесь капитана Лебядкина ( судебным следователем из «Пре ступления и Наказания». В свош подражательных тенденциях о причудливо эклектичен: – о -Гоголя – к Достоевскому – о: Достоевскаго к Лескову и Реми зову.
По талантливости своей 01 стилизатор весьма топкий и при ятный, по ему нужно совершен ствовать ту манеру, котора) ему наиболее свойственна. ЁВп «Петушихинскнй 1гролом>, ег< уменье пользоваться сказом, хо рошее знакомство с народны? словарем говорят за то, что ем? надо остановиться на народно) прозе, не забывая, впрочем своих «восточных» инструменте вок. Его «Туатамур» вещь ин струментованная по татарею и в формальном отношении и и силе лирического папряжени (не разрывающим сюжетности превосходна. «Халиль, Персия ские касыды» – уже слабее
«Барсуки», как первая попьп ка к овладению большой форма?: значительна и интересна. Ь многих частностях – болыпа удача. Но конструкции типо1 как и компановка вещи в цело лишены органичности.
Еще остановлюсь отдельно Н Бабеле. Бабель добыл себе и: вестность тоже недавно своим
БИБЛИОГРАФИЯ
новеллами об'единенными в книгу «Конармия». Но уже в более ранних его «Одесских рассказах» он бь:л задан весь и можно было предугадать, на что посмотрит, что увидит он в войне гражданской. От крови бандитских преступлений, от крови еврейских погромов, опять «Конармия и солдатня, пахнущая свежою кровью и человеческим прахом». Бабель не знает ни солнечной вселенной п природы, ни радости бытия, ни радости любви. Все живое, когда на него смотрит Бабель, мертвеет. Тяжесть, сырость, прах, смерть. Это какой то ВШ с тяжелыми веками и пригвождающим взглядом. Но зато по силе этого взгляда и запечат-ленность увиденного, вырубленная словом точным, в'едчивым и грубым. Люди у него озверевшая, свихнувшаяся, обреченная человеческая убоина. Они убивают, их убивают. И все так просто:
– «Прямо перед моими окнами несколько казаков расстреливали за шпионаж старого еврея с серебряной бородой. Старик взвизгивал и вырывался. Тогда Кудря из пулеметной команды взял его голову и спрятал ее у себя под мышками. Еврей затих и расставил ноги. Кудря левой рукой вытащил кинжал и осторожно зарезал старика не забрызгавшись». (Берестечко). О, у Бабеля больное и неодолимое влечение к таким пронзительным деталям: – не забрызгавшись! Итак все время: «Вася,—кричит он мне – страсть сказать, сколько я люден кончил. А ведь это генерал у тебя, на нем шитье, мне желательно его кончить». Или: «Бумаги мы тогда у пего взяли, какие были, маузер "взяли,
; седелка его, чудака, и посейчас подо мною. А потом впжу —
– каплет из меня все сильней, ужасный сон па меня нападает и сапоги мои полны крови, не до него... – Облегчили значит ста-
1 ри , к ? ? ~ Был грех». (Конкин).
1 Живой мертвец – дистанция небольшая.
У Бабеля часто живые просвечивают смертью: – «квадрат света в сырой тьме и в нем мерт-
веннее лицо Сидорова, безжизненная маска, повисшая под желтым пламенем свечи-. (Сидоров). «И, закрыв глаза, торжественный, как мертвец на столе, Шевелев стал слушать бой большими и восковыми своими ушами». (Шевелев). Понятно – и природа ипогодау Бабеляобычно такая же под стать людям, убийственная: (Снова пошел дождь. .Мертвые мыши поплыли по дорогам. Осень окружила засадой наши сердца, и деревья, голые мертвецы, поставленные на обе ноги, закачались на перекрестках» (Замосты). «Голый блеск луны», «ночная сырая вонь», размокшая земля открывающая «успокоительные об'ятья .могилы» утро сочащееся «как хлороформ сочится на госпитальный стол». – словом – неправдоподобная, вонючая природа, удачный фон для развертывания бреда.
II когда, после всего этого, очевидно для придания особой остроть. своему смердящему букету, он говорит, что смотрит на мир, «как.на луг в мае, как на луг по которому ходят женщины и кони» это действительно звучит контрастирующей издевкой. Кони-то ведь то же в большинстве случаев с вывороченными внутренностями. А женщины – пли эротический бред, или многократно изнасилованные покорнь е жертвы, или эскадронные «дамы» с «непомерным телом», «цветущим и вонючим, как мясо только что зарезанной коре вы», «с чудовищной грудью закидывающейся за спину» и прочими Ропсовски-ми прелестями. Многие считают Бабеля правдивым реалистом, чуть ли не натуралистом, преподносящим сценки и картины, как они есть.
Да, реалистом его назвать придется, ибо для него действительность не есть отражение мира ино го и никуда ни уходить, ни уводить из нее он не собирается. Жизнь как она есть, но... под взглядом Бабеля. А он видит лишь го, что хочет (что может?) видеть. Как и многие художники, он ограничивается в своих творениях лишь немногими цветами
БИБЛИОГРАФИЯ
спектора. В расположении светотеней, в освещении он совершенно пеоб'ективен. А главное, – он не описывает, не списывает натуру,а конструирует ее. Егс новеллы – не фиксация эпизодов
– как они были, а воссоединение бывших (существовавших) элементов в небывшее целое.
В момент, когда смотрит Бабель, его герои производят максимум характеризующих их (как тип) действий и жестов, говорят только нужные (для типа) слова: все бытовые штрихи, детали, разновременно и разноместно бывшие, локализуются и концентрируются во времени, сдвигаются в фокус и эта евзепсе и дается Бабелем.
Пр1ем этот в той заостренности в какой пользуется им Бабель – пр!ем новый^ избранный для изображаемой действительности, для нового материала весьма удачно. Остальное —от свойства глаза. Еще добавлю: Бабель берет свои «пронзительные» детали отнюдь не как бытовик – безразличие. Детали у Бабеля








