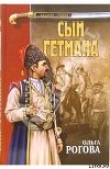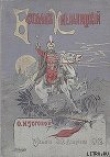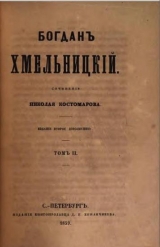
Текст книги "Богдан Хмельницкий"
Автор книги: Николай Костомаров
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 67 страниц)
же летописца, Петр Могила был человек жадный, жестокий и истязал бичами монахов
Николаевского монастыря, допрашивая у них, где спрятаны монастырские деиьги.
Некоторые от его жестокости переходили в унию. Но известия Ерлича если могут быть
справедливы, как сообразные с духом тогдашних польских нравов, то в равной степени
могут быть ложны или преувеличены, потому что сам летописец вообще мало
соблюдал критики в обращении с тем, что до него доходило в его время, да кроме того
еще и потому, что Ерлич, как дворянин, не любил Козаков, а Петр Могила был к ним
благосклонен и постоянно находился с ними в приязненных отношениях. Тот же Ерлич
рассказывает, что митрополит отправил к козакам печерского чернеца Никодима
Силича, обвинив его в наклонности к унии, а козаки у себя сделали этому монаху
козацкое увещание, продержав шестнадцать недель подле пушек, потом выпустили. По
словам Грондского 3), незадолго пред смертью Петр Могила ободрял Козаков к
восстанию. Выло ли точно так или нетъ—
J) Опис. Киево-Соф. соб. и Ист. киевск. иер., 170.
2)
Latop. Jerl., 1, 66.
3)
Hist. belli, cos. polon., 51.
75
во всяком случае видно, что современное дворянство считало его благоприятелем
Козаков; этого было достаточно, чтоб очернить иля его. Несомненно, Петр оказал
важные услуги православию. Он укрепил древние стены Софийского храма, открыл
основание Десятинной церкви и возобновил ее, доставил благочестию предметы
поклонения древней святыне, напечатал несколько нужных для православия книг; но
самая важная заслуга его была—открытие коллегии, первого высшего учебного
заведения в Русской Земле, имевшего важное влияние на развитие умственного
образования русского народа в грядущие времена *)•
По восшествии на престол Владислава началась война с Московским Государством.
Козаки участвовали в ней.
В числе рыцарей, заслуживших тогда похвалу от короля, по известию одной
малорусской летописи 2), был Богдан Хмельницкий, получивший от короля саблю за
храбрость: через двадцать один год после того он заметил, что «сабля сия порочит
Богдана». Но в то же время, когда одни козаки воевали против москвитян, другие их
братья отправились на Черное море. Предводитель этой экспедиции был Сулима.
Козаки плавали по Азовскому морю, воротились в Черное, разграбили при устье
Днестра Аккерман, Килию и Измаил на устье Дуная, грабили, разоряли села и деревни
3). Неизвестно, это ли событие вооружило снова турок против Польши, или же оно не
предваряло набега турок и татар на польские владения; но полякам во всяком случае
оно дало повод оправдываться в нарушении мира. Польское войско было занято
войною в Московии; на южных границах стоял Конецпольский с небольшим отрядом
войска: обстоятельство это обещало туркам большие выгоды. Абаз-паша, правитель
Бессарабии, родом русин, ренегат, вторгнулся с татарами в польские области; это
полчище ограбило и разорило окрестности Каменца и ушло в Молдавию.
Конецпольский с кварцяиым войском, стоявший близ Бара, погнался за ними: в войске
его были и козаки, везде поспевавшие воевать. Орда была рассеяна. Конецпольский
стал у Каменца. В октябре 1633 года Абаз-паша атаковал его и, встретив мужественное
сопротивление, ушел и начал возбуждать турецкое правительство к войне с Польшею.
Между тем московское правительство искало содействия Турции против Польши 4).
Польский посол Тржебинский приехал для объяснений в Константинополь и был
принят сухо. Двор жаловался на нарушение мира, указывая на новые козацкие разбои
по морю. Падишах требовал дани от поляков. «Между нами не может быть мира иначе,
–сказал послу султан,—как если станете платить нам дань, разрушите возведенные
вами крепости по берегам Днепра и искорените Козаковъ».—«Уж лучше война, чем
такия постыдные условия», – сказал Тржебинский. Мурад схватился за саблю и
произнес: «ты разве не знаешь, что я владыка, перед мечом которого трепещут все
народы? Я с своим неисчислимым воинством разорю всю Польшу огнем и мечом!» —
«Это в твоей воле, но за кем победа будет,
Ч Пам. киевск. ком., II, 1, ИОЗ.
-) Сказ. о Гетм. укр. до Богд. Хм.
3)
Лет. пов. о Мал. Росс., 141.
4)
Pam. do pan. Zygm. III, 1, 222.
76
это в воле Божией. Мой король Владислав извлечет сам свой меч и доверится тому
счастию, какое послужило ему под Хотиномъ». Мурад оценил эту смелость, и заметил
своим приближенным: «вот такими верными слугами и вы мне будьте» 1). Однако,
ничто,—говорит турецкий историк,—не могло удержать падишаха от предприятия
вести войну. Деверным отказали в мире и только по великодушию позволили
польскому послу возвратиться в отечество 2). В Адрианополе падишах назначил уже
шегриара (главнокомандующего) на предстоящую войну. Но .войны на этот раз не
было.
Поляки поспешили помириться с Московским Государством. Поляновский договор
прекратил войну. Польские историки говорят, что падишах тогда склонился к миру
потому, что не надеялся более на союз с Московским Государством 3).
Восточные писатели помещают это событие в 1633 году и говорят, что 28 шевала
(13 апреля) падишах получил известие, что ляхи, занятые войною с москвитянами,
желают отдаться с покорностью на волю падишаха 4); но это известие несправедливо,
ибо война поляков с москвитянами началась только в октябре 1633 года. Польские
историки помещают это событие в 1634 году. Стоя в Адрианополе, падишах, прежде
чем начинать военные действия, послал Шагин-агу в Польшу для объяснений;
последний прибыл в Варшаву в июле 1634 года б). По восточным источникамъ8),
польский король изъявил согласие быть покорным воле падишаха, а польский историк
говорит, что турецкий посол объяснил, что нападение Абаз-паши сделано без воли
падишаха и вместе с тем жаловался на козацкие разбои 7). Положили, что падишах
накажет Абаз-пашу, а поляки усмирят Козаков; на этих условиях заключили мирный
договор. Со стороны Оттоманской Порты дано обещание удержать татар от нападений
на Польшу и наказывать их; польское же правительство обязалось совершенно изгнать
Козаков с днепровских островов 8).
Султан, действительно, приказал казнить смертью Абаз-пашу, но не как виновника
раздора, а в припадке бешеного самодурства, чем во все свое царствование отличался
султан Мурад IY 9).
Полякам надлежало теперь принять действительные меры к прекращению козацких
морских походов для взаимного спокойствия как Польши, так и Турции. Собственно
забота о преграждении пути козакам из Днепра в Черное море падала не на поляков, а
на турок, потому что устьем Днепра владели последние. Давно уясе была построена
крепость Очаков с соседними укреплениями для того, чтоб можно было обстреливать
устье Днепра и не допускать Козаков выходить в море. Но в начале XYII века от плохой
под-
*) Hammer. У, 178.
2)
Collect., 87.
3)
Pam. do pan. Zygm. Ш, I, 227. *) Collect., 193.
5)
Pam. do pan. Zygm. III, I, 227. c) Collect., 193.
7) Pam. do pan. Zygm. III, I, 228. s) Collect., 124, 190. s) Hammer. Y, 192.
77
держки эти укрепления рассыпались. В 1626 году турецкое правительство занялось
возобновлением и поправкою устьднепровских укреплений; назначили построить две
крепости на обеих сторонах Днепра х). По известию Воплана, видевшего это место в
1635 году 2), Очаков вмещал в себе до двух тысяч жителей, имел укрепленный замок с
якорным местом для галер, которые стояли там для укрощения Козаков. На юг от
Очакова был другой замок, обстреливавший Днепр, а на другом берегу башня, где
турецкая стража давала знать галерам о тревоге. Наконец, для большей безопасности,
были протянуты поперек Днепра цепи. Козаки, по выражению Воплана, смеялись над
этими средствами. Составив флотилию из чаек и достигнув близости устья, козаки
скрывались в камышах, верстах в двадцати (в трех или в четырех милях) от турецких
галер, дожидались темных ночей пред новолунием, и тогда прокрадывались посреди
турецких галер. Иногда они рубили толстые деревья и пускали с сучьями по воде прямо
на цепи, протянутые чрез реку, а сами кричали; турки, не видя ночью ничего, но
замечая, что цепи трогались, полагали, что это козацкия чайки наткнулись на цепи и
палили по ним усердно, а тем временем козаки проплывали, извиваясь между шхерами
3). Их грабежи и разорения не обходились даром; часто турецкия галеры гнались за
ними в погоню, иногда удавалось козакам уклониться от опасности и потом напасть
врасплох и одержать верх, но часто они терпели поражения. На возвратном пути они
умели безопасно достигнуть Днепра-Словуты, как они называли эту реку на своем
поэтическом языке. На восток от Очакова был залив, близ которого находилась низкая
лощина; козаки входили в этот залив и оттуда по лощине переносили свои суда с
добычею в Днепр; двести или триста человек несли каждую чайку 4). Чтоб укрощение
козацких разбоев было действительнее, надобно было воспрепятствовать стекаться
беглецам из Украины в Запорожье и для того приходилось уничтожить
народонаселение южно-днепровского края. Это падало на поляков.
С этою целью коронный гетман Конецпольский в 1635 году заложил на Днепре
крепость Кодак; труд этот возложен на французского офицера Левассера де-Воплана,
автора любопытного описания Украины. Место выбрано выше порогов, ниже Самары и
Князева острова 6). В новопостроенной крепости поставлен гарнизон, под начальством
француза полковника Мариона в).
Он не пускал Козаков не только воевать, но даже ловить рыбу и держал в крепости
человек двадцать схваченных молодцов.
В августе того же года из морского похода возвращался Сулима. Козаки увидели
небывалый замок. Сулима бросился на него врасплох; козаки перебили весь гарнизон,
не пощадив и командира.
*) Hammer. V, 70.
8) Опис. Укр. БОИИЛ., 9.
3)
Летоп. пов. о Мая. Росс., 1, 48.
4)
Оппс. Укр. БОИИЛ., 67.
5)
lbid., 19.
G) Львовск. лет. Жури. Млн. Нар. Пр. 1838 г. Апр.
78
Важные события готовились в Украине; им предшествовала, по замечанию русского
летописца, большая радуга на западе *).
Донесли Конецпольскому о поступке Сулимы. Новое возмущение поднималось.
Сулима стоял где-то в окопах, вероятно, по обычаю всех возмущавшихся гетманов,
скликая к себе толпы. К нему пришли реестровые козаки. Их посланец явился к
предводителю восстания. «Ляхи хотят нас всех истребить. Примите нас к себе: будем
защищаться вместе!»—говорил он. С тех пор, как поляки начали проводить резкую
черту между реестровыми и нереестровыми, и только первых в малом числе почитали
за законное сословие, а последних за своевольных, между реестровыми и
нереестровыми успели они породить недоверие. Последние были из простонародья, и
козаками делало их самовольство. Реестровые хотя соединялись с ними, но всегда
такое соединение навлекало на них неудовольствие и гонение правительства.
«Присягните нам, что у вас нет дурного умысла», сказали нереестровые.
и Реестровые присягнули. Вооруженная толпа их, многочисленнее той, которая
была под начальством Сулимы, вступила в окопы 2). Они были подосланы
Конецпольским 3). Для избежания кровопролития, хотя бы и пагубного для
нереестровых, но все-таки не безвредного для реестровых, реестровые в другой раз
поклялись, что старшинам не будет ничего дурного. Но потом Сулиму с пятью
старшинами заковали в цепи. Осенью их отправили в Варшаву на сейм. Сейм этот
происходил в ноябре 1635 года. Турецкий и татарский посланники находились уже в
Варшаве и жаловались на Козаков. «Вели хотите мира с нами,—говорили они,—скорее
чините суд и расправу над злодеями; нынешний год уже пять раз ходили за море!»
Шесть старшин были приговорены к смерти; львовская летопись говорит, что четырем
отрубили головы 4). Литовский канцлер Радзивилл в своих записках говорит 5), что
Сулиме отрубили голову, потом разрубили его тело на четыре части и развесили на
четырех концах города. Перед казнью он просил похоронить с ним золотой образ,
который папа Павел Y когда-то прислал ему за то, что он, разбивши турецкую галеру,
послал в дар папе триста пленных турок. Радзивилл говорит, что Сулима обратился в
католичество, но это не помогло ему, и он должен был подвергнуться той же участи,
как и его товарищи, оставшиеся в православии.
Реестровые получили похвалу от короля за то, что не пристали к Сулиме и выдали
непослушных. В виде милости положили увеличить козацкое сословие еще одною
тысячею, но зато, кроме них, никому не дозволяли именоваться козаком, и всех
выписанных из реестров строго обязывали повиноваться панам, в имениях которых они
жили. Тогда паны жестоко наказывали непокорных за малейший признак
непослушания. Гетман Конецпольский получилъ' предписание расставить кварцяиое
войско в Украине; и польские жолнеры обращались с русским народом грубо и
своевольно. «Ми-сь-мо людъ
*) Сказ. о Гетм. до Богд. Хм.
2)
Львова:, лет. Ж. М. Н. Пр. 1838 г. Апр.
3)
Олис. Укр. Бопл,, 20.
4)
Львова:, лет. Ж. М. Н. Пр. 1838. Апр.
5)
Раш. Albr. Radz., 20.
79
рыцерьский,—кричали украинцы—тому сь мо не привикли; то нам не звичай!» Но
и реестровые козаки также не удовольствовались похвалами: им не платили жалованья,
а только водили обещаниями, притом же хотели их держать в руках. Кварцяное войско,
по приказанию коронного гетмана, заняло Корсун, который, по старому обычаю, был
местом для козацкой арматы (артиллерии). Один из начальников польских отрядов, сын
подольского воеводы, вошел в Корсун, расположил свой отряд и свою челядь в домах
жителей, считавших себя уже издавна козаками, и сверх того насильственно овладел
местечками: Бузыном, Вороне, Нивами и Лозами, которыми издавна владел киевский
Николаевский монастырь. Это раздражило реестровых: связь с выписчиками и вообще
с русским народом не могла быть подавлена сословными интересами до такой степени,
чтоб неудовольствия народные не находили отголоска в реестровых козаках.
В 1636 г. козаки обратились с жалобами к королю; посланники их были сотники:
черкасский—Барабаш, и Чигиринский—Зиновий-Богдан Хмельницкий.
Тогда посредником между козаками я правительством выступил Адам Кисель,
оратор за православие на сеймах. Он считал себя искусным дипломатом.
Переговариваясь с козаками, он уверял их в своем расположении, назначал им сроки
для уплаты жалованья, а когда эти сроки проходили, назначал другие, между тем завел
между ними шпионов, ссорил между собою старшин, подкупал подарками и, таким
образом, тянул время. Простые козаки собирались составить чернецкую (т.-е. из черни,
без старшин) раду, а за подобными радами следовали у Козаков возмущения. Кисель
всеми мерами их удерживал от этого и водил обещаниями. Старшим, как титуловали
его поляки, или гетманом, как величали его сами козаки, был у них тогда Василь
Томиленко, патриот, прямодушный простак, управляемый лукавым писарем своим
Онушкевичем, угодником Киселя и панов. Дождавшись до праздника св. Илии—срока,
указанного Киселем для уплаты козакам жалованья, и не получивши этого жалованья,
козаки не решались собирать, как грозили, чернецкой рады, в которой могли
участвовать уже и не козаки, а неопределенное число поспольства. Они принудили
своего старшего созвать на реке Русаве вальную (генеральную) раду, в которой, при
старшинах, участвовали все простые (поспольство), не только реестровые козаки.
Кисель, узнавши об этом, отправился туда сам.
То было в первых числах августа 1636 года.
„Нам обещали деньги в мае,—говорили козаки,—а не доставляют и в августе; мы
много потерпели, оставаясь без денег; на море нам ходить не позволяют, а мы оттуда
получали себе пропитание; мы и братьев своих воевали и непокорных выдали под меч
его величества, и за то теперь от урядов и нодстарост переносим утеснения и
оскорбления; и денег нам не даютъ». Старшины безуспешно пытались усмирить
волнение. Одни кричали: идем на Запорожье, а оттуда на море! Другие кричали: идем
на города, на уряды (власти), которые нас обизкают! Вырвали из рук у Томиленка
камышину и хоругвь и кричали: собирать чернецкую раду! Но этот шум произвели
выписчики, которые затесались на раду; реестровые были умереннее и, после
нескольких часов шума, Киселю удалось уговорить их подозкдать до праздника
роскдества Богородицы.
80
«Будем еще ждать, – сказали наконец реестровые, – да только, если нам не
заплатят тогда нашего жалованья и не удовлетворят за те обиды, которые нам делали
уряды, так мы заберем армату и уйдем на Запорожье».
После того прошел еще месяц. Денег не было. «С козакаии, – писал тогда Кисель к
коронному гетману,—могут удаться три способа: они уважают духовных греческой
религии и любят богослужение, хотя сами больше походят на татар, чем на христиан;
во-вторых, на них действует страх королевского имени, а в-третьих, они любят взять
там, где можно достать. Сообразно этому, я употребил с ними три способа». Кисель
обдаривал старшин и наобещал их потомству разных благ и нрав, потом убедил
митрополита послать к козакам двух игуменов, и те уговаривали рыцарей именем
православной веры не подниматься из-за корысти на Речь-Посполитую и не навлекать
беды на церковь, мать свою. Наконец, Кисель составил фальшивое письмо от короля к
себе и послал его Томиленку, показывая вид, что делает это не по обязанности, а из
расположения к козацкой старшине. В этом письме от лица короля высказывались
укоры козакам за то, что они, не доверяя королевскому обещанию, собирались
устроивать чернецкую раду и бежать на Запорожье; следовали затем уверения в
непременной присылке денег, а потом угрозы в случае непокорства и непослушания.
Посылая копию с такого письма, Кисель советовал козакам отправить депутатов на
предстоящий сейм и просить ограждения от обид, сохранения своих прав и исправной
уплаты жалованья.
Но эти уловки не предупредила волнения. Осенью, не дождавшись жалованья,
Чигиринский полк взбунтовался и выступил к Крылову; прочие полки еще колебались.
Изо всех полков собирались охотники на Запорожье с тем, чтобы оттуда выплыть на
море; выписчики толпами приставали к реестровым и сообщали им мятежный дух.
Козаки снова установились в Корсуне, когда им было это запрещено; их армата
перенесена была в Черкасы по приказанию коронного гетмана,—козаки захватили
четыре киевских пушки, взяли свою армату из Черкас и перевезли в Крылов.
. Предполагавшийся морской поход в этом году не состоялся: ограничились
выходом нескольких чаек. Наступила осень; время было неудобное для плавания по
Черному морю. Притом же козакам предстояла надежда • воевать и с дозволения
правительства. Крымский хан воевал с буджацкими татарами, которые, находясь под
начальством мурз Кентемиров, не повиновались хану, и в то же время были врагами
Польши, беспрестанно делая нападения на польские области. По этому поводу
крымский хан вошел с Польшею в дружеские сношения и правительство дозволяло
козакам подать ему помощь. Посланник Речи-Посполитой Дзершек повез хану
обычные упоминки и на дороге прибыл к козакам, которым было приказано проводить
его. Сначала его приняли не слишком доброжелательно. «Не годится,—говорил ему
Томиленко,—чтоб ваша милость вез упоминки хану, когда еще не уплачено жалованье
козакам: для хана у вас деньги есть, а для Козаков их нет!» Однако, Дзершек был
отпущен, когда козакам блеснула надежда на войну; толпа удальцов отправилась
помогать хану: то были все выписчики и запорожцы. Ими предводительствовал Карп
Павлович Гудзан, носивший у Козаков прозвище Павлюк и под этим прозвищем
известный в истории.
81
Одна малорусская летопись говорит, что его звали также Павлюк Ваюн и Полурус,
потому что он был крещеный турок. По известию современного стихотворца-историка,
этот удалой козак служил уже прежде у крымского хана и помогал ему против донских
Козаков при взятии Азова. Он был соучастником Сулимы и, по просьбе канцлера,
избавился от казни. С этим предводителем отправились к хану подобные ему удальцы.
Но были и такие, которые в то время пошли на войну с целью не помогать хаву, а
разорять его подданных, пользуясь тем, что из Крыма вышла с ханом военная сила.
Эти обстоятельства удержали Козаков и от похода на море, и от восстания на
некоторое время. Тех, которые были посмирнее и оставались дома, старшины
уговорили подождать и отправили на сейм просьбу, чрез тех же сотников, как и прежде:
черкасского Ивана Барабаша и Чигиринского Зиновия-Богдана Хмельницкого.
Требования их в этой просьбе были умеренны и касались более одного реестрового
сословия. Покоряясь постановлениям кураковской коммиссии, хотя всегда несносной
для Козаков, рыцари просили только, чтоб им отдали задержанное по их рассчету за
четыре года жалованье, чтоб коммиссия, которая приедет для пересмотра реестра,
вписывала на место убылых товарищей других по желанию Козаков, чтоб армата их
содержалась на казенный счет и им вольно было посылать на селитренные заводы за
порохом и в рудокопни за железом для починки орудий. О своих утеснениях от панов
они писали так: «не довольно того,, что выгоняют нас из шляхетских имений,—не
допускают нас жительствовать и в имениях вашего величества, и Бог ведает, сколько
уже Козаков ушло с женами и детьми в Белгород п поселилось в московской земле.
Прогоняют с бесчестием послов наших; не оказывают нам правосудия, не дозволяют
иметь усадеб и жилищ в городах, не позволяют продавать п покупать горилки, пива и
меда, даже на свадьбы и крестины нельзя нам приготовлять напитков, да притом еще
паны старосты между собою ссорятся, друг на друга наезжают, а нам, козакам,
достается: нас бьют; дворы, оставшиеся после Козаков, умерших на службе его
величества, хотя и должны были оставаться с козацкими правами, но– свидетель пан
подкоморий черниговский, что как только не станет на свете какого-нибудь товарища,
так тотчас старосты и подстаросты ограбят его имущество, а вдову выгонят из дома, и
стариков, которые уже по дряхлости пегодны к службе, не уважают, грабят и
обижаютъ».
На такую просьбу козаки получили очень неприятный ответ. Считая следуемое
козакам жалованье только за три года, а не за четыре, им от имени короля отказывали: в
позволении брать с заводов запасы для артиллерии, в праве покупать места в городах
для поселения и, ради сохранения выгод владельцев, в праве приготовлять себе
напитки,—объявляли, что в козацкие реестры на будущее время будут записываться
только те, которые будут угодны старостам, по представлению последних, а не по
желанию самих казаков,—а все, не вошедшие в реестр, должны слуягить панам
беспрекословно. Вместе с тем, объявлялся козакам выговор за самовольное вторжение
в Корсун, за неудовольствия, распространившиеся в войске, и строго подтверждалось,
чтоб ни одна чайка не осмеливалась появляться на море.
Н. КОСТОМАРОВ, КНИГА IY.
6
82
В апреле 1637 года прибыли к козакам коммиссары: Станислав Потоцкий и Адам
Кисель вместе с скарбовым писарем, который привез жалованье козацкому войску.
Когда собрали раду, то сразу увидали, что на нее собралось, вместо того числа, в каком
должны были состоять реестровые, более десяти тысяч человек. Заметили сверх того,
что деньги не успокоят Козаков, что их просьбы о жалованье не более как предлог к
неудовольствиям, имеющим другие источники. Надобно было исключить лишнихъ—
сделать выпись, но коммиссары не решились приступить к этому, боясь, чтоб тотчас не
сделалось открытого бунта. Произвели только полис, то-есть записку в реестр семи
тысяч человек; это продолжалось несколько дней сряду. Наконец третьего мая снова
собрали все полки на вальную раду. Козаки подняли шум, требовали возвратить им
Корсун для арматы, не хотели отдавать назад четырех захваченных ими киевских
пушек. Коммиссары не в силах были их успокоить и только дали им совет обратиться
снова к королю с просьбою об этом, а сами отговаривались тем, что должны буквально
исполнять данную им инструкцию. Наконец, велено было козакам присягнуть. «Зачем
нас заставляют присягать?–закричали козаки:—мы уже прежде присягали и
сохраняем присягу».
Тут Потоцкий обратился к ним с такою энергическою речью:
«Напрасно волнуетесь, паны молодцы; если бы Речи-Посполитой пришлось извлечь
меч против вас, она извлечеть его и изгладит самое имя ваше. Пусть на этих местах
обитают дикие звери в пустынях вместо мятежного народа! Вы уйдете на Запорожье!
Что же из этого? Жен и детей своих оставите здесь; стало быть, нужно будет
воротиться, и тогда придется подклонить головы под меч Речи-Посполитой. Если же вы
стращаете нас, что уйдете куда-нибудь по далее—на Дон, например, так это неправда.
Днепр ' ваше отечество. Другого Днепра нет на свете. Дона нельзя сравнить с Днепром.
Там неволя, здесь – свобода. Как рыбе нельзя жить без воды, так козаку без Днепра,—
чей Днепр, того и козаки! Теперь, прощайте, мы едем к его величеству и скажем, что вы
бунтуете».
Некоторые из Козаков расчувствовались так, что прослезились. Томиленко положил
свою булаву и камышину и сказал:
«Челом бью всему войску запорожскому. Возвращаю уряд свой».
С этими словами он удалился из рады.
Козаки стояли в недоумении и не знали чтб им делать: выбирать ли нового
старшбго, или просить прежнего принять снова свое достоинство. Сторона Томиленки
одерясала верх. Козаки позвали своего гетмана и убеждали его не покидать уряда. «Не
хотим изменить его величеству и Речи-Посполитой,—сказали они,>—но пусть преясде
пан коронный гетман присягнетъ».
«Пан коронный гетман прежде вас не будет присягать», отвечали коммиссары.
Смятение продолжалось до вечера; наконец, козаки, поднявши пальцы кверху,
присягнули на основании Кураковского договора. Какого-то Грибовского, который
кричал отважнее всех, Томиленко приказал приковать к пушке. Он потом убежал из
войска и скрылся на Запорожье.
После этой рады Кисель писал к коронному гетману, что для того, чтобы дерягать
Козаков в послушании – лучшее средство иметь в козацкомъ
83
войске шпиойов, и зная все, чтб у них делается, подкупать, при надобности,
старшин, но постоянно ссорить их между собою, чтоб не допустить между козаками
единства и согласия. Через несколько недель оказалось, что такия меры не всегда
бывают действительными.
Павлюк воротился с войны, в которой, по его выражению, козаки с малыми силами
победили и в прах обратили многочисленного неприятеля. Услыхавши что творится на
Украине, он, с толпой удалых, налетел на Черкасы, забрал там орудия и увез на
Запорожье. «Тут им следует быть!» сказал он.
Томиленко оставался в нерешимости. Душою он был привержен к козацкой свободе
и склонен был пристать к Павлюку; но, как человек •старый, не видел и не надеялся
успеха; реестровые козаки смотрели на восстание двусмысленно; только самые
отважные и молодые не скрывали сочувствия к поступку выписчиков. Томиленко
известил коронного гетмана о поступке Павлюка, и счел приличным в своем донесении
отозваться с огорчением о пане канцлере, по милости которого Павлюк остался в
живых. Томиленко не скрывал, что с реестровым войском легко было отбить армату у
Павлюка, который налетел на нее с двухсотенным отрядом, но извинялся тем, что
слушался приказаний коронного гетмана, запретившего козакам ссориться между
собою. Вместе с тем, Томиленко отправил к Павлюку двух Козаков с советом
покориться и возвратить взятые орудия.
16-го июня Павлюк отвечал Томиленку из Микулина Рога, где находилась тогда
Запорожская Сич; он писал, что Козаков огорчило бесчестие, нанесенное козацкой
армате, и козаки, по милости Божией, не сделав никому оскорбления, перенесли ее на
приличное для неё место, в Запорожье, где предки их прославились своими подвигами;
притом же пребывание арматы в волостях требует её содержания, которое падает на
бедных жителей, и без того уже отягощенных постоем кварцяного войска, вопреки
кураковской коммиссии, потому что жолнерам не следует занимать квартир далее
БелойЦеркви. «Сознайтесь, писал Павлюк, когда армата наша стояла в волостях, то п
выписы были часты, из шляхетских имений выгоняли или подчиняли панской
юрисдикции наших товарищей и вдов козацких, а чуть какой-нибудь козацкий товарищ
провинится, паны уряды клевещут на целое войско перед коронным гетманом, а
коронный гетман перед его величествомъ». Павлюк отказывался возвратить орудия,
выражаясь, что мертвого из могилы назад не носят, н приглашал, напротив, всех
реестровых прибыть к ним с остальными орудиями. «Сохрани вас Боже, прибавлял
Павлюк, если вы захотите быть нашими врагами и, вместе с жолнерами, поднимете
руки на жен и детей наших и на наши имущества: ваши жены, дети и имущества
достанутся нам в руки прежде, чем наши вам; но мы этого вовсе не хотим; у нас п у вас
одна родная земля, и лучше нам жить заодно в братстве».
Вместе с тем Павлюк разослал по Украине универсал, которым призывал весь
народ в кбзачество. «Всяк, кто пожелает быть козаком,– было сказано в нем,—не
должен быть принуждаем к подданству панамъ». Подобные приглашения были как
нельзя более по-еердцу русскому народу в Украине; многие, услышав их, тотчас
бежали в Запорожье. Томиленко продолжал оставаться в нерешимости, не отправлял
назад павлюковых по-
6*
сланцев, присланных к нему с письмом, и сообщил коронному гетману об
универсале, которым Павлюк бунтует народ. 9-го июля Павлюк написал Томиленку
другое письмо, требовал возвращения своих посланцев, попрежнему убеждал
реестровых соединиться с выписчиками в одно тело,так чтоб столицею козачества была
Сич: там бы находилась козацкая армата, там бы жили старшины, а козаки могут
проживать где кому угодно– в Сиче ли, или в Украине, в селах и хуторах, с своими
семьями занимаясь хозяйством. Во всяком случае, пойдут ли к нему реестровые пли
нет, Павлюк просил дать ему известие, когда кварцяные жолнеры двинутся на него с
оружием.
Сочувствие к Павлюку и его выписчикам возрастало между реестровыми.
Томиленко все еще не смел разделять его явно, но и не противодействовал ему. Тогда
угодники панской власти, вероятно, действуя по наущению Киселя, старавшагося, по
собственному его признанию, производить между козаками раздоры, подобрали
кружок Козаков, собрали раду на реке Русаве и потребовали к себе Томиленка. Там
низложили его с достоинства и дали старшинство переяславскому полковнику Савве
Кононовичу, родом великоруссу, преданному панским видам. Вместе с Томпленком
отрешили ненадежных старшин и заместили их другими лицами, настроенными и
подкупленными заранее. Писарь Онушкевич, должно быть заправлявший этою
интригою, остался в своем звании при новом старшом. Окончив свое дело, послали к
коронному гетману просить утверждения новоизбранного козацкого начальника.
Конецпольский утвердил его, но утверждение не застало в живых Савву
Кононовича.
Весть о перевороте передана была в Сичу скорее, чем коронному гетману.
Павлюк, услышав, что Томиленка заменил Кононович, немедленно вышел с своими