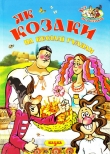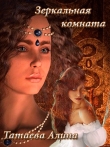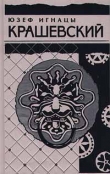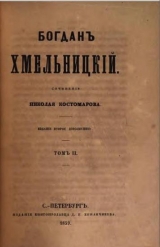
Текст книги "Богдан Хмельницкий"
Автор книги: Николай Костомаров
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 67 страниц)
С учащением и усилением татарских набегов развивалось и усилн-
валось русское козачество. 1516-й год обозначается историками как период уже
значительной деятельности Козаков. Важнейшими предводителями и устроителями
козачества были: Хмельницкий староста Предслав Ляндскоронский, черкасский и
каневский староста Евстафий Дашкович, которому приписывали первому устройство
Козаков в смысле военного сословия, и князь Димитрий Вишневецкий, знаменитый
впоследствии своими покушениями на Крым и Молдавию и своею трагическою
кончиною в Царьграде. Ядром козачества сделались Черкасы и Канев с их волостями,
находившиеся долгое время под старостинскою властью Евстафия Дашковича,
которому польские историки дают титул «знаменитого козака». Обязанностью Козаков
было воевать с татарами, но они не были единственными воинами в крае.
Необходимость военной силы в Украине побуждала правительство держать вообще
жителей городов на военной ноге. Так, в уставной грамате киевским мещанам
вменялось им в обязанность на лошадях и с вооружением ходить в погоню за татарами
*). Не будучи, таким образом, воинами, подобно козакам, мещане несли сверх того
повинности, соответственные мещанскому званию; козаки же, как люди
исключительно военного сословия, освобождались от всяких других повинностей,
кроме военной. Чтб для Козаков составляло привилегию, то для мещан было
отягощением. Сверх того города, кроме тягостей, положенных законом на мещанское
сословие, терпели еще от произвола старост и воевод, и оттого мещане, особенно
молодые и бедные, которых выгоды и симпатии мало привязывали к мещанству,
убегали самовольно в козаки; за ними и хлопы из селений стали также порываться в
козачество и самовольно покидать свои тяглые обязанности. Из них-то образовалось
другого рода козачество—вольное, неподчиненное существовавшему по закону
управлению. Ядром такого вольного козачества сделалась Запорожская Сича.
Когда собственно возникла эта славная впоследствии община—нет точных
указаний. В 1527 году, вероятно, не существовало за порогами постоянного козацкого
населения: крымский хан Саип-Гирей жалуется на Козаков, черкасских и каневских,
которые становились под улусами татарскими на Днепре и нападали на татар 2). По
этому’ поводу он грозил напасть на Черкасы и Канев, но не говорил ни о каком
козацком гнезде нпже по Днепру, а об нем он должен был прежде всего упомянуть,
еслиб оно в то время существовало. В 1533 {году Евстафий Дашкович на пиотрковском
сейме представлял о необходимости держать постоянную козацкую сторожу в две
тысячи человек на днепровских островах, и, кроме того, несколько сот конных для
доставки им продовольствия. Историк Бельский говорит, что на сейме по этому поводу
ничего не было сделано 3). Таким образом, и в этом году, невидимому, еще не было
Сичи. В шестом десятилетии XYI века князь Димитрий Вишневецкий построил город
(укрепление) на острове Хортице и поместил там Козаков 4). Появление козацкой
селидьбы на днепровских островах по близости к татарским пределам не по вкусу
пришлось татарам; сам хан ходил добывать этот городок и выгонять из своего
соседства Козаков. Скоро после того козаки, по известию Бельского, имели , уже за
порогами постоянное укрепление на острове Томаковке. То была славная впоследствии
Запорожская Сина. В актах, сколько нам известно, о её существовании первый раз
являются указания в гранате Сигизмунда Августа под 1568 годом, где говорится уже,
что козаки на Низу на Днепре не только ходят, как прежде бывало, но перемешкивают,
то-есть обитают *).
Вероятно, образование Сичи совершалось не вдруг, а постепенно, и возникло из
рыболовов и звероловов, которые, как показывают акты конца XY и начала XYI веков,
издавна имели обычай отправляться весною к порогам и за пороги, ловить там рыбу и
зверей, а осенью возвращались в Украину и в украинских городах продавали свежую и
просольпую рыбу и звериные шкуры. Условия пустынного края, куда отправлялись эти
промышленники, были таковы, что они невольно должны были сделаться воинами.
Занимаясь ловлею и солением рыбы, они казкдую минуту могли ожидать нападения
татар, и потому каждую минуту должны были быть готовыми отражать их. Такое
полоясение делало их бодрыми, храбрыми и быстрыми. Переплывать днепровские
пороги было дело трудное и опасное и приучало их делаться отважными мореходцами.
Из промышленного товарищества неизбежно должно было образоваться рыцарское.
Стали ходить за пороги на острова и в поле не только за рыбою и зверьми, но и за
военною добычею, нападали на татарские улусы,, захватывали скот, лошадей, брали у
побежденных конскую сбрую и вооружение. Была еще иная приманка для удальцов
ходить на Низ. Из Турции чрез Очаков шел торговый путь в Московское Государство:
этим путем проходили купеческие караваны с товарами. Козаки нападали на них и
расхищали везомое богатство. Возвращаясь с ним домой, они давали и другим повод
покушаться на такой промысел. Украинскому поселению пришлись по вкусу такие
походы. Число отправлявшихся весною на Низ с каждым годом увеличивалось. Те,
которым нравилась одинокая бурлацкая жизнь, оставались в построенном укреплении
зимовать; то была так называемая сирома, то-есть серая голь, которой нечего было
жалеть на родине и для которой жизнь была копейка во всякое время. Другие
возвращались на Украину, но уже не хотели быть тем, чем судьба определила им быть
до того времени, то-есть нести мещанские и сельские повинности; они оставались и
сами себя называли козаками: по тогдашним понятиям, кто был воин и подвергал себя
беспрестанно опасностям войны, тот уже тем самым ставил себя выше других и не
хотел нести повинностей, которые должны были падать исключительно на мирное
народонаселение, как бы в вознаграждение за охранение своего жительства от
опасностей. Недовольство, существовавшее между мещанами в те времена, не
подлежит сомнению и доказывается жалобами мещан на воевод и старост. Так, в 1523
году киевские мещане жаловались на своего воеводу Андрея Немировича, что он им
оказывает разные несправедливости, заставляет ходить с собою в поход пеших,
отнимает у них лошадей и вооружение и раздает, своим служебникам, заставляет
мещан стеречь пленных татар и наказывает их в случае, когда пленный убежит, хотя бы
мещанин не имел умысла
выпустить его, тогда как по закону в подобных случаях не следовало мещанину
чинить наказания; воевода, сверх того, присвоивает себе мещанские дворища и угодия,
посылает мещан на черные работы, которые не следовало возлагать на мещан. На
такую жалобу не последовало от великого князя ничего, кроме нравоучения воеводе,
чтобы он вперед так не делал и не ирисвоивал себе суда над мещанами, которых судить
должны были войт, бурмистр и радцы 1). В Черкасах по смерти Евстафия Дашковича
появились одни за другими новые старосты: против одного из них, Тышкевича,
взбунтовались мещане; по следствию оказалось подозрение в поджигательстве к бунту
на некоего Пенко, который, однако, оправдался 2). Потом Пенко стал старостою и
черкасские мещане жаловались, что этот новый староста заставляет их на себя
работать, возить дрова и сено, не позволяет возить в Киев на продажу мед, не дает
ловить рыбу и бобров, отнимает издавна принадлежавший мещанам днепровский
порог Звонец, собирает с них двойные коляды на праздник Рождества Христова и
отягощает их поставкою подвод. Мещанские повинности под его управлением были до
того тяжелы, что иные мещане поступали к нему в служебники, чтобы освободиться от
мешанских повинностей, которые, чрез уменьшение числа тяглых, не облегчались для
остальных, оставшихся в мещанстве. По этой жалобе', киевский воевода Немирович,
тот самый, на которого жаловались киевские мещане, производил, с двумя
королевскими дворянами, дознание и нашел старосту невиновным 3). Уже этих
примеров достаточно, чтоб видеть, как тогдашнее положение городов способствовало
тому, чтобы мещане выходили из своего звания и поступали в козачество. За мещанами
сельские люди стали делать то же, когда недовольны были своими панами или
поставленными от них для управления лицами. Запорожье наполнялось беглецами.
Побывавши на Ннзу п возвратившись в Украину, эти беглецы умножали собою число
людей, называвших себя вольными козаками, не хотевшими подчиняться прежним
своим властям.
Простота жизни, готовность на всякую опасность, благочестие, целомудрие,
совершенное братство между собою и строгое повиновение воле начальства—то были
нравственные требования запорожской братчины, приближавшие ее, за исключением
военного занятия, к монастырской. Запорожцы собирались на раду—сходку, подобную
старинным вечам. На раде выбирались начальники. Главным был атаман, носивший
название кошевого, а вся запорожская община, в правительственном смысле,
называлась кошем – слово татарского происхождения, означавшее вообще стан. Кош
разделялся на курени; над каждым куренем был выборный куренный атаман,
подчиненный кошевому. Кроме этих начальствующих лиц, выбирались радою:
полковой писарь (заведывавший письменным производством) и асаулы
(распорядители). Коца предпринималась какая-нибудь экспедиция из ограниченного
числа запорожцев, то начальником над такими был полковник, нарочно выбираемый
для такого предприятия. Кошевой имел безусловную власть над кошем, но по
окончании
года отдавал отчет в управлении, и в случае злоупотреблений подвергался смертной
казни. С этой целью, чтоб он не зазнавался, существовал обряд: новоизбранному
кошевому мазали лицо грязью. Пища у запорожцев,—говорит украинский летописец
*),—была ржаное квашеное тесто, называемое соломаха, редко сваренное, а более
праздничное кушанье—рыбная похлебка, называемая щербою. Они жили в куренях,
человек по сту пятидесяти в одном; в конце XYI века это были шалаши, сплетенные из
хвороста и покрытые для предохранения от дождя лошадиными шкурами 2); ссора
между собою строго запрещалась; суровые и даже бесчеловечные на войне, запорожцы
казнили смертью своих товарищей, делавших насилия и разбои в мирных
христианских поселениях; воровство наказывалось повешением; «за едино путо
вешают на древе». В товарищество поступали и холостые и женатые, но ввести
женщину в Сичу запрещалось под смертною казнью. За блудодеяние жестоко
наказывали палочными ударами. Запорожец, вступая в Сичу, обещал воевать за
христианскую веру и биться против её врагов. Он должен был хранить посты и обряды
по уставу восточной церкви. В первые времена существования Сичи нет нигде
упоминания о том, чтобы там был храм, как было уже впоследствии. Вероятно, его
тогда не было, по крайней мере, как постоянного здания для всегдашнего
богослужения, потому что и определенного места для Сичи долго не было; мы
встречаем Сичу то на Хортице, то на Томаковке, то на Микитином Роге, то на
Базувлуке... Уже позже, когда местопребывание Сичи установилось при устье
Чертомлыка, она сделалась как бы постоянным городом; до того времени это был
военный стан, часто переносившийся с места на место, обитатели его в большинстве
состояли из временных посетителей—промышленников.
Так жили по описанию, переданному малорусскими летописями, первые
запорожцы, остававшиеся на более или менее продолжительное время в Сиче. Большая
часть удальцов, которым суждено было не погибнуть и не попасть на войне в плен,
возвращалась осенью домой, обогащаясь добычею, несколько раз потом в следующие
годы повторяла свои походы на Низ, или лсе из них образовывались козацкия шайки,
которые выбирали предводителей, величаемых гетманами, шатались по Южной Руси и
делали наезды в чужия земли, или же, отведавши козацкого житья, поступали под
предводительство какогонибудь пана, который, в таком случае, называясь их гетманом,
обращался с ними, как с вольными людьми. Такие вольные козаки служили у князей
Вишневецких и Ружинских. Единого начальника над всеми украинскими козаками еще
не было. Крайнее равенство прав господствовало в их быте. Шляхтич ли, князь ли,
мещанин или сельский хлоп шел в козаки – он был равен своим товарищам. Сперва
вольное козачество наполнялось мещанами, а потом большинство в нем состояло из
сельских хлопов, не хотевших повиноваться своим павам. Век Сигизмунда-Августа
был эпохой значительного ополячения русского дворянства. Оно принимало польский
образ жизни, усвоивало польские нравы и польскую речь, начинавшую мало-по-малу
их усложнились и требовали усиления доходов и через то положение хлопов стало
тягостнее, а между тем им было большое искушение—возможность убегать от панов, и
они убегали в козачество. Не только из Южной Руси, но из Литвы и Польши приходили
искатели свободы. Место жительства Козаков не ограничивалось Черкасами и Каневом,
как было в начале; по всему пространству нынешних губерний: Киевской, Полтавской
и южной части Подольской проживали козаки, люди вольные, не хотевшие подчиняться
установленным властям, и связанные с центром козацкой вольности – Запорожскою
Сичыо. Одна из украинских летописей говорит, что царь турецкий сделал вопрос:
сколько в Украине Козаков? Ему отвечали: «У нас где крак (куст), там козак, а где
байрак (буерак), там сто Козаковъ». Козацкие походы не ограничивались уже стычками
с татарами в степях и разбиванием купцов; на своих чайках, как назывались их челны,
обшитые тростником и умещавшие до шестидесяти человек, козаки пускались в
открытое море, проникали в Румелию, Анатолию, нападали на мусульманские города,
избавляли из галер и темниц христианских пленников, появлялись даже под стенами
столицы падишаха. Возвращаясь домой с добычею, некоторые из бедняков становились
богачами и своим примером увлекали других на козацкие подвиги.
Польское правительство не покровительствовало умножению козачества: оно не
могло не видеть в нем подрыва существующего порядка, так как козачество
наполнялось людьми, убегавшими от повинностей; притом оно боялось, что козацкие
набеги на Крым и Турцию будут вызывать неприязненные действия против Польши со
стороны мусульманских соседей, с которыми оно не хотело вести войн. Польским и
литовским государям казалось лучше платить крымским ханам дань, которую они
называли, из благоприличия, жалованьем. Татары нужны были для них в нескончаемой
борьбе Литвы с ИЧОСКВОЮ, чтобы, при случае, можно было напускать на земли
последней союзные орды. Правительство, однако, не желало совершенного
уничтожения козаков, но хотело, чтобы их было немного, в качестве пограничной
стражи, для оберегания польских пределов от татарских своевольных Козаков.
Как ни враждебно становилось козачество к шляхетству, наполняясь
преимущественно из панских хлопов, но пока еще сами паны и шляхта
покровительствовали его развитию. В 1540 году Сигизмунд-Август послал такой
выговор «справце» киевского воеводства, князю Коширскому: «многократно прежде
писали мы тебе, обнадеживая тебя нашею милостью и угрожая наказанием, и
приказывали, чтоб ты бдительно наблюдал и не допускал тамошних Козаков нападать
на татарские улусы; вы же никогда не поступили сообразно нашему госиюдарскому
приказанию и не только не удерживали Козаков, но ради своей выгоды сами давали им
дозволение и через такую вашу неосмотрительность наше государство не могло
пребывать в покое и терпело большой вред от татарского поганства». Исчисляя затем
совершенные перед тем своевольства Козаков над татарами, грамата эта говорит:
«посылаем дворянина нашего Стрета Солтовича; мы велели ему всех киевских Козаков
переписать в реестр и доставить нам этот реестр. Приказываем тебе, чтобы ты велел
всем козакам непременно записаться в реестр и после того никоим образом не
выступать из наших приказаний, а затем кто
осмелится вперед нападать на татарские улусы, тех хватать и казнить, либо к нам
присылать. Если же перекопский царь за вред, нанесенный его подданным, нападет на
наше государство или пошлет на него своих людей, тогда никакая твоя отговорка
принята не будет, и мы, без всякого милосердия, взыщем на твоих маетностях и на тебе
самом вред, нанесенный нашим господарскиш и земским имуществамъ» *). В 1557
году СигизмундАвгуст похвалил Димитрия Вишневецкого за его храбрые подвиги
против татар, но не согласился исполнить того, что он предлагалъ—содерзкать
гарнизон в устроенном им замке на днепровском острове. Сигизмунд-Август, напротив,
возлагал на него обязанность – бдительно смотреть, чтобы козаки отнюдь не делали
нападения на области турецкого императора, с которым, как и с крымским царем,
заключен был вечный миръ2). В 1568 году, когда уже образовалась Запорожская Сича,
Сигизмунд-Август в универсале к козакам писал: «Мы осведомились, что вы,
самовольно выехавши из наших украинных замков и городов, проживаете на Низу, по
Днепру по полям и по иным входам, и причиняете вред и грабительство подданным
турецкого царя, такзке чабанам и татарам перекопского царя, а тем самым приводите
границы наших государств в опасность от неприятеля. Приказываем вам возвратиться в
наши замки и города, с.поля, с Низу, и со всех входов, не отправляться туда своевольно
и не беспокоить татарских улусов; если зке кто не станет повиноваться настоящему
нашему приказанию, тем украинские наши старосты будут чинить жестокое наказание»
3).
Распоряжения эти не имели силы. Сича не уничтозкалась, напротив, укреплялась;
козацкие побеги не только не прекращались, но увеличивались. Попытка привести
Козаков в известность посредством реестрования и тем заградить путь приливу тяглых
людей в козачество не удалась; но старосты, видя умаление своей власти и доходов,
стали утеснять и отягощать Козаков, живших у них в староствах, так что последние
жаловались правительству. В последний год своего царствования (1572 г.) Сигизмунд-
Август поручил коронному гетману Язловецкому произвестиТИГТисозачестве перебор
и, ограничив Козаков известным числом, взять их из-под власти старост под свою
власть, назначив им годовое жалованье. Тогда, сколько известно, был поставлен первый
раз старший над всеми козаками с правом суда над ними, под главным начальством
коронного гетмана. Этим старшим был некто Ян Бадовский шляхетского
происхождения. С этих пор являются над козаками старшие, признаваемые
правительством 4).
Между тем совершилось великое событие. Сигизмунд-Август, всю жизн
потакавший полякам, устроил, с величайшим, одаако. усилием, соединение Великого
Княжества Литовского с Польским королевством. Вся земля южнорусская, именно
Украина (то-есть нынешния губернии Киевская и Полтавская), Волынь и Подолия на
всеобщем сейме были отделены от Литвы и присоеди• нилнсь непосредственно к
Польше. Русские, как сказано было в акте, со-
единились с поляками, как равные с равными и свободные с свободными. Русские
дворяне упорно противились этому соединению, однако согласились, успокоенные
клятвенными утверждениями вечной неприкосновенности своей веры, языка, законов,
– словом, совершенной целости своей национальности ‘). Но того, чтб писалось на
бумаге, нельзя было сохранить на деле. Русское дворянство слишком сроднилось с
польскою жизнью, достаточно проникалось духом польской образованности, стояло
уже на пути ополячения и полной измены той народности, которую еще оффициально
признавало за собою. Это вело к тому, что русское дворянство должно было сделаться
чужим для народа, который, оставаясь попрежнему русским, находился у него под
властью и произволом, тем более неограниченным и тягостным, чем более русские
дворяне походили на поляков. Козаки, происходя преимущественно из простого народа
и оставаясь русскими, были его деятельною силою, а потому должны были неизбежно
стать во враждебные отношения к дворянству.
Преемник Сигизмунда-Августа, Стефан Ваторий, действовал с намерением слить
Южную Русь с Польшею в один состав. Король хотел ослабить и мало-по-малу довести
до уничтожения Козаков, потому что они были оплотом русской народности и главным
препятствием к слитию Руси с Польшею. Украина только на бумаге принадлежала
Польскому королевству; дворяне служили в козацком войске, не спрашиваясь ни у кого,
а козаки, которых было много во всяком городе и местечке, выбирали гетманов,
воевали, мирились, делали свои распоряжения, не относясь к правительству 2). Стефан
начал свое дело стеснения Козаков мерами, невидимому, благоприятными для
козачества. Он послал, как бы в знак милости и благосклонности, козацкому гетману
Федору Вогданку бунчук, булаву, печать с изображением воина, знамя с королевским
гербом и подтверждение в достоинстве как гетмана, так и старшин 3). Он учредил в
козацком сословии особое сословие под названием реестровых, на образец
пограничной венгерской стражи, называемой гайдуками. Учрежденная нарочно
коммиссия обязана была в определенное время набирать из жителей коронных имений
Южной Руси реестровых Козаков и вести им список 4). Их должно было быть только
шесть тысяч и они составляли шесть полков: черкасский, каневский, белоцерковский,
корсунский, Чигиринский и переяславский. Каждый полк, под начальством полковника
и его помощника асаула, делился на десять сотен, каждая сотня состояла под
начальством сотника и его помощника сотенного асаула. Гетману, главному начальнику
пад всеми козаками, давался для* резиденции город Трехтемиров с замком и
монастырем. При гетмане были чины генеральные: асаул, судья и писарь. Всем козакам
положено жалованье по червонцу в год и по тулупу каждому. Осыпая, таким образом,
милостями Козаков, король показывал им, что считает их своими подданными и
*) Об истории соед. Литвы с Польшей см. в дневнике Люблинского сейма,
изданном Археогр. Коммиссиею.
2)
Hist. belli cosac. polon.
3)
Летоп. Сам., 2—Истор. о през. бр.– Повесгв. о том, что случ. в Украине —
Сказ. о ге^м. запор.
4)
Histor. belli cosac. polon., 10.
имеет право верховного начальства над ними. Учреждением в козацком сословии
реестровых король сделал разъединение между козаками; он имел в виду, чтоб
современем только эти шесть тысяч, записанные в реестр, остались козаками, а прочие
мало-по-малу вошли в сословие посполнтых: они все, наравне с другими, подпали бы
под власть дворян; наконец и шесть тысяч реестровых, получая жалованье, как
солдаты, подвергаясь распоряжениям главнокомандующего польскими войсками,
должны были сделаться только одним из отделов польской армии. Федор Вогданко
поблагодарил за подарки, а о подчиненности нс думал, и тотчас же, без позволения
короля, пошел воевать с турками. Преемник его, Ян Подкова, овладел Молдавией).
Оттоманская Порта просила к усмирению его содействия Польши; Стефан приказал
хитрым образом схватить его и казнить. Козаки выбрали гетманом друга Подковы,
Шаха, и начали мстить за Подкову '). Тогда-то было начало столетней вражды
южноруссов с поляками, к которой принадлежит эпоха Хмельницкого и смутное время.
по смерти его.
Шах первый показал мысль посредством Козаков освободить Южную Русь от
соединения с Польшею. Он выгонял шляхтичей, поселявшихся в Подолии со времени
присоединения её к Польше по акту 1569 года 2); король хотел решительно истребить
козачество, но не успел, и сказал, не задолго до копчины: «из этих лотриков (бродяг)
Козаков образуется когда-то самостоятельное государство 3).
По смерти Стефана, при Сигизмунде III, сейм начал издавать постановления,
стеснявшие козачество. Речь-Посполитая находила необходимым пресечь побеги из
Украины на Запорожье и накопление там вольных ватаг, предпринимавших морские
набеги на турецкия области, а такие набеги побуждали турецкий двор оказывать
враждебное настроение к Польше. Постановлено было построить на Днепре город и
содержать там гарнизон. Конституциею 1590 г. положено, чтобы козаки находились под
властью коронного гетмана, который им будет назначать старших. Ни полковники, ни
сотники не имели права принимать в козацкое сословие новых лиц без своего
старшего, а старший без воли коронного гетмана, и у последнего должен был
находиться список всех Козаков. Чтобы заградить переход в козачество мещанам и
хлопам, вменили в обязанность в коронных имениях старостам, а в земскихъ—
владельцам-собственникам (дедичам) учредить урядников, обязанных смотреть, чтобы
никто не оставлял своего места жительства и не ходил на Низ, в Сичу и в поле.
Строжайше запрещено было продавать простонародию порох, селитру, оружие и
всякую военную добычу. Виновные в несоблюдении этих правил подвергались
смертной казни. То же угрожало непослушным и нерадивым урядникам, а те
владельцы, у которых в имениях оказалось бы своеволие, подвергались судебному
преследованию, если потакали беспорядкам. Все козацкие начальники должны быть
назначены коронным гетманом и непременно из шляхты. Учрелсдали двух чиновников
под названием дозорцев, также из шляхетского звания: их обязанность была наблюдать,
не оказывается ли где своеволие, не составляется ли козацкая шайка, не порываются ли
хлопы выходить из повиновения дворянству, и обо всем доносить гетману. Это еще
более раздражило Козаков и было причиною новых восстаний; поляки же нимало не
достигли цели. Козаки были так сильны, что определения сейма не имели на них
влияния: притом же польские дворяне, сами того не зная, способствовали увеличению
и усилению козацкого сословия. Занимая в Украине, особенно на левой стороне
Днепра, привольные, но малонаселенные земли, они приглашали к себе переселенцев,
обещая им выгоды; это называлось: «зазывать на слободы». Русские бежали к ним из
Волыни и Червоной Руси, где не было Козаков и где народ находился в большой
подчиненности у владельцев. Эти новосельцы часто приходили в слободу и тотчас же
убегали к козакам; а другие, если и занимались земледелием в имении пана, то
всегда.могли избавиться побегом от обязанностей подданства, а в случае восстания
Козаков против власти, готовы были увеличивать собою число козацкого войска ').
Итак, козаки были уже раздражены против Польши, а между тем усиливались; мысль
об отторжении Руси возникала и пропагатораии этой мысли становились козаки.
В 1593 году вспыхнуло козацкое восстание под начальством Криштофа Косинского.
Он был русской веры шляхтич из Полесья. Неизвестно когда и как он попал в
козачество и какого рода козаками он сперва начальствовал, но к нему пристали одна за
другою вольные козацкия ватаги и все признали его козацким гетманом.
Распространилось под его знаменем восстание по трем воеводствам: киевскому,
брацлавскому и волынскому. Старосты в киевском воеводстве собрали и выслали
против своевольных Козаков отряд, но козаки его разбили и стали то здесь, то там
нападать на панские и шляхетские дворы. Вместе с золотом и серебром, они забирали
непременно пергаменные документы дворян и истребляли их; козаки заявляли себя
врагами всякого писанного закона, всякого исторического родового права: на то у них
вольность, равенство; ненавидели они все, чтб поддерживалось привилегиями—
происхождение и власть дворянства над людьми. В панских имениях и в староствах
хлопы (рабы), почуявши, что можно сбросить с себя ярмо, приставали к козакам и
увеличивали их число. Кажется, что суровые меры, которыми хотели лишить Козаков
возможности вырываться из пределов государства, способствовали расширению
козачества внутрь: оно стало стремиться захватить для себя сколько возможно более
поля в королевстве и сломить противоположные себе начала шляхетского строя, на
котором держалось все польское государство. Такой строй козачеству мешал жить и
козачество мешало жить ему своим ростом. В 1592 году, еще до восстания Косинского,
южнорусский народ так сильно волновался, что король назначил коммиссию иссде=
довать: откуда идут эти волнения и какие люди волнуют народ. Эта каммиссия ничего
не сделала. Косинский, ставши козацкнм предводителем, скоро до того усилился, что в
первый же год своего самозванного гетманства овладел Киевом и Белою-Цсрковыо,
благодаря толу, что там укрепления оставались в небрежении. За этими городами стали
покоряться другие украинские городки. Косинский стал явно выказывать умысел
отторжения Руси от Шлыпн. Козаки брали не только панские маетности, но и
королевские замки и города, забирали там артиллерию и огнестрельные снаряды и
приневоливали жителей к присяге себе. Таким образом, это восстание было разом и
социальным, направленным против привилегированного класса, и политическимъ—
против королевской власти ц цельности Речи-Посполитой. Король выдал универсал,
обязывавший шляхетское сословие воеводств киевского, брацлавского и волынского
ополчиться для укрощения своевольства; в этом универсале выставлялось на вид, что
Косинский не только грабит и убивает, но, чтб всего важнее, принуждает к присяге и к
послушанию себе людей шляхетского и мещанского звания и тем самым посягает на
достоинство короля и на всеобщее спокойствие и целость государства. Шляхетство
спешило защищать и свои маетности, и свои сословные преимущества. Ополчение
шляхетское собралось под Константиновом на Волыни. Начальство над ним принял
князь Януш Острожский, сын славного Константина, который, по глубокой старости,
не мог принять в этом деле участия лично и поручил все сыну. Историк Дубенский
говорит, что у Януша военная сила состояла из толпы мужиков и только шестьсот
конных копейщиков или гусар было у него отборного войска. Произошло несколько
стычек с козаками в разных местах: одолевали козаки. Но когда Косинский стал
осаждать город Пяток (Пятку), там напал на него князь Януш Остроясский. И в этот раз
сперва счастье повезло-было Косинскому: козаки разогнали острожан, но Януш двинул
на них своих копейщиков на крепких конях, вооруженных длинными копьями. Они
врезались в козацкие ряды и смешали нх. Выл тогда глубокий снег, а козацкие кони
были слабее шляхетских. Козаки не могли скоро бежать: Козаков разбили. Говорят,
погибло их в тот день три тысячи; отняли у них двадцать пушек. Тогда козаки стали
просить мира, принесли повинную князю Острожскому: обязались сменить
Косинского, вперед не делать опустошений в имениях князей Острожских,
Вишневецких и других панов, участвовавших в ополчении против Косинского, и
возвратить как орудия, взятые в королевских замках, так и все вещи, награбленные в
панских дворах. Косинский, во исполнение этих условий, сам присягнул 10 марта. Но
воротившись из Волыни в Украину, он не только не отрекся от начальства над козаками,
а замыслил проучить тех, которые подавали помощь князю Янушу Острожскому, и в
особенности злился на старосту черкасского, Александра Вишневецкого. Он Пошел
неожиданно с отрядом в 400 или в 350 человек своих единомышленников в Черкасы и
ожидал вслед за собою большего числа Козаков, но люди князя Вишневецкого