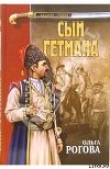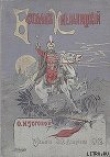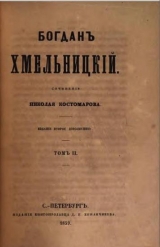
Текст книги "Богдан Хмельницкий"
Автор книги: Николай Костомаров
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 67 страниц)
предписывалось отступить 3).
1) Histor. pan. Jan. Kaz., I, 92—95. —Bell, scyth. cosac., 86—88.—Кратк. опис. о коз.
мал, нар., 37—39.– Истор. о през. бр. – Pam. do pan. Zygm. III, Wlad. IV i Jan. Kaz., П,
103—108.—Latop. Jerl., 100—101.—Pam. Albr. Radz., П, 319
2)
Pam. do pan. Zygm. Ш, Wlad. IV i Jan. Kaz., II, 104.
3)
Письмо это ыаиеч. в ИИИ-м томе „Собр. гос. гр. и дог.“ О литовских
событиях этого времени специальное сочинение „Rerum, in Magno Ducatu Lith.
Commentarius11.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.
Неудовольствия в Польше. – Пасквили. – Обвинения против Осеолннского. —
Смерть его. – Любовь к Вишневецкому. – Состояние Украины. – Сейм в Варшаве.
– Недопущение киевского митрополита в сенат. – Гражданское устройство в
Украине.– Коммиссары,—Водворение владельцев.—Бунты.—Нечай.—Ходатайство
митрополита.– Переяславская рада. – Козацкие полки. – Положение владельцев.
Никто в польском лагере под Зборовом не думал о сохранении Зборовского
договора. «Мы должны были suadente necessitate согласиться на подобные статьи»,
писал один поляк из-под Зборова 1). «Тайный шопот,– говорит поэт-современник,–
предупреждал всех, что мир, который служил к унижению шляхетского сословия и
достоинства, не мог быть продолжителен. Это значит присыпать пеплом огонь,
который современем должен был вспыхнуть снова». Русские также мало верили в
прочность этого договора. Еслиб они и доверяли королевскому слову, то все-таки не
могли думать, что король в силах сдержать его. «Что значит в Польше король?—
говорит русский летописец.—Ляхи народ непостоянный; они не повинуются своим
королям и живут между собою в несогласии. Сколько в польской земле ляхов, столько
советов п мнений: каждый хочет свое слово поставить выше слова другого; они пишут
договоры, обещают, а потом отрекаются от своих обещаний» 2).
Короля в Варшаве встретили очень дурно. Жители столицы, только по слухам
знавшие, что такое Хмельницкий и его козачество, кричали, что король посрамил честь
польской нации, что он сделал Польшу данницею неверных и игрушкою хлопов. Когда
при дворе происходили праздники и балы, как бывает обыкновенно по окончании
войны, которое придворные хотели выставить счастливым, варшавские шляхтичи пели
на улице язвительные песни, прибивали к стенам пасквили и распускали
соблазнительные истории на счет короля, королевы и'придворных 3). В числе подобных
сочинений ходило по
Ч Starozytn. Polsk., I, 263.
2)
Истор. о през. бр.
3)
Annal. Polon. Clim.—Истор. о през. бр.
332
рукам одно диалогической формы.' Сцена происходит между королем, канцлером,
Киселем, ханом, русским митрополитом и королевским любимцем певцом
Грембошевским. Король дружески беседует с ханом. Канцлер, стоя перед ним,
восклицает: «Се что добро и что красно, еже жити братии вкупе!»—«Одна любовь нас
соединила, и тебе подобает честь за эту услугу отечеству», говорит король. Канцлер,
желая показать скромность, обращается к Киселю и восклицает: «вот кто сделал услугу
отечеству; восстань, возлюбленный, приими венец!» Митрополит при этом говорит
Киселю: «Ты краса русских, ты слава схизматиков!» – «И ты, отвечал ему Кисель:
воссядешь между двенадцатью коленами Израиля» (то-есть в сенате). Певец играет на
лире и поет: «сей день, его же сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся в онь!» и
получает за это в награду староство 1). Один из сенаторов, Кобержицкий, советовал
отыскать оскорбителей величества и предать их наказанию; но король, хотя знал, кто
сочиняет эти пасквили, однако терпел, зная непостоянство польского характера. «Он,
– говорит польский историк,—припоминал слова Тацита: оскорбление теряет свою
силу, когда им пренебрегают, и внушает к себе веру, когда за него гневаются»2).
Давняя подозрительность шляхетства к св.оим королям, которым всегда готовы
были приписывать замыслы ограничить шляхетскую свободу и ввести в Польше
самодержавие, обратилась на недавно избранного короля. Ему приписывали тоже,—в
чем упрекали его покойного брата,—намерение утвердить королевское самовластие
при помощи Козаков. Тогда иные политиканы толковали: всяк может признать, что
война эта была с королевского позволения: король чуть не попал в руки татар, и они,
вытребовавши от него условия, вредные для Речи-Посполитой, отпустили его. Всем
ведомо, что татары люди ладные, не то что короля, и обыкновенного шляхтича
стараются взять в неволю, и видя стесненное положение своего врага тем сильнее
нападают, а взять короля в плен они бы для славы своей всячески домогались. Если бы
эту войну козаки не вели против нас с королевского дозволения—иначе бы дело
кончилось 3).
Ненависть к Оссолинскому не кончилась пасквилями и сатирическими
стихотворениями. В ноябре 1649 г. был собран чрезвычайный сейм с целью утвердить
Зборовский договор, назначить задержанную уплату жалованья войску и принять меры
к увеличению регулярного войска в Польше. Когда еще собирались предварительные
сеймики для выбора послов, Хмельницкий писал к Киселю и уполномочивал его
держать на предстоящем сейме сторону русского народа. «Нижайше просим вашу
милость,—писал он,—стараться, чтоб на этом сейме утверждены были наши права и
вольности, успокоена наша вера и уничтожена уния, возвращено было домам Божиим
все, что предки наши на них пожертвовали и каждый пользовался бы своими
вольностями и более не было бы в отечестве раздоровъ» 4). На этом сейме чуть было не
возродилась старинная рознь между шляхетством польской Короны и шляхет-
*) Histor. belli cosac. polon., 112.
-) Annal. Polon. Сииш., I, 166—169.
3)
А. Ю. л 3. P., III, 402.
4)
Ojczyste spom., 2, 121.
333
ствол Великого Княжества Литовского. Послы из литовских поветов говорили на
сейме: «причина войны идет от коронных панов сенаторов и урядовых особ, а мы,
литовцы, не подавали козакам никакого повода к возмущению: пусть же одни коронные
несут на себе все издержки н убытки». Послы из белорусского края изъявляли на сейме
опасение, что из королевских и шляхетских маетностей хлопы станут уходить в
Украину и вписываться в козаки, и вместо дозволенного Зборовским договором числа
Козаков 40.000, будет их тысяч сто или более, и с ними без войны нельзя будет
обойтись. Вспыхивала, кроме того, еще более древняя рознь между знатным панством,
так называемыми можиовладцамн, и мелким шляхетством. Представители последнего
на сейме подавали мнение, что следует обложить поборами маетности светских и
духовных сенаторов по количеству дымов, истребовавши от владельцев сведения под
присягою: сколько у них дымов; и сверх того надобно наложить поголовное на иудеев.
Сенаторы воспротивились: подымный побор был бы для них тяжел, и казался более
легким побор с волоков ‘) земли, так как у них в маетностях приходилось но меньшей
мере человек по восьми хлопов на один волок, тогда как у шляхетства в маетностях
было на одном волоке по человеку, а иногда на четыре или на пять волоков один
человек. За иудеев заступались знатные паны, потому что иудеи были у них в
маетностях арендаторами п корчмарями 2). Тогда паны Речи-Посполитой обратили всю
злость на виновника своего унижения. Обвинители подали на сейм краткий очерк
действий канцлера. «Вся последняя междоусобная война есть плод правления
Оссолннского, гласило это сочинение. – Овладев умом жадного к славе и власти
короля Владислава, он затеял войну с Турциею, и когда представители Речи-
Посполитой не одобрили его замыслов, вздумал начать ее с помощью Козаков и
уговорил короля раздать им приданое королевы: с этими-то деньгами козакп н
поднялись 3). Он раздражил всех наших соседей: Турцию оскорбительными письмами,
шведского короля—непризнанием титула, московского царя– разными выходками и);
наконец, он с Владиславом замышлял сделать в государстве переворот и употребить
Козаков орудием к уничтожению шляхетской нации 5). Он один не советовал собирать
посполитого рушенья, и во время похода не велел посылать подъездов для того, чтоб
мы не знали о неприятеле; а когда привел короля в беду, то предложил мириться с
ханом, и с первого раза согласился на все, чтб предложили хан и Хмельницкий» 6).
«Легко понять,—говорили на сейме,—чего заслуживает тот, кто короля нашего послал
безоружным против врагов, как на бойню; кто довел его до такого унижения, что он,
отдав булаву Забускому и объявивъ
') Волок в Великом Княжестве Литовском заключал до 20 нынешних десятин.
") Анты Южн. и Запади. Росс., III, 399—400.
3)
Pam. о Копиеср., 420.
4) Annal. Polon. Clim., I, 166.—Hist. Jan. Kaz., I, 98.—Pam. do pan. Zygm. III, Wlad. IV
i Jan. Kaz., II, 110.
5)
, Histor. belli cosac. polon., 176.
6)
Pam. о Koniecpols., 424—426.—Annal. Polon. Clim., I, 167.
334
Хмельницкого изменником, снова переменил свое постановление; кто прежде не
хотел давать татарам жалованья, а потом обязался платить постыдную дань; кто
наложил вечное ярмо на жителей воеводств: киевского, черниговского и брацлавского и
довел Речь-Посполитую до заключения такого унизительного договора, о каком наши
деды и не слыхивали!» ').
Часть этих обвинений была справедлива. Канцлер удержался на месте, потому что
на его стороне были король, придворные и множество клиентов. Но эти обвинения
были для него последним ударом. Оссолинский не прожил года после этого тяжелого
сейма.
Поражая всеобщим поношением Оссолинского, паны в то же время величали врагов
его. Соперник его, Иеремия Вишневецкий, встречен был в Варшаве с такими
почестями, какими пользовались в Варшаве только короли.
2-го декабря он с царским великолепием въехал в Варшаву, перед ним ехало сто
слуг его на аргамаках, около него шла пехота в числе двухсот человек с мушкетами;
всей челяди, пахолков ИИ гайдуков прибыло с ним до пятисот. До самой столицы его
путешествие было триумфальным шествием 2). Толпа народа всякого звания ожидала
его за городом; рукоплескания, восклицания оглашали воздух: «вот он,—кричал народ,
–поборник правоверия, единственная защита нашей свободы!» Из уст в уста
переносились свежие рассказы о его геройских подвигах под Збаражем; духовенство
всенародно оказывало ему знаки признательности от имени церкви 3), а послы, в
вознаграждение за труды, постановили отдать ему в наследственное владение страну,
омываемую Городом, и приписать к Збаражу 4). Королю, придворным и Оссолинскому
не нравилось это предпочтение, оказываемое воинственному князю; но, сильный
любовью шляхетства, Иеремия только радовался бессилию злобы нелюбивших его и
громко произносил сочиненное им латинское двустишие: Hoc erat vetus Ossolinseiorum
opus corrumpere semper reipublicae corpus (фамилия Оссолинских издавна действует ко
вреду Речи-Посполитой) 5). «Во всей Речи-Посполитой (сообщал московский гонец,
бывший тогда в Польше) от мала до велика только о том и речи, что Оссолинский
изменник и все желали, чтоб он был убит. Канцлер не съезжал со двора своего,
страшась расправы над собою 6). Бго положение было критическим, особенно в те дни,
когда шляхта выходила из себя, чтоб оказать уважение к его сопернику, Иеремии
Вишневецкому. Когда, по прибытии последнего в Варшаву, явилась к нему толпа
обожавшей его шляхты, он говорил ей, что желал быть коронным гетманом, чтоб
отомстить козачеству за удары, нанесенные шляхетской нации. Носились слухи, что он
тогда дозволил себе такия угрозы: «пусть только нынешний сейм постановит не по-
нашему: я изготовлю Речи-Посполитой такого пива, что будет горше Хмельницкого!»
*) Pam. о Копиеср., 427.
2)
Акты ИОжн. и Зап. Росс., Ш, 400.
3)
Histor. ab. exc. Wlad. IY, 56.
4)
Anaal. Polon. Clim., I, 167.—Pam. do pan. Zygni. Ш, Wlad. IV i Jan. Kaz., II,
110.
5)
Histor. belli cosac. polon., 175.
6)
Акты ИОжн. и Зап. Рос., III, 398.
335
Говорят, что о таких словах доведено было до сведения короля и он тогда же
поклялся, что не быть Вишневецкому гетманом; а шляхта твердила: «вот еслиб
Вишневецкий, достойный всякой похвалы пан, был гетманом, Речь-Посполитая была
бы в покое. Пусть-ка попробует король не дать булавы Вишневецкому—мы за него все
помереть готовы, поднимем рокош и побьем всех сенаторов, а уж непременно убьем
изменника Оссолинского, и будем с Вишневецким оборонять Речь-Посполитую» 1).
Разом с Вишневецким оказывали везде честь и похвалу всем польским воинам,
терпевшим осаду под Збаражем. Сейм наградил их не слишком щедро, предоставив им
не в зачет жалованье за полгода 2), но общество вознесло их высоко и передало добрую
память о них потомству.
Еще торжественнее, чем Иеремию в Польше, принимали Хмельницкого в Украине.
Возвращаясь с победоносным войском из-под Зборова, где была потоптана гордость
ляхов, как выражались тогда, он нес в родную землю ‘утешительную весть
освобождения от долгой неволи. В каждом местечке, где он проходил, раздавался
колокольный звон, и русские люди, по обычаю предков, выходили с образами, хлебом и
солью на встречу избавителю Украины от кормыги лядсъкой. «Радуйтесь, братия, —
говорил победитель,—под Зборовом сила русская была поставлена на весы с польскою
и перевесила: теперь целый свет узнает, что значат козаки» 3). То было славное время,
но короткое и единственное в жизни южнорусского народа,– время всеобщего
восторга. «Выли у нас времена страшные, никто не приходил спасать украинцев, никто
не подавал воды омыть кровавые раны наши; но вот прошли грозные невзгоды! Теперь
не будет у нас ни жида, ни ляха, ни пана и не будет на свете земли лучше нашей
Украины» 4). Так воспевала народная муза эпоху славы и освобождения Южной Руси.
В другой раз Хмельницкий въехал торжественно в Киев, столицу православия, и
возвестил митрополиту о восстановлении достоинства отеческой церкви. «Там,—
говорит летописец,– он, лежа ниц перед гробами святых, заливался слезами
благодарности и воздавал хвалы Всевышнему» 5). Из Киева он уехал в Чигирин и начал
жить великолепно. В короткое время он приобрел столько сокровищ, сколько могло
быть только у государя. Богатое местечко Млиев, славное добыванием красильных
произведений, отнято у Конецпольского и давало Хмельницкому до двухсот тысяч
талеров дохода 6). Чигиринский полк, набранный из лучших Козаков, составлял его
гвардию; сверх того, три тысячи татар должны были стеречь здравие вельможного
гетмана по образцу иноземных властителей, окружавших себя наемною стражею из
чужестранцев 7). Устраивался в Чигирине и монетный двор, я стали чеканить монету с
изображением на одной стороне меча, а на другой Богданова имени 8).
') Ibid., 402.
2)
Jemiolowsk. Pamietnik., 17.
3)
Hist. Jan. Kaz., II, 100.
4)
Песня народи.
5)
Истор. о през. бр.
G) Annal, Polon. Clim., I, 180.
7)
Aunal. Polon. Clim., I, 176—186.
8)
Акт. ЮЖН. И Зан. Pocc., Ш, 408.
336
«Только скипетра и венца недоставало ему, чтоб быть совершенным монархомъ»,
говорит современник 1).
Но скоро проходило первое восхищение русского народа, и кипучая любовь к
гетману охладевала. Надобно было платить татарам. Уже Хмельницкий из своей
шкатулки отсчитал им пятьсот тысяч талеров; этого недоставало: наложена была
поголовная подать на русский народ для заплаты союзникам. Татары, повадившись
лакомиться в Украине, почитали позволительным распоряжаться по произволу в земле
союзников и уводить в плен женщин. Распространилась ужасная дороговизна: хлопы,
евшие все готовое в походе, приходили домой и заставали семейства в скудости. Иное
дело прошлый год: тогда много богатств из панских палацов перенесено было в
козацкия хаты; но все это давно было распродано московским и турецким купцам за
безделицу; много поживились тогда русские хлопы на полях пилявских; теперь не то:
два месяца простояли украинские удальцы под Збаражем, а получили только
удовольствие посмеяться над голодными врагами, если же чтб и отняли у неприятеля,
то это все доставалось ненасытным татарам, которые считали себя в праве подгонять
русских нагайками в сечу, чтоб самим не отваживаться на опасность. Пришла осень;
мужики не взялись за цепы, которыми летом били поляков, сравнивая их с соломою:
молотить нечего было. Такое же состояние постигло тогда и Белоруссию, где, вдобавок,
к ужасам войны и междоусобия присоединился хлебный неурожай. Тогда в пределы
Московского государства набегало много народа разного сословия: шляхта бежала от
хлопского мятежа, а крестьяне от голода: цена за четверть ржи доходила до двух
рублей, чтб в те времена было чрезвычайно высоко, и бедняки погибали от голода 2).
Между крестьянами распространилось стремление уходить в московские владения на
селитьбу, как в обетованную землю. За беглецами гнались, но не успевали догонять.
Кроме войны и хлебного неурожая, большим утеснением народу и в Польше и в Литве
служили усиленные поборы на войско, которое пришлось содержать в большем числе и
с ббльшими издержками: прежде выдавалось жолнерам обыкновенно пятьдесят злотых
за четверть года, но в 1648 г. канцлер Оссолинский, по случаю открывшейся войны
против Козаков и татар, установил платить по 120 злотых, чего никогда не бывало 3).
Но это все было еще начало; еще не всмотрелись в Зборовские статьи.
Польский сейм утвердил Зборовский договор после всеобщего ропота; этот договор
был написан кратко, потому что паны не имели духа ни писать, ни читать его. Послы
согласились на унизительный, как они говорили, договор, потому что желали доставить
своим братьям, украинским шляхтичам, способ возвратиться на родину. «Но они,—
говорит украинский повествователь,—помнили этот договор только до тех пор, пока,не
перестали смотреть на окровавленные трупы своих соратников, а потом снова начали
свои злобства». Зборовский договор был нарушен в одной из главнейших статей своих
на том же сейме, на котором был утвержден.
В нем было сказано, что митрополит киевский имеет право заседать
*) Истор. о иирез. бр.
2)
А. Ю. и 3. Р., Ш, 372, 374.
3)
Ibid., 399.
337
в сенате. Сильвестр Коссов, в сопровождении знатного духовенства, отправился в
Варшаву занять свое место, купленное для него ценою крови. Во прежде появления
его, в сенате открылось предварительное совещание, на котором толковали: допустить
ли грекорусского первосвященника в сенат или отказать ему?
Этот вопрос завязали римские епископы. «Сидеть и рассуждать с духовенством
схизматическим – большое оскорбление римско-католической вере,– говорили они,
–за это нас в Риме назовут защитниками раскола, и папа произнесет клятву на целое
королевство».
Светские сенаторы, часто недовольные притязаниями духовных особ, протестовали
против такой выходки.
«Напрасно духовные отцы беспокоятся,—говорили они, – решения сената зависят
не от одних духовных, но и от светских. Русская земля присоединена к королевству на
условиях, с сохранением прав духовных и гражданских, а митрополит киевский есть
примас русской церкви. У нас заседают кальвины и лютеране; есть между нами
почтенные особы греческой веры, и они не делают зла, напротив, подают благие для
отечества советы».
«Это иное дело,—возражали духовные,—мы терпим диссидентов и схизматиков,
потому что они, как люди светские, подают голоса в делах отечества, не касаясь
религиозных вопросов; иное дело духовные—хотя бы диссиденты, хотя бы схизматики.
Они не должны находиться вместе с нами. Владислав Ягелло допустил на совещание
гуссита, прибывшего из Чехии; тогда кардинал Олесницкий вышел из сената и
наложил на королевство интерднкцию. После такого примера можем ли мы дозволить
входить в общение с нами главе отступников, неприятелю св. отца?»
«Этого требует трактат,—говорили светские,—он заключен королем и
коммиссарами. Неужели покажем пример крайнего вероломства и на первых порах
нарушим Зборовский договор, и притом в столь важном пункте – относительно
религии? Этим мы подадим Хмельницкому повод к новой вражде, чего, быть может, он
только и ждет. Русский народ привязан к своей вере и уважает свое духовенство.
Митрополит человек почтенный и умный; он не станет действовать против отечества,
напротив, получа право, ему принадлежащее, он станет для нас заложником
спокойствия, будет удерживать русский народ в повиновении Речи-Поеполитой. Если-ж
бы он показал какое-нибудь недоброжелательство к отечеству, в таком случае мы
можем отказать ему».
«Надобно нам,'—говорили другие,—по крайней мере для вида, обласкать русского
катана, а в другой раз он сам не захочет добиваться этой чести».
«Зборовский трактат,—возражали духовные,– заключен во время опасности, по
необходимости; поэтому он не должен нарушать старинных прав римско-католического
духовенства. Король разве имеет право делать постановления, которые оскорбляют
святую католическую веру? Никогда, никогда схизматик не дождется, чтоб сидеть ему с
нами. Иначе мы оставим сенатъ».
Кисель вышел из сената и поспешил к митрополиту. Он рассказал ему обо всем.
«Современем,—прибавил он,—они успокоятся и принуждены будут исполнять
должное; а теперь я вижу в них большое ожесточение. Усту-
Н. КОСТОМАРОВ, КНИГИ IV.
22
338
пил на этот раз, иначе они в самом деле оскорбят главу православия в самом сенате,
и тогда произойдет горшая вражда».
Митрополит был столь же миролюбив, как и Кисель, но более кроток и
прямодушен; он не пожертвовал общим спокойствием интересам своего звания. Без
ропота он уехал из Варшавы, и никто не заметил в нем неудовольствия. Только втайне
вздыхал архипастырь, предвидя новые беды х). Однако, не уничтожая унии, в
последний день сейма, 12-го января, король издал апробацию, утверждавшую права
греческой религии. По силе этой апробации должны были быть возвращены ведомству
киевского митрополита остававшиеся вакантными епархии: луцкая, холмская и
витебская, соединенная со мстиславскою; в перемышльской же отдавались
православному епископу только несколько, монастырей, но по смерти бывшего тогда
унитского владыки он должен был вступить в управление всею епархиею.
Митрополиту в знак почести предоставлялось право ношения креста во всех своих
диэцезиях. Возвращались православным все церкви, которые постановлено было
возвратить им еще при Владиславе IV в разных местах Королевства Польского и
Великого Княжества Литовского, с тем, что отдача этих церквей в православное
ведомство совершится чрез посредство коммиссаров, избранных самим православным
духовенством; дозволялось равным образом возобновить сгоревшие храмы.
Сохранялись духовные суды по древним обычаям; дозволялось существование
православных братств и в том числе двух, недавно перед тем уничтоженных в
Смоленске и Бельзе; оставлялись в ведомстве киевского митрополита и православных
епископов школы и типографии в Киеве и других городах; возлагалась на духовенство
цензура книг; церковные и монастырские имущества оставлялись на прежних правах и
привилегиях, а духовенство подчинялось единственно . своему духовному начальству и
освобождалось от всяких повинностей, подвод, стаций и работ. Вместе с тем
утверждалось сохранение всех релнгиозвых и гражданских прав за русскими
мещанами городов Львова, Киева, Чернигова, Винницы, Мозыря, Речицы, Стародуба,
Пинска и др. 2).
Между тем в королевском дворце происходили тайные совещания. Предполагали
успокоивать Козаков и ласкать до тех пор, когда Польша будет в состоянии свергнуть с
себя обязательство Зборовского договора. В панских долах толковали о том же.
Государственные люди и дипломаты изыскивали средства повредить Хмельницкому и
ослабить в зародыше возраставшую Украину.
В Чигирине было известно, чтб говорили и чтб замышляется в Варшаве. Был при
дворе Яна Казимира русский шляхтич, Верещака, умный и ловкий, рекомендованный
на службу Киселем. Он подбился в милость к королю, умел потакать панам; никто не
замечал в нем ни малейшей приверженности к козачеству. Этот человек с искусством
проникал в тайны вар' шавского кабинета, в политические замыслы, направления умов
и передавал все это православным монахам посредством писем, писанных цифрами на
1)
Aimal. Polon. Сииш., I, 168—169. – Hist. Jan. Kaz., I, 100. – Раш. do pan.
Zygm. III, Wlad. IV i Jan. Kaz., II, 113—114.– Истор. о през. бр,– Летоп. повеств. о
Мал. Госс., 135.
2)
Рукоп. И. II. Библ. Akty Hist. od 1648 do 1680.
339
русском языке; монахи сообщали их Хмельницкому. Гетман по положению дел в
Варшаве располагал свои поступки *).
Но до иоры до времени он не показывал полякам ни малейшего вида
недоверчивости. Всю зиму Хмельницкий был занят водворением порядка в
освобожденной стране. Гражданская часть оставлена была в прежнем виде; народ
привык к польским законам: по своему основанию они вовсе не были тягостны; притом
значительная часть законодательства и управления заимствована была из Руси в разные
исторические времена чрез сближение единоплеменных народов; поэтому тогдашний
гражданский порядок в Украине, будучи польским, был в то же время и русским,
особенно когда чиновники и исполнители законов были русские и дела отправлялись
на русском языке.
В некоторых городах было мгйское, или так называемое магдебургское
муниципальное право. В это время на правой стороне Днепра в Украине пользовались
им из городов, вошедших в границы гетманщины: Врацлав, Винница, Черкасы,
Васильков, Овруч, Киев; на левой: Переяславль, Остер, Нежин, Чернигов, Погар,
Мглин, Козелец, Новгород-Северский и Стародуб. Каждый из этих городов
представлял как бы отдельную общину. Граждане гордились своею вольностью. Они
носили общее название мещан, или тискаю поспольства, и разделялись на торговых и
ремесленников. Всякое занятие имело свою корпорацию, цехи—под управлением
выбранных чиновников, называемых цехмистрами. Таким образом были, например,
цехи: кушнирскийи ткацкий-, малярский, ковальский, ризницкий, бондарский и тому
подобные; каждый цех имел свой герб, свою печать. Ежегодно, обыкновенно пред
новым годом, под звук городового колокола, сходились все мещане на вече, поверяли
дела свои, избирали начальников. Администрация сосредоточивалась в ратуше, которая
в Киеве и Нежине называлась магистратом: в ратуше, или магистрате, заседали
выбранные райцы под председательством бурмистраНе везде было одинаково число
райцев и бурмистров; смотря по величине и многолюдству города, в некоторых местах
(особенно Великого Княжества Литовского) число райцев доходило до двадцати
четырех, в иных только до четырех; в городах, вступивших в черту исозаччины, их
было немного, и впоследствии обыкновенно четыре. Бурмистров выбирали по два или
по четыре, и каждый из них председательствовал в ратуше поочереди в течение
нескольких недель. Под ведением ратуши были дозорцыполицейские чиновники.
Судебная часть была отделена от администрации. В городовом суде сидели лавники,
присяжные, выбранные народом из граждан, отличавшихся умом, опытностью,
честностью. Число их также не везде было одинаково, смотря по потребностям. В
собрании лавников председательствовал войт, называемый адвокатом; по большей
части он выбирался ежегодно, а иногда и назначался от правительства. Это был
важнейший сановник города п, кроме суда, имел влияние' и на администрацию. Как в
суде лавников, так и в совете райц были мийские писаря, также выбранные. Все
чиновники содержались из разных доходов, предоставленных им, и имели вблизи
города земли, приписанные к их уряду. Устройство мийское было везде съ
Ч Annal. Polon. Clim., I, 209.—ffist. Jan. Kaz., I, 164.—Pam. do pan. Zygm. III, Wlad.
IV i Jan. Kaz., II, 148.
22*
340
разными отличиями; но вообще города, пользовавшиеся магдебургским правом,,
должны были судиться и управляться без всякого вмешательства панов, старост и всех
чиновников Речи-Поспо литой, были освобождены от воинского постоя, от службы в
армии, от многих поборов и податей, от дачи подвод, имели право вольной
беспошлинной торговли, свое казначейство, которым добровольно распоряжались, и
свою городовую гвардию, обыкновенно составленную из двух отрядов: конного и
пешего. Всякий, кто жил в городе или занимался в нем, какого бы он звания ни был,
подчинялся суду и управе города. Город имел свой герб, свою печать, свое знамя. Хотя
своевольные паны часто нарушали эти права, но горожане ими очень дорожили, как
единственною опорою против произвола шляхетства, и Хмельницкий оказывал
уважение к этому устройству; мещане принимали его сторону именно потому, что с
ограничением произвола панов надеялись большей неприкосновенности своих
городовых прав. Король, чтоб привязать к себе городской класс, подтвердил прежния
привилегии Сигизмунда и Владислава, и распространил их свободу еще более 1). В
других местах, неимевших магдебургского права, было, однако, в устройстве много
сходного с ним. Везде, даже в селах, были войты и лавники, выбираемые народом,
только объем их действий был тесен; мещане были наравне с крестьянами отягощены
повинностями и находились в безусловном повиновении старост и панов. Теперь, с
ограничением власти дворянства,, несвободные города могли возвыситься и стать на
ряду с муниципальными сами собою. Впоследствии развитию мещанского класса
препятствовало козачество. В 1650 году этого еще не чувствовали. Оставя городовой
порядок, как он был, гетман с генеральною старшиною обратил внимание на
устройство военного класса: при составлении реестра Козаков определяемы были
границы полков, сотен, отводились земли козакам; гетман назначал начальников,
вместо убитых или смененных, по согласию с выбором.
Остальное народонаселение, под именем посполитых, долженствовало снова
обратиться в крестьянство. Уже начинались вспышки недовольных, которых не
помещали в реестре; уже Хмельницкий не одного из них казнил смертью 2). Ясно
можно было предвидеть, что Украина снова поднимется, как только появятся паны,
которые не смели еще показаться в Украине до утверждения сеймом Зборовского
договора и приведения в порядок козацкого реестра. Хмельницкий в договоре позволил
дворянам вступить снова в прежния права, но хотел воспользоваться коротким
временем, пока они не пришли, чтоб обессилить панское сословие еще более и
возвысить козацкое. Гетман приказал набирать в реестр преимущественно из имений
Вишневецкого и Конецпольского и вообще богатейших панов; этого казалось мало: он
отбирал у них целые имения, города, села, хутора с полями, лесами, всеми угодьями
под тем предлогом, что паны захватывали коронные поместья, которые должны
служить жительством козакам – королевскому войску. Гетман отдавал их генеральным
старшинам, полковникам и полковым чиновникам. С этих пор образовался на Украине
класс ранговых помещичьих имений, которыми владели козацкие чины до тех пор,
пока носили чин CBOJ. Этот порядокъ
г) Летоп. повеет, о Малор. Росс., 137. 2) Памяти, киевск. коми., II, 315.
341
впоследствии послужил основанием введению помещичьего права в Малороссии 1).