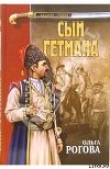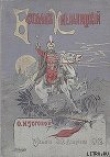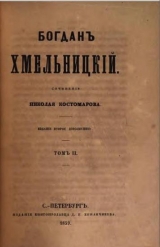
Текст книги "Богдан Хмельницкий"
Автор книги: Николай Костомаров
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 67 страниц)
быть свобод-
*) Pam. Albr. Kadz,, т. II, стр. 299.
Н. КОСТОМАРОВ, КНИГА IV.
8
114
ным от преследования; но вся Речь-Посполитая встала бы на дыбы, еслиб король
позволил себе десятую часть того, чтб дозволяли себе паны.
Ограждая свою личную свободу против короля, шляхта ограждала ее и против
самой себя, именно, против сейма, составленного из её представителей, ею же
свободно выбранных. Если шляхтичу была нестерпима понудительная власть,
исходившая от одного лица, то она была ему нестерпима и тогда, когда исходила от
всего общества. Доверяя своему брату шляхтичу законодательство и верховное
строение, польский шляхтич остерегался его и не давал ему не только зазнаваться, но
даже свободно думать о том, с чем его посылали. Сеймовые послы, отправляясь с
сеймика на сейм, получали инструкции, связывавшие их, как говорится, по рукам и по
ногам. Послы польской сеймовой Избы были не то, что члены законодательного
собрания в каком-нибудь конституционном государстве; это были в полной мере послы
по пословице: посолъ—что мешок, чтб в него вложишь—то и несет. Посол должен был
сообразоваться с тем, чтб ему приказывали, а главное, не допускать того, чего не
приказывали: в те времена в инструкциях отрицательного было больше, нет
положительного. В случае, когда он видел, что сейм клонится к тому, чего в данной ему
инструкции не велено допускать, он срывал сейм своим всемогущим: не позволяю
(liberum veto). Впрочем, сейм не всегда прерывался таким образом; иногда он не
доходил, как выражались тогда, сам собою рассыпался и развязывался так, что трудно
было сказать, кто сорвал его. Иногда случайная ссора или дурное расположежение духа
послов не давали ему окончиться. В 1639 году литовский гиодканцлер поссорился с
послом Барановским и сказал сгоряча, что Барановского следует отколотить киями.
Барановский начал кричать, что шляхетской вольности наносится оскорбление. Вся
Изба заволновалась; белзекий воевода помирил ссорившихся так, что они даже
обнялись, но после того в Избе снова поднялся об этом говор, и сам Барановский забыл
недавнее примирение и начал кричать против подканцлера. Сенаторы пытались было
утишить смуту, но все было напрасно; сейм прекратил свою деятельность и разошелся.
В 1645 году сейм был недоволен по поводу разных вопросов; послы никак не могли
согласиться между собою и сейм ничем не кончился. Когда пришел ему срок, сенаторы
предлагали продолжить его—послы молчали; сколько сенаторы ни допрашивались,
послы все молчали, и этим молчанием прекратилась деятельность сейма. В 1643 году
сейм был на краю погибели, но сенаторы успели спасти его оригинальным образом.
Послы собрались в заседание в день вербного воскресенья. Один из них заметил, что
надобно почтить праздник и отложить совещание, а один епископ на это сказал, что
толковать об этом не его дело, а духовных. Посол оскорбился. За него оскорбились
другие и стали уходить из Избы. Сенаторы успели удержать из них до тридцати
слишком послов и, проработавши с ними до четырех часов пополуночи, благополучно
завершили сеймовую работу. Прочие в это время были навеселе, или совсем пьяны, и
пошли пировать или спать, а на другой день сожалели, что сейм окончили без них *).
Но и правильное окончание сейма не давало твердости его постановлениям, и не
должно считать исполнявшимся все то, что заносилось в сеймовые консти-
1) Pam. Albr Radz., I, 428; II, 101.
115
тудиии Шляхта присвоила себе контроль над действиями и постановлениями сейма.
Так как послы обязаны были сообразоваться с инструкциями, полученными на
сеймиках, то естественно было послам отдавать на сеймиках отчет в своих действиях;
отсюда возникли, именно в это время, сеймики реляцийные, отправлявшиеся по
возвращении послов с сейма. Здесь шляхта поверяла образ поведения своих послов на
сейме и рассуждала: сообразно ли с прежними инструкциями сеймика то, что
постановлено на сейме, а также вообще подвергала толкованию сеймовые
постановления; нередко, таким образом, реляцийные сеймики отвергали
постановленное сеймом, и отсюда выходило то, что какой-нибудь повет считал себя в
праве не повиноваться тому, чтб было узаконено целою нациею. Реляцийные сеймики
были для Польши очень зловредным учреждением – одною из причин слабости и
бездействия законов. Сеймики стали действительнее и могущественнее сеймов. Но
всякие сеймики были всегда в руках магнатов. Влиятельный пан легко настраивал
шляхту на свой лад: одних подкупом, других обещанием разных выгод, и всех вообще
обаятельным влиянием своего богатства, знатности рода и угощениями. Время
сеймиков было самое веселое. Паны отправляли туда на сотне возов припасы, вино,
водку. Паны-братья, так титуловалась тогда шляхта, на панский счет ели и пили,
танцовали под панскую музыку и там, по желанию панскому, беспрекословно
выбирали в местные должности (которые в Польше были пожизненны, кроме случаев
повышения) и в сеймовые послы тех, которых хотел пан, признавали такия
инструкции, какие составлял пан и, вообще, говорили, делали, постановляли то, что
приказывал пан. «Шляхта,– говорит Скарга,—в простоте сердца сама не знает, что
вокруг неё делается, и криком на все соизволяет. Те, которые сами себя выбирают или
бывают выбраны по воле панов, вступают в свои выборные должности не с сердечным
желанием добра Речи-Посполитой, а с дурными желаниями: одни руководятся
ненавистью к своим противникам, другие ищут своих выгод и по,вышений;—те
угождают панам, которым служат; а те, подкупленные подарками, идут в послы с тою
целью, чтобы наделать затруднений в сеймовых работах, будто бы по приказанию всей
братии; в самом же деле корольки наши делают и творят от имени братии то, о чем
братия никогда не думала; братия бессмысленным криком на все соглашается, сама не
замечая собственного своего вреда» 1).
Пану, заправлявшему сеймиком, помогало то, что у него во дворе обыкновенно
служила небогатая шляхта, и эта шляхта, имея право голоса на сеймике, сообразно
своему званию, ехала с паном, своим патроном и, при случае, готова была обнажить
сабли. Бывало и так, что другой пан, противник первого, подбирал себе на том же
сеймике партию, и тут уже неизбежны были драки и смертоубийства: сила брала верх.
Подобную сцену описывает, между прочим, в своих записках Альбрехт Радзивилл 2);
она происходила в 1645 году на сеймике в Острове. Спор возник между двумя
сторонами: пана Ролсанского и пана Яблоновского, по поводу выбора их в послы. Едва
Яблоновский вошел в костел, как его приветствовали выстрелом, потом выстрелы
повторялись один за другим; трех человек убили у дверей костела,
1) Siarcz. Obr. wieku panow. Zygm. III, t. II, 26B.
-) Раш. Albr. Radziw., II, 179.
8*
116
пятьдесят ранили. Важным доказательством политического развращения Польши в
те времена служит то обстоятельство, что паны не скрывались со своими интригами, не
делали тайны из своих подкупов. Сеймовые послы получали от панов жалованье и
подачки, обязываясь говорить и действовать в их пользу: этого не ставили им в
преступление или бесчестие. Современник Владислава IV, Лещинский, переходя с
должности подскарбия на должность коронного подканцлера, нуждаясь в квитанции,
увольняющей его от прежней должности, подкупил подарками и деньгами всю
польскую Избу. Когда представлено было дело о его квитанции, все закричали: «згода!»
(согласен), вдруг один закричал: «нет згоды». Лещинский, держа в руках реестр, в
котором было отмечено, кому сколько дано, закричал: «а какому же такому-сякому
сыну я не дал?» Но тот, который произнес: «нет згоды», утаился, потому что и он взял с
Лещинского и был записан в реестре *).
Все такие беспорядки существовали в Польше и прежде, усиливаясь по мере
общественной порчи. Но прежде у поляков был дух удальства, предприимчивости,
воинственности, страсть к деятельности, порыв к подвигам, увлечение славою и,
следовательно, вместе с тем, способность к движению вперед, к переменам. Если в
народе есть достаточно энергии к военным подвигам, то эта энергия, при
благоприятном повороте, может обратиться и к внутреннему устроению. В XYII
столетии шляхетская нация как будто устала, духовно утомилась и обращалась к
спокойствию и домашней неге. Шляхтич не хотел уже подражать знаменитым предкам,
мало думал о славе польского имени; бранные подвиги не прельщали его,, но и к
подвигам гражданским он не чувствовал влечения. Мало было охотников заниматься
общественными вопросами; на сейме всегда почти заседало послов гораздо менее,
нелсели сколько нужно было; в инструкциях, даваемых послам на сеймиках, не было
требований об улучшениях; шляхта стала бояться всяких перемен и хотела только
сохранять то, что у неё было, главное—ея безмятежный покой. Польский дворянин
хотел жить в своем имении независимым корольком, управлять бесконтрольно своими
хлопами, получать с своего имения как можно более доходов, при посредстве иудея,
которого симетический мозг оказывался способнее шляхетского славянского на всякия
корыстные измышления, а главное, поляку-шляхтичу хотелось проводить жизнь как
можно веселее и беззаботнее. «Все мое сокровище,—говорил он словами поэтов
тогдашнего века,—благодушие, танцы, волокитство; съедутся ко мне гости – смех,
шутки, принесут нам из погреба венгерского, сядем мы у камина, заиграют нам в дуды;
на столе мягкий хлеб, домашняя дичина, свежая рыбка—вот наше утешение, вот венец
наш и плевать мы готовы на королей». Пиры, веселость, роскошь, щедрость – то были
черты всего шляхетского общества, от знатнейшего пана до небогатого шляхтича;
каждый пировал по своим средствам. Богатые паны, один перед другим, щеголяли
пирами и щедростью; вошло в обычай не только поить и кормить, но еще и дарить
гостей. Когда король Владислав с знатными панами приехал в 1644 году к Сапеге,
хозяин обдарил гостей на многие тысячи червонцев; пир шел девять, дней; панский
погреб был открыт для каждого, все могли не только пить, но если бы хотели, даже
купаться въ
*) Szajnocha. Отта lata dz. naszych., 241.
117
вине, и всякому из гостей дозволено было брать все, что ни понравится. Дом
краковского воеводы Любомирского был день и ночь открыт для гостей; пир шел аа
пиром, вся шляхта краковского воеводства испытывала там радушное угощение и
возвращалась оттуда с дарами. В том состояла честь и слава польского пана, когда он
умел устраивать пиры, не жалел денег на угощения и подарки, когда у него в доме было
всем весело; зта слава заменила в Польше славу бранных подвигов, которыми
приобретали поляки уважение в своем отечестве в былые времена. «Польские паны,–
• замечает современник итальянец 1),—получают годового дохода тысяч но 200 скуди,
но все это проматывается на роскошь дворов их, надворное войско, наряды и
различные излишества. Поляки предпочитают выгоды спокойной жизни тем выгодам,
которые могли принести им войны».
Это отвращение к военным подвигам, это предпочтение спокойных занятий,
мирных трудов бранным тревогам, это стремление к общежитель-' иости, аирам и
веселью, наконец, эта любовь к свободе, может быть, представили бы из Польши
утешительное явление в истории, если бы в этой Польше не было порабощения
простого народа, которое приводило в ужас человеколюбивые сердца даже в таком
веке, когда вообще участь простонародных тружеников нигде не была завидною.
К несчастью, все это стремление шляхетства к спокойной и веселой ЖИЗНИ, а
вместе с тем его свободолюбие тесно были соединены с рабством народа и даже
истекали из последнего условия. Потому-то шляхтич с такою горячкою и предавался
пирам и удовольствиям, что у него были рабы, живые машины, посредством которых
ему легко было доставать средства к жизни, и не нужно было над приобретением этих
средств ломать головы, особенно когда за. шляхтича, как мы заметили, в этом случае
думал иудей. Потому-то шляхтич так дрожал за свои вольности, так боялся дать королю
и закону власть и силу, что у него было сокровище, которое потерять ему было
слишком тяжело; это сокровище'—его деспотический произвол над рабами.
Властвоватьнад громадою невольников, безгласных, бесправных, осужденных наравне
с рабочим скотом от рождения до смерти служить прихотям своих владык, конечно,
искупительно и приятно для эгоистических наклонностей человеческой природы, а
иезуитское воспитание, которое получала вся шляхетская Польша, не допускало в
шляхетском обществе развиться тем высшим стремлениям к правде, которые
производят борьбу с дурными привычками, предразсудками, отупением ума и чувства и
своекорыстным лукавством. Возгласы передовых людей, в роде Старовольского,
становились все реже и реже, потому что им суждено быть гласом вопиющего в
пустыне.
Итак, стремление шляхетства к тихой, спокойной, мирной и веселой жизни не было
тем разумным исканием всеобщего общественного благополучия, нравственного
преуспеяния и материального благосостояния, которое должно составлять идеал
земных целей человечества; это была опьяняющая, одуряющая нега лени и
необузданного безобразничества ожиревших деспотов и их развращенных угодников,
не имевших потребности ни в труде, ни
*) Relaz. Tiepolo. Zbi5r pami^tn. о dawnej Polsce, Y, 33.
118
в ограничении эгоистических побуждений. От этого нравы тогдашнего веселого
времени представляют черты, показывающие, что в то время, когда одним было очень
весело, другим приходилось очень грустно—да и не только рабам, лишенным защиты
закона и власти, но и тем, которые тогда гордились свободою и вольностями, а по
своему положению, будучи слабыми, должны были плясать по дудке сильных.
Современные повествователи оставили нам образчики того, чтб иногда происходило в
глубине панских дворов. Вот, например, в 1645 году у одного знатного пана в доме
девица, принадлежавшая к прислуге жены его, прельстила сердца двух молодых людей,
служивших у пана: один был из шляхты, и притом, как говорилось, из «доброй»
фамилии, другой—нешляхтич, но владел бойко пером. Девица предпочла нешляхтича
и, в ожидании брака, принимала его у себя ночью; шляхтич, которому было досадно,
забрался к ней и просил удостоить его того внимания, которое она оказывала его
сопернику, и когда она не согласилась, то прибегнул к насилию; девица, защищаясь,
схватила его за чуприну (за вихор), а он девицу за косу и начал с досады колотить ее
кулаками. На крик девицы сбежались люди и розняли драку. Пан судил это дело
собственным судом и всех троих осудил на смерть. Шляхтич, как сам вольный
господин, требовал апелляции к городскому суду, но его не слушали; а нешляхтич, хотя
совсем невинный, даже и не просил о суде, потому что для него не было никакого суда,
кроме панского. Бедной девице не оказали даже чести, подобающей её шляхетскому
достоинству, не постлали ковра, когда подвели ее к плахе, хотя она этого требовала.
Казнь совершена была мучительно, потому что неопытный палач не умел сразу
отрубить голов. После того носился слух, будто три мертвеца являлись на кладбище со
свечами в руках, а один из них, именно шляхтич, приходил ночью к самому пану и
обмазал его своею кровью; нешляхтич, и будучи мертвецом, не смел этого сделать.
Возмутительные черты того времени представляет поведение пана Тарновского,
принадлежавшего к знатнейшей фамилии Речи-Посполитой. Этот пан умертвил более
20 человек и отправил в царствие небесное своего родного дядю, потом вступил в
духовное звание и был посвящен в сан священника. Он держал в своем имении
приходского ксендза. 1-го апреля 1646 года, в день Пасхи, пригласил он этого ксендза
разговляться и начал нести такой вздор, что ксендз сделал ему замечание и, рассердив
его этим, ушел от него. Тарновский послал ему приказание, чтобы он дожидался его к
вечерне, вероятно, намереваясь служить вместе с ним сам. Ксендз дожидался его в
костеле долго, но не дождался, и отправил вечерню без него. Тарновский после вечерни
пришел в костел и приказал бить ксендза палками за то, что он не подождал его. Ксендз
вырвался, пустился бежать, но Тарновский догнал его, проколол мечом и со злостью
вертел меч в его теле, пока священник не испустил дыхания. Тогда пан Тарновский, так
как сам носил сан священника, облачился в богослужебные одежды и совершил над
убитым погребальный обряд х). Летопись современника Ерлича, под 1647 годом,
передает такия известия2): некто Александр Замойский зазвал на приятельский
1)
Pam. Albr. Radz., II, 169—172.
2)
Lat. Jerl., I, 60.
119
разговор пана Иеремия Тышу, человека почтенного и богобоязненного, и убил его
11-го июля. Наследник Тыпш, сын его Адам, 20-го августа того же года, набравши
разной пьяной сволочи, напал на дом Ерлича, ограбил его и выгнал хозяйку с детьми,
причем маленький ребенок от страха заболел и умер. Подобных событий совершалось
очень много, не будучи записанными никакими мемуаристами, и это делает понятными
слова Старовольского, что в свободной Речи-Носполитой в один год погибнет
болееневинных душ, чем сколько погубит их любой азиатский деспот в целую свою
жизнь.
Конечно, во всякой стране совершаются преступления и злодеяния, но нигде они
так часто не оставались безнаказанными, как в Польше, где убийца и разбойник мог
всегда быть цел и невредим, если только у него были сильные покровители. В какой
степени пировавшая и веселившаяся Польша была безопасна для иноземцев,
приезжавших туда с торговою целью, может служить примером поступок в 1640 году
брацлавекого воеводы, очень значительного лица в Речи-Посполитой, который
остановил на дороге греческих купцов, забрал себе их деньги, а их самих засадил в
тюрьму.
Монархическое правление, при всех случайных проявлениях рабства, бесправия,
произвола и невежества, имеет то важное достоинство, что если верховная власть
попадется в руки благомыслящих лиц, то появляется возможность полезных изменений
и преобразований. Дурной республике нет никакого спасения. Республиканское
правление, бесспорно, есть наилучший, желаннейший строй человеческого общества,
но оно совместно только с тем, что есть наилучшего в человечестве – с равноправием,
общественною энергиею, честностью и стремлением к просвещению. Если этого нет
– республиканское правление ведет государство к погибели, и рано или поздно это
государство или перестанет быть республикою, или достанется другим. Ему нет
другого исхода, потому что нет никакой силы, которая могла бы предохранить дурную
республику от разложения. Понятно, что там, где все решается большинством
участвующих в правлении, при господстве в этом большинстве нелепых понятий, лени,
застоя и развращения, голос тех, которые взывали бы об исправлении
господствовавшего порядка, будет голосом незначительного меньшинства:
большинство не станет его слушать.
Поляки теряли то, что само по себе хотя не было добром, но могло вести к добру,
теряли воинственность, а с нею и заботливость • о самосохранении. Пред каждым
сеймом поляки хлопотали о том, чтобы их сейм не соглашался на увеличение войска,
не хотели, чтобы им пришлось через то платить что-нибудь и, таким образом, умалять
средства для своей роскошной жизни, а более всего боялись, чтобы войско не
сделалось орудием усиления королевской власти и стеснения шляхетских прав. Шляхта
предпочитала ежегодный платеж дани крымскому хану за то, чтобы тот не позволял
татарам грабить Польши,—отважной решимости сбросить это иго. Между тем, в
Польше войска были и не умалялись, но то были войска панские, так называемые
надворные команды; у некоторых, напр., как у Вишневецких, было такого войска
несколько десятков тысяч; было оно неспособно защищать край в случае опасности, но
приносило вред для страны; с этим войском , паны делали друг на друга наезды и вели
междоусобные драки; оно давало средства для поддержания беспорядков в Речи-
Иосполитой. Отсюда выходило,
120
что Речь-Посполитая, еще недавно имевшая, как государство, достаточно
воинственной силы, чтобы одерживать верх над соседями и расширять свои пределы,
при Владиславе IV стала уже державою слабою и сохранялась более обстоятельствами
• и слабостью соседей, нежели собственными достоинствами?; Турция до поры до
времени могла ей быть не страшна, когда находилась под властью женолюбивого
Ибрагима. Московское Государство должно было поправляться от ран, нанесенных ему
смутною эпохою. Швеция при Густаве-Адольфе отвлекалась тридцатилетнею войною,
а преемница его королева Христина не любила воинственных затей. Козаки были
задавлены, а с ними вместе и русские хлопы, так часто беспокоившие панов своими
восстаниями, не смели проявлять своей злобы. Но с переменою лиц и обстоятельств у
соседей, нападения на Польшу внешних врагов, возбуждения украипских волнений
грозили Польше бедами, при том обленении, в которое погрузилась шляхетская нация.
Если Речь-Посполитая не была еще на краю пропасти, то шла уже прямою и покатою
дорогою в эту пропасть. Предохранить ее от падения и повернуть на другой путь,
возвратить к новой жизни нельзя было иначе, как подорвав в ней республиканский
порядок и утвердив торжество монархического принципа. Это возможно было
совершить только при образовании значительного войска, которое было бы .под
верховным начальством одного короля. Составить и образовать это войско можно было
только затянувши Польшу в важную войну.
Такая мысль и заняла короля Владислава.
Государь этот был более поляк, чем всякий другой из польских избранных королей.
Он говорил и любил говорить по-польски, ходил в польской одежде, усвоил польские
приемы жизни и вообще любил Польшу, как можно любить отечество. В молодости он
путешествовал по Европе, многое замечал, многому учился, был человек, по своему
времени, образованный, и не разделял того католического фанатизма, который обуял
тогдашнее польское общество. Владислав был сторонник веротерпимости и свободы
убеждений: это показала защита, оказанная им при вступлении на престол
православию; так же гуманно относился он к диссидентам и, желая примирить их с
католиками, устроил в Торуни совещание между теми и другими, с целью уладить
возникшие недоразумения. Само собою разумеется, что в анархической Польше такия
меры не могли быть действительны. Владислав был славолюбив и потому ему по-
сердцу была война; жажда к деятельности одолевала его; бездействие томило его, а он
был осужден на бездействие; его самолюбие должно было постоянно терпеть унижение
от магнатов. Уже он нажил себе каменную болезнь и подагру, и чаето проводил целые
дни в постели, а между тем душа его рвалась к подвигам и телесные боли были
незначительны в сравнении с нравственными, которые вели его к гробу. Казалось, если
бы ему только развязали руки, он бы еще ожил и пожил.
Война с Турциею стала его любимой идеею; за нею укрывалось другое желание.
Правда, нет письменных признаний с его стороны, которые бы указывали, что
Владислав думал посредством этой войны усилить королевскую власть, но таково было
убеждение всей польской нации; все шляхетство было уверено, что умножение войска
и военное время подадут королю превосходный случай к водворению монархического
принципа; невозможно, чтобы один король не видел того, что видела вся Польша;
невозможно, чтобы ему
121
не приходило на сердце такого желания, когда он так горячо брался за те меры,
которые прямо приводили к осуществлению этого желания: и собственный его
самолюбивый характер, и примеры, которые он видел в Европе, должны были увлекать
его к этому. Таким образом, нет причины не доверять распространенному тогда во всей
Польше мнению, что главною целью войны у Владислава было усиление королевской
власти. К сожалению, степень твердости характера этого государя не соответствовала
широте его замыслов.
Из приближенных к нему лиц отличался перед всеми блеском красноречия и
репутациею политического человека канцлер Оссолинский. Вся Польша указывала на
него, как на соучастника планов Владислава. Еще в 1039 году он принял титул князя
римской империи и хотел ввести в Польше орден: поляки не допустили до этого; они
тут увидели дурной замысел нарушить уровень республиканской свободы ^ и положить
начало такому дворянству, которое было бы одолжено почестями и отличиями не
древности рода, не свободному признанию свободною нациею, а милостям государя.
Но Оссолинский не был надежным человеком для великих замыслов: роскошный
аристократ, изнеженный, суетный, малодушный, он не в состоянии был бороться
против неудач и, заботясь более всего о себе, в виду опасности для себя, всегда готов
был перейти на противную сторону.
Если верить польскому эмигранту Радзеевскому, рассказывавшему уже
впоследствии во Франции о тайных замыслах Владислава, то сперва была у него мысль
произвести фиктивное возмущение Козаков против польской власти и побудить их
искать опоры от Турции, -чтобы потом отправить экспедицию для укрощения Козаков,
а таким образом иметь благовидный предлог столкнуться с Турциею и заставить
поляков волею-неволею воевать против турок. Этот план открывал король только
четырем панам, в числе которых был Радзеевский, и последний ездил сноситься об
этом с козацкими старшинами, знавши хорошо уже давно одного из них, с которым
когда-то путешествовал: хотя он по имени не назван, но по всему ясно видно, что
разумелся не иной кто, как Богдан Хмельницкий. Дело пошлобыло успешно, но король,
остерегавшийся. ^ОссолиПского, открылся ему и доверился. Тогда замысел
производить фиктивное восстание изменился. Стали действовать прямее и фтйрытее
положили прямо отправить Козаков против турок и татар :). Как бы то ни было,
замысел войны с Турцией) стал обозначаться у Владислава в 1645 году с приездом в
Польшу венецианского посла Тьеполо; этот человек был давний знакомый и приятель
Владислава, еще со времени путешествия Владислава по Европе, потом приезжал в
Польшу послом и имел случай ознакомиться с этою страною. Тьеполо принадлежал к
одной из важнейших аристократических фамилий в Венеции, предок его был дожем.
Венеция потерпела тогда поражение от турок: у ней взята была Канея на острове
Кандии. Венецианский сенат хотел заварить европейскую войну с Турцией» и иослал
Тьеполо побуждать Польшу пристать к военному союзу и, главное, дозволить козакам
попрежнему беспокоить турок.
’) L’origme ѵёгиИаЪИе du soulevement des eosaques contre la Pologne, p. Linage, стр.
17—121.
122
Тьеполо представил королю, что теперь-то настало такое положение дел, когда все
христианские державы должны соединиться против турок; план его был таков:
Венеция будет воевать на Средиземном море, папа даст с своей стороны для этого
денег, помогут также итальянские князья, а Польша, в союзе с Московским
Государством, нападет на Турцию с севера и пустит запорожских Козаков на море: на
это особенно уповал венецианский посол, этого он особенно добивался. Слава козацкая
уже давно прошла в далекия страны и представляла подвиги Козаков даже в
преувеличенномь виде. Замечали, что с тех пор, как козаки перестали плавать по морю,
неверные стали отважнее. Если прежде козаки задавали им такого страха, когда ходили
па море в противность польскому правительству и, следовательно, не могли еще
развернуть всех сил своих, то подвиги их, казалось, будут еще блистательнее, когда они
пойдут свободно, да еще получат средства для своего предприятия. Тьеполо советовал
дать им 30 тысяч реалов на постройку чаек. Сверх того, Тьеполо предлагал завербовать
в Польшу немецких воинов: по причине долговременной внутренней войны (30-
летней) в Немецкой земле было много людей опытных в военном деле, закаленных в
бою, неспособных ни на что, кроме войны: их-то следовало двинуть на неверных. Это
предложение было как нельзя более по-сердцу Владиславу. Как видно, у короля и
Оссолинского был план начать войну с татар, и в этих видах еще в 1644 году они
прекратили платеж хану тех денег, которые поляки называли упоминками, а татары
просто данью. Сами татары подали к этому повод, сделавши на польские пределы
нападение, отбитое гетманом Конецпольским под Охматовым. Владислав обещал
Тьеполо переговорить об этом с коронным гетманом. Конецпольский, державший
Козаков в таких ежовых руках, ради недопущения их до морских набегов, теперь
пришел к такому заключению, что гораздо лучше будет дать простор козацкой удали и
обратить ее на неверных, чем стеснять ее из угождения неверным. К этому склоняло
его подозрение, что козаки, притесненные дворянством, уже сносятся с татарами и у
них возникает мысль с помощью мусульман возвратить себе свободу. Конецпольскому
казалось лучше заранее расссорить Козаков с неверными и позволить козакам их бить,
чем дожидаться, когда мусульмане придут вместе с козаками разорять Польшу. По
известию Освецима 1), коронный гетман в этом году написал рассуждение об
уничтожении крымской орды, которое, как он думал, можно было совершить Польше в
союзе с Московским Государством, выпустивши на татар козацкия силы. Чтобы не
раздражать шляхты, видевшей во всяком военном предприятии тайный умысел на свою
свободу, Конецпольский не напечатал этого рассуждения, но послал, для изведания
берегов Черного моря и Крымского полуострова, своего инженера Себастьяна Адерса,
под видом купца, едущего выкупать из татарской неволи своего брата.
При таком настроении понятно, что Конецпольский отозвался благосклонно на
объяснение короля. Владислав объявил Тьеполо, что войну начать можно, но следует
воевать прежде с татарами, а не с турками. То же доказывал Оссолинский. Тьеполо,
напротив, настаивал объявить войну прямо Турции и выслать Козаков не на
черноморское побережье, примыкающее к владениямъ
1) Szajnoclia. Dwa lata dziejow nasz., 333, 72.
123
крымского хана, а на берега Турецкой империи и, если можно, на самый
Константинополь. Панский нунций де-Торре, с своей стороны, убеждал также пустить
Козаков не на Крым, а на Турцию. В совещании 7-го сентября 1645 года канцлер
Оссолинский говорил так: «Король без соизволения сейма не может начать
наступательной войны, а сейм никогда на нее не согласится. Невозможно делать
приготовлений к войне с Турцией) так, чтобы об этом не узнали во всей Польше, а как
только узнают, тотчас поднимут шум, ропот и приостановят дело. С татарами же нам
вести войну можно; война эта будет иметь вид оборонительный, чтобы освободить
наши края от татарских набегов. Но татарская война повлечет за собою непременно
войну с Турциею. Турки должны будут помогать татарам, вышлют свои суда в Черное
море и, таким образом, мы вступим в войну с Турциею, не навлекая на себя укора в
нарушении мира; война с Турциею будет также иметь вид оборонительный и нация
наша должна будет поневоле согласиться вести ее. Король приложит все старание,