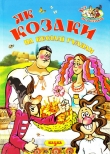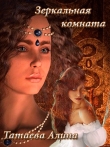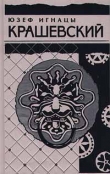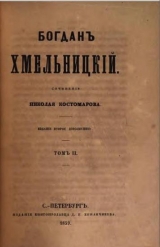
Текст книги "Богдан Хмельницкий"
Автор книги: Николай Костомаров
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 67 страниц)
конституции. Гуня дал знак, чтоб козаки были готовы на раду. Собралась толпа.
Очистился майдан. Полозкили бубны и бунчук и разостлали копну сена. Гуня посадил
поляков подле себя; подали хлеба, горилки, вареной рыбы. Гуня сперва выпил воды:
так следовало по козацкому обычаю. Потом пили горилку, и сам Гуня испил за здравие
польного гетмана и всего рыцарства. Когда убрали питье и еду, предводитель Козаков
встал и сказал толпе Козаков: «Паны молодцы! их милости принесли нам королевскую
волю!» Прочитали конституцию, толпа зашумела. Гуня, обратившись к коммиссарам,
просил повременить, пока усмирится волнение. «Будете плакать и жалеть,—сказали
коммиссары,—вы раздражаете такого доброжелательного пана».
Тогда польный гетман,—говорит дневник,—начал действовать по
104
примеру Перикла, опустошавшего лакедемонские жилища; он разослал отряды по
окрестностям и приказал истреблять русские селения, не щадя ни пола, ни возраста.
Узнавши об этом, Гуня написал польному гетману такое письмо;
«Видя вокруг нас невыразимые кровопролития, мы не можем разуметь прихода
вашей милости иначе, как только так, что ваша милость переправился чрез Днепр
против запорожского войска не для мирных сношений, а для того, чтоб всех истреблять
до конца, ибо, распустив отряды, которые • тешатся невинною христианскою кровью и
поступают с нами, как с неприятелями св. креста и злодеями, показываешь, что у вас
нет ни правды, ни страха Божия. Вы бы воевали уже с одним запорожским войском,
жертвующим жизнью, по воле Высочайшего Бога, за наши кровавые заслуги, но
оставили бы в покое несчастный народ, которого вопли и невинная кровь взывают о
мести к Богу и нас к тому же побуждают! За наши права и вольности, данные нам
издавна королями польскими, права, добытые саблею, а не чем-нибудь другим, и
теперь нарушаемые изменниками, мы готовы лучше умереть и один за другим
положить головы, чем довольствоваться таким договором, какой был под Еумейками.
Мы не желаем кровопролития; и чтоб нас никто не обвинял, мы не хотим биться с
вашею милостью; но кто будет на нас наступать, против того и мы будем обороняться.
Удостой, ваша милость, обойтись с нами так, чтоб это было согласно и с честью вашей
милости и без стеснения, как нас .самих, так и бедного невинного народа».
Польный гетман отвечал в тот же день:
«Давния ваши права вы потеряли чрез ваше своеволие и посягательство на
величество короля; но будете иметь такия права, какие вам даст РечьПосполитая».
Козаки опять написали:
«Хотим тех прав, какие имели прежде».
Гуня просил гетмана не доверять реестровым. «Воны хлиб-силь з нами иилы, и нас
зрадылы, то и вашу милость зрадять!» писал он.
С тех нор с высоких шанцев польские пушки палили в козацкий лагерь; пехота
беспрестанно возобновляла приступы; конница стояла на-готове. Поляки хотели
обессилить Козаков и истощить их пороховые запасы; козаки, с своей стороны, не
уступали неприятелям в деятельности, хотели утомить коронное войско; показывая
свою непреклонность, они надеялись, что польские жолнеры, по обычному своеволию,
соскучив неудачами и продолжительностью осады, начнут уходить из войска, а между
тем сами ожидали сильного подкрепления, которое должен был привести к ним по
Днепру Филоненко. Гуня ободрял их своею смелостью и распорядительностью: он не
прятался сзади, шел впереди, и однажды польный гетман во время вылазки приказал
направить на него выстрелы из трех пушек; но вместо козацкого гетмана был убит
козак, который нес перед ним бунчук. Б отплату, на другой день, Гуня, приметив
польного гетмана, выстрелил в него, но попал в коня. С каждым днем возрастало
воинственное ожесточение с обеих сторон. Поляки построили высокую батарею, с
которой молено было бы доставать до средины обоза; но, по совету Гуни, 22-го июля
ночью молодцы выскочили из своего обоза, прокрались к шанцам, вмешались в толпу
реестро-
105
вых Козаков, узнали военный сигнал, розданный в тот день по войску, и передали
его своему предводителю. Тогда толпа Козаков вышла из обоза и подошла к батарее.
Отряженные на батарею окликают их. Они произносят сигнал. Думая, что это
реестровые козаки, посланные за языком, поляки спрашивают: «есть язык?»—«И не
один!» отвечают козакп, и вслед затем они бросаются на батарею, умерщвляют
несколько десятков человек, овладевают батареею, принимаются ее портить и
заклепывать пушки. Но тревога быстро распространилась по лагерю и со всех сторон с
криками бежали воины к батарее; козаки должны были уходить.
Еще после того продолжались несколько времени однообразные схватки. Полякам,
как и козакам, с каждым днем становилось тяжелее. Жолнеры роптали на гетмана.
«Что-ж это?—кричали они:—мы будем верно здесь зимовать и основывать колонию на
Днепре?» Они стали убегать. Козаки также терпели голод. «Прийде тут не спиваты, а
виты, як собаци; хлиба нема, борошна. мало, тильки вода, та трохи шкапыны»
(лошадиного мяса), говорит польский дневник, изображая ропот Козаков их языком.
Они ждали к себе на помощь свежих войск с полковником Филоненком, но Филоненка
не было как не было, а другой отряд, шедший к ним под предводительством
киевлянина Саввы, был разбит и предводитель взят в плен. Русские еще раз решились
вступить в переговоры. В последний день июля Гуня написал письмо к польному
гетману, изъявлял желание примириться и снова просил не доверять реестровым
козакам, которых называл «недовирками». Гетман послал к ним офицеров для
переговоров. («Пусть,—говорили им русские,—коронное войско не вносит нам нового
порядка, который учрежден последней конституцией; пусть козаки останутся при
своих прежних правах, а мы не хотим принимать назначенного над нами коммиссара».
«Постановление сейма,—возражали им,—твердыня нрав ваших и свободы.
Коммиссары будут охранять вас от своевольства черни и произвола жолнеров. Вы
откроете себе двери ко всякой милости короля и Речи-Посполитой».
«Посланцы,—замечает дневник,—говорили пространно и красноречиво, но
увидели, что сказка глухому сказывалась».
После продолжительных прений, 2-го августа, Гуня написал польному гетману
новое письмо, в котором изъявлял желание отдаться на волю короля.
«Сжалься, вельможный милостивый пан,—писал он,—оставь нас в целости, пока
послы наши не возвратятся от его милости короля, нашего милостивого господина.
Тогда уже мы не только коммиссару, но хлопцу будем повиноваться и уважать его, если
узнаем, что такова воля его величества, которой не станем противиться. А теперь
просим покорно: не мучь нас, добродей!»
С беспредельным уважением к особе короля-венценосца русские вообще соединяли
ненависть к сеймовому правлению и хотели, чтоб воля короля была выше сейма. Такое
направление, разумеется, было противно польскому дворянству, которое тогда более,
чем прежде, старалось ограничить власть короля.
В тот же самый день козаки узнали, что давно ожидаемый Филоненко, наконец,
приближается, но, к несчастию их, и поляки тогда же узнали о том же. Польный гетман
тотчас отрядил па правый берег значительные под-
106
крепления под командой Лаща и краковского воеводы, а 4-го августа объявил
генеральный штурм.
Козаки отбивались дружно и удачно и удивляли врагов своими военными
хитростями. Около окопов вырыты были круглые ямы и не один поляк падал туда
стремглав; лежавшие на брюхе козаки палили в неприятеля по ногам или хватали его
живьем; другие, выскочив из обоза, смешивались с реестровыми, посылали выстрелы
по направлению к табору, потом, давши пройти вперед полякам, палили по ним в тыл.
Битва продолжалась день и ночь. Поляки были отбиты и увидели, что нет никакой
возможности взять козацкого табора приступами; только голодом можно было победить
осажденных.
На другой день козаки готовились встречать Филоненка. С радостью победителей,
они расставили везде по валам стражу, втащили еще на вал несколько пушек, в надежде
отражать нападение, когда враги возобновят его во время входа в обоз
вспомогательных сил, приводимых Филоненком. Но Филоненко должен был выдержать
предварительную схватку на правой стороне Днепра. Поляки, поставленные там,
приветствовали его,—говорит дневник,—фейерверком из пушек и мушкетов. Правда,
Филоненко искусно отклонился от битвы, бросился к Днепру, быстро овладел челнами
и веслами и поплыл прямо к обозу, но зато, впопыхах, потерял часть продовольствия и
пороха. Он приблизился к козацкому обозу уже ночыо. Тогда поляки грянули всеми
силами, стараясь не допустить его войти в обоз. Одни из них дрались с защитниками
входа в обоз, другие с Филоненком, который туда силился пробиться. Дело кончилось
при солнечном восходе. Поляки должны были отступить; Филоненко прошел в обоз, по
так много потерял продовольствия и пороха, что привезенного едва хватило козакам на
два дня. Вместо торжества и одобрения за храбрость, его встретил ропот. Польский
дневник говорит, будто козаки, в наказание за растраченное продовольствие, посадили
его на цепь.
Лишившись надежды на продовольствие, козаки опять вступили в переговоры с
поляками. Гуня уже не является здесь действующим лицом. И он и Филоненко как
будто исчезают. Так как оба впоследствии являются в Московской Земле, то, без
сомнения, в это время они убежали из табора. «"Victor dat leges! (победитель дает
законы)—закричал польный гетман, ударив рукою по сабле, когда встречал козацких
послов:—высылайте ко мне своих знатнейшихъ». По этому приглашению к нему
явился Роман Пешта, которого имя впоследствии является, как имя предателя Богдана
Хмельницкого и доносчика на своих товарищей. «Мы просим,—сказал он,—чтоб о
козаках состоялась новая конституция, а прежняя была отменена». Полковники
осажденных под Старицею Козаков, Роман Пешта, Иван Боярин и Василь Сакун,
присягнули, от имени всего своего войска, до решения королевского повиноваться
коронному гетману и не принимать в козачество посполитых. Сверх того, как
реестровым, бывшим при польском войске, так и находившимся в осаде, велено
взаимно присягнуть в том, что они не станут делать друг другу оскорблений.
По просьбе Козаков, в Киеве 9-го сентября назначена рада в присутствии коронного
гетмана. Разумеется, расеуждения Козаков не могли быть свободны. На этой раде
выбрали четырех послов к королю: Романа Половца,
107
Ивана Боярина, Яца Волченка и Богдана Хмельницкого. В инструкции, данной им,
они не смели уже, как делалось прежде, просить возвращения стародавних вольностей,
умоляли только оставить им грунты и имущества и обязывались во всем повиноваться
воле правительства.
Спустя потом три месяца, 4-го декабря, польный гетман собрал Козаков на урочище
Маслов-Став слушать решение короля и Речи-Посполитой. Козаки лишались своих
прежних прав и не могли выбирать себе начальников. Вместо избранного из их среды
гетмана, как они сами его называли, или старшбго, как титуловали его прежде поляки,
назначили им коммиссара шляхтича: первым таким коммиссаром был тогда Петр
Комаровский. Полковники на шесть полков назначены были также из лиц шляхетского
звания: в Переяславский–Станислав Сикиржинский, в Черкасский—Ян Гижицкий, в
Корсунский—Кирилло Чиж, в Белоцерковский—Станислав Ралевский, в Чигиринский
–Ян Закржевский; войсковыми асаулами были лица из Козаков, но особенно
отличившиеся верностью Речи-Посполитой: Ильяш Караимович и Левко Вубновский.
О писаре не говорится. Прежний писарь, Богдан Хмельницкий, означен в числе
сотников Чигиринского полка; он, быть может, был понижен в достоинстве за участие в
двух последних восстаниях, так же точно, как и другие два, бывшие полковниками,
Роман Пешта и Иван Боярин, лишились своих полковничьих должностей и сделаны:
первый—Чигиринским полковым асаулом, а второй—Каневского полка сотником. В
числе сотников Черкасского полка означен Богуш (по другим актам Бокун) Барабаш.
Вместо Трехтемирова, назначен главным местом управления козачества Корсун х).
Главные предводители восстания, Остранин и за ним Гуня, убежали в Московское
Государство. С ними убежало значительное число выписчиков. Они открыли путь и
другим; не хотевшие возвращаться в хлопское состояние и видеть поругание отеческой
веры толпами переселялись туда и водворялись на привольных и плодоносных полях
нынешней Курской и Харьковской губернии. Остранин с своими козаками поселился в
Чугуеве. Но тот ли это Остранин, который был предводителем в борьбе с поляками,—
остается неясным, потому что тот, который был гетманом над восставшими после
Павлюка, в малорусских летописях называется Стефаном, а тот, который поселился в
Чугуеве, называется, хотя с титулом козацкого гетмана—Яковом. Очень может быть,
что это другое лицо, а что он в великорусских актах назван гетманом, это не доказывает
его тождества с тем Остранином, который предводительствовал козаками против
поляков и в малорусских летописях носит имя Стефана. Гетман мог означать просто
козацкого начальника, каким был Яков Остранин над поселившимися в Чугуеве
козаками. В 1641 году новопоселенцы взбунтовались, умертвили Якова Остранина и
убежали в прежнее свое отечество 2).
Между тем, в этом их отечестве, по укрощении Козаков, без удерясу изливалась
шляхетская злоба над русским народом за то, что ему не по душе было шляхетское
владычество. «Церкви и церковные обряды жидам запродали,—
Ч Рук. И. П. Б. польск. f. № 194. Diar. Okolskiego.—Continua diai Okolsk.
2)
Ворон. акты. I, 100—102.
108
говорит украинская летопись,—детей козацких в котлах варили, жонкам перси
деревом вытискали» *). То же повествует другой летописец: «что мучительство
Фараоне против ляшскому тиранству? Детей в котлах варяху, женам сосцы древием
изгнетаху п иная неисповедимая творяху беды» 2). Об этих варварствах того времени
сохранилось известие и в великорусских актах: «Польские и литовские люди их
(украинцев) христианскую веру нарушили и церкви их, и людей сбирая, в хоромы
пожигают, и пищальное зелие, насыпав им в пазуху, зажигают, и сосцы у жен их
резали, и дворы их и всякое строенье разорили и пограбили» 3). Козаки уже не в силах
были шевельнуться: они сами стали почти хлопами. «Ни чести им, ни славы не было,
– говорит украинский летописец *),—беда их сталась хуже турецкой неволи;
полковники и все старшины шляхтичи обращались с ними как с рабами приказывали
топить себе печи, ходить за лошадьми и собаками, чистить дворы свои. То же делали с
ними старосты и подстаросты». Польский летописец 5), согласно с этими известиями,
говорит: коммиссары и полковники гирисвфивали козацкое жалованье, обращались с
козаками, как с своими хлопами, обогащались на счет Козаков, а между тем,
уменьшение козачества дало вольный проход татарам в земли Речи-Посполитой». В
1640 году, в феврале, крымские татары ограбили целый край около Переяславля,
Корсуня, и обширные владения Вишневецких: забирали людей и скот, сомсигали села,
города, замки, дворы и возвращались домой, не опасаясь погони за собою, и хотя
коронный гетман Копецпольский, узнав об этом не в пору, и явился с войском, но уже
не мог догнать татар, которые увели с собою до тридцати тысяч пленников и унесли
мнозкество добычи. «Такую-то пользу Речь-Посполитая получила от укрощения
Козаков: одно несчастие народа. Прежде козаки охраняли край от татар, и стоили
малых издержек; теперь же приходилось дерлиать наемное войско с большими
издержками. Все это делалось в угоду украинским старостам и дедичным владельцам,
которые, допустив к себе жидов, отдавали им в аренду, ради прибытка, все, и в том
числе церкви; лсиды держали у себя ключи от церквей, и всякий, кто имел надобность
совершать брак или крещение, долясев был платить зкиду-арендатору. Впоследствии
это до того стало омерзительно хлопам, что они, соединившись с козаками,
взбунтовались и омыли тамошние края шляхетскою кровью». То же говорит один
римско-католический священник, написавший в 1648 году нравоучительную брошюру
для своей паствы, испытавшей уже мстящую руку Богдана Хмельницкого.
«Увлекаемые непомерною роскошью, распространившеюся во всей Польше, паны
утесняют бедных подданных, продают их в работы жидам, отдавая им в аренды
имения, а в Украине не дозволяют схизматикам вступать в брак и крестить младенцев,
не заплатив зкиду особого налога; а это особенно дурно потому, что жиды ищут
детской крови» е).
’) Лет. Сам., 5.
2)
Иет. о лрез. бр.
3)
Ворон. акты., I, 100—102.
4)
Ист. о през. бр.
5)
Раш. do pan. Zygm. III, I, 225.
6)
Fawor niebiesky Lublinu okazany.
109
Коронный гетман Конецпольский, вместе с французским инзкенером Бопланом,
отправился в Кодак и оставался там целый месяц, пока крепость не приведена была в
оборонительное положение х). Козаки были призваны посмотреть на укрепления.
«Каков кажется вам Кодак?» спросил их насмешливо коронный гетман.–«Что
человеческими руками созидается, то человеческими руками разрушается», отвечал
ему по-латыни 2) Чигиринский сотник Богдан Хмельницкий.
О козацких морских походах мы находим известия под 1638—1639 гг. у восточных
писателей. Начальник арсенала Киайя-Пиале вместе с кафинским беглербегом напали
на козацкую флотилию из пятидесяти трех чаек, на которых было 1700 человек. Турки
загнали их в устье Кубани, загородили им устье, пригласили из Керчи еще несколько
перевозных судов турецких и так приперли Козаков, что пятьсот из них легли на месте,
пять чаек досталось туркам, остальные козаки убежали в Кубань; но турки,
вооруживши своими людьми взятые козацкия чайки, вошли в реку и нанесли козакам
такое поражение, что уцелело их только двести пятьдесят; тридцать чаек Пиале привел
в Константинополь с пленными козаками. Султан Мурад отправил его по вестям к
Очакову, откуда пришли слухи, что на острове Тендре проявилось десять козацких
чаек. ГГиале нашел их, разбил, освободил взятых козаками в плен женщин и детей и
привел плепных Козаков в столицу 3). Неизвестно затем, все ли эти козаки, о которых
здесь говорилось, принадлежали к запорожцам; быть может, те, которых истребили на
Кубани, были из донцов. Во всяком случае набеги Козаков стали реже после
построения Кодака и в 1649 г. гонец Речи-Посполитой Хмелецкий, жалуясь на
татарские наезды, заметил, что если будут они повторяться, то позволится запорожцам
с своей стороны делать набеги, чтб показывает прекращение или, по крайней мере,
уменьшение последних *).
1)
Опис. Укр. Бош. 20.
2)
Annal. Polon. Clim. 1. 21. (Manu facta manu destruo).
3)
Hammer, Y, 271.
*) Ibid., 347.
ГЛАВА ПЕРВАЯ.
Развитие шляхетской свободы.—Слабость королевской власти.—Упадок
воинственного духа.—Планы Владислава.—Тьеполо.—Тайное сношение с козаками.—
Сейм 1646 года.– Свидание Оссолинского с Хмельницким.—Похищение королевской
привилегии.—Ссора Хмельницкого с Чаплинским.—Жалобы Хмельницкого.—Поездка
Хмельницкого к королю.—Замысел восстания.—Бегство Хмельницкого в Сич.—
Хмельницкий у крымского хана,–Тугай-бей.—Сборы поляков.—Поход на
Хмельницкого.—Переход реестровых Козаков на. сторону Хмельницкого.—
Желтоводская битва.—Битва под Корсуном,—Поражение польского войска.—Плен
гетманов.—Сношение Хмельницкого с Московским Государством.—Смерть
Владислава.—Посольство козацкое в Польшу.—Возстание Южной Руси.
Царствование Владислава IV было золотым веком личной шляхетской свободы.
Тогда ова дошла до такого предела, за которым, при тогдашних условиях жизни,
понятиях и нравах, наступало для неё самоуничтожение. Шляхтич достиг совершенной
независимости от короля; прежде дворянство платило в казну поземельную подать,
двухгрошевый налог с лана, и тем, по крайней мере, выражало признание над собою
власти короля и свое подданство. При Владиславе прекратился этот взнос. Шляхтич не
обязан был никакою постоянною платою королю и государству, никакими
государственными повинностями, кроме посполитого рушенья—ополчения,
собираемого в исключительных случаях крайней опасности. В своем имении он был
настоящий государь, полновластный, самостоятельный, самодержавный, со всеми
принадлежностями верховной власти, мог на своей земле строить замки, города,
содержать войско, вести с кем угодно сношения, даже войну, если сил у него хватало, а
над своими подданными имел безапелляционное, абсолютнейшее (Jus absolutissimum)
право жизни и смерти, и мог управлять ими со всем произволом азиатского деспота.
Одинакое право имели как знатный владетель многих городов и волостей, так и
небогатый владелец нескольких волок земли.
Само собою разумеется, что такая идеальная личная свобода на деле не могла быть
достоянием всех в равной степени, потому что не все в равной степени обладали
средствами делать то, на что имели право. Этим самодержавным правом в широком
размере могли пользоваться только богатые паны «можновладцы, магнаты», и
действительно были примеры, что польские паны вели сношения с иностранными
владетелями, как независимые государи, держали
111
большое войско и нападали войною на соседния государства, как, напр., Мнишки и
Вишневецкие на Московское Государство, или Потоцкие и Корецкие на Молдавию.
Остальная шляхта, будучи победнее, должна была примыкать к богатым и сильным и
угождать им; только по отношению к своим подданным всякий шляхтич был то же, что
магнат по отношению к своим, в этом никто не подрывал его могущества. Порабощая
себе на самом деле мелкое шляхетство, магнаты не покушались отрицать за ним ирава,
уравнивавшие его с ними самими; напротив, магнаты становились защитниками и
охранителями этих прав; а шляхта своею громадой поддерживала магнатов, потому что
получала от них выгоды. И у магнатов, и у шляхты по отношению к королю было
единое желание—ограничить власть его и быть как можно от него независимее.
ПГляхта не боялась магнатов, не считала ни унижением, ни тягостью служить им,
потому что такая служба для каждого имела вид свободы: панов было много,
следовательно, шляхте оставался выбор, и нередко тот, другой, третий пан заискивал
расположение шляхты и приобретал её услуги ценою выгод; притом, шляхтич смотрел
на богатого и знатного пана все-таки как на своего брата, и чувство этого равенства по
правам утешало его, когда бы даже обстоятельства или привычка вынуждали его
ползать перед знатною особою. Напротив, король был один, и королевская власть
имела значение принудительности; шляхта понимала, что король не свой брат, и если
дать ему силу, то с ним нельзя будет торговаться и показывать перед ним достоинство
свободного человека, а придется служить ему и повиноваться, когда нет на то ни охоты,
ни личной пользы. Поэтому как ни ограничила в то время шляхта власть короля, а все
еще не переставала бояться, чтобы она еще паче не усилилась; страх козней деспотизма
беспрестанно тревожил ее, и она старалась не допустить ничего такого, чтб
увеличивало её опасения. В этом она опиралась на магнатов, как и магнаты опирались
на нее, для поддержания своей независимости. Король нужен был шляхетству, как
представитель единства шляхетской нации, но шляхетство берегло его, так сказать, на
случай, и хотело видеть в нем стража своих шляхетских вольностей или, правильнее
сказать, своеволия, каким и был этот король, помимо собственнной воли. Кроме суда по
некоторым делам, относящимся к королевским имениям и городам, притом такого суда,
которого приговоры часто не исполнялись, да еще сверх того, кроме права созывать
посполитое рушенье в крайних случаях, главная обязанность короля состояла в раздаче
королевщин (т.-е. староств, экономий и других имений под наименованиями: данин,
лен, эмфитеутов) особам шляхетного достоинства за так называемые заслуги и в
назначении их на должности, с которыми соединялись доходы. Как только делались
вакантными доходное место или королевщина, тотчас являлось по нескольку
соискателей, и те, которые сами не принадлежали к сильным, богатым и влиятельным
родам, приобревшим историческую знаменитость, обращались к посредству магнатов:
последние хлопотали перед королем за своих клиентов. Дать или не дать для короля, в
таком случае, значило угодить такому-то магнату или огорчить такого-то, и не раз
случалось, что король поставлен был в затруднительное, иногда унизительное для
своего достоинства и даже комическое положение. С Владиславом это случалось не
один раз. Так, вскоре по своем вступлении на престол, он дал виленское воеводство
Тышкевичу, а потомъ
112
не мог устоять против негодовании сильной фамилии Радзивиллов, нарушил свое
слово, лишил Тышкевича того, что ему недавно дал, и на его место назначил одного из
Радзивиллов: это доставило большое удовольствие членам этого рода, которые, при
своем католическом фанатизме, несмотря на то, что получивший воеводство их родич
был диссидент, восхищались успехом своей фамилии, достигшей такого могущества,
что король, ей в угождение, нарушал монаршее слово. Случалось, что Владислав
обещал одно и то же двум соискателям, не в силах будучи устоять против их
покровителей магнатов, потом увертывался и не знал как выпутаться, а в конце концов
наживал себе великия неприятности. Однажды сделалось вакантным место писаря
новогродского. Двое магнатовъ—подканцлер литовский Сапега и польный литовский
гетман Радзивилл, представили ему своих клиентов. Король обещал и тому и другому, а
потом находился долго в затруднении и, наконец, рассудив, что Радзивилл сильнее
Сапеги, утвердил должность за креатурою польного гетмана. Тогда литовский
подканцлер взволновал собравшийся сейм и произвел большие беспорядки. Случалось,
из угождения сильным панам Владислав не только нарушал данное слово, но признавал
правым делом явную несправедливость. Князь Иеремия Вишневецкий послал свое
войско на город Ромен, который королевскою привилегиею был отдан Казановскому.
Вишневецкий овладел этим городом и, не имея ровно никакого законного права,
присоединил его к своим обширным владениям. Владислав издал декрет, осуждавший
Вишневецкого на банницию. Вишневецкий приехал в Луцк на сеймик и, посредством
попоек и подкупов, заставил шляхту принять составленную им инструкцию, в которой
шляхта обязывала своих послов требовать на сейме удовлетворения Вишневецкому.
Так как каждый посол имел право прекращать дествия сейма (liberum veto), то легко
было сильному пану поставить свое дело так, что либо должны были удовлетворить
его, либо нарушить законодательную деятельность отечества. Вишневецкий,
избранный послом, прибыл в Варшаву, презирая королевскую банницию. и король,
предохраняя от сорвания сейм (который все-таки был сорван), не только снял с
могучего магната банницию, но и присудил ему Ромен, захваченнный им путем
насилия *).
Раздавите ль доходов и, имений, польский король, от щедрот которого многие
поживлялись и наживались, не был однако очень богат. Когда староство делалось
вакантным, до передачи его другому лицу, доходы с него шли королю, но шляхта тотчас
роптала и кричала, если король медлил раздачею. Не только староства, отдаваемые
лицам шляхетского достоинства с уплатою четвертой части доходов (кварты) на
содержание войска, но и так называемые экономии или столовые имения раздавались
шляхетству с условием уплаты в королевскую казну положенной части доходов;
однако, не всегда отважно мог король требовать своих доходов, если экономия
находилась в руках магната или такого лица, которое было покровительствуемо
магнатом. Так было у Владислава с Альбрехтом Радзивиллом, великим литовским
канцлером, по поводу тухальского староства, принадлежавшего королеве и
переданного от неё Радзивиллу. Радзивилл не сошелся с королем в рассчете на 6.000
злотых, оскорбился, когда ему напомнили о законе и погрозили иском, уехал в свое
волынское
Рат. АИЪг. Radz., т. II, стр. 164.
113
имение Олыку, а потом начал волновать против короля сеймики, настраивая шляхту,
чтобы она не соглашалась принимать на счет нации королевского долга, сделанного на
государственные потребности. «Я решился,—говорит Радзивилл,– показать королю,
что он без меня не в силах достигнуть своих целей, и разослал на несколько сеймиков
статьи, сочиненные мною об этом предмете, да прибавил туда еще кое-чего такого, чтб
могло нанести королю огорчение». Король должен был, ради своих выгод, смириться и
искать примирения с Радзивиллом. Радзивилл в глаза Владиславу так говорил: «Я
написал и разослал по сеймикам противные для вас статьи, но это не значит, чтобы я
был противник королевскому маэстату: я поступил таким образом только для того,
чтобы показать, что я нахожусь в силах повредить вам; теперь прошу простить меня, я
вознагражу все на предстоящем сейме». Таким образом своенравный магнат хвастал
перед королем тем, что он моясет играть и королем и шляхетством по своей прихоти, и
король за такого рода обращение с собою подарил ему еще староство ковенское, да
кроме того 15.000 злотых из могилевской экономии и, вдобавок, раздавал доходные
места в Литве тем из соискателей, за которых старался Радзивилл. И за то Радзивилл на
сеймике в том же самом Луцке, где он недавно вооружал против короля шляхту, теперь
стоял за короля. Настроенная прежде им же самим враждебно королю шляхта не сразу
пошла за противным ветром; доходило дело до сабель; но Радзивилл успел повернуть
ее на свой лад; в случае нужды, он мог употребить и оружие против упорных, которых
ни в каком случае не могло образоваться большинство: влияние этого пана слишком
было сильно и для многих одного его слова достаточно было, чтобы так поступать, как
ему хочется. То же самое делалось тогда и на других сеймиках: так, в Вильне шляхта,
подстроенная королевскими врагами, сильно бурлила против короля, -но приехал
знатный пан, краковский каштелян коронный гетман Еонецпольский и своим влиянием
поворотил умы в пользу короля.
Так-то король был под влиянием магнатов и. должен был угождать им; от них
зависели его средства. Неудивительно, что двор польского короля иногда блистал
роскошью, а иногда терпел недостаток. По известию того же Радзивилла, 8-го декабря
1639 года двор Владислава дошел до такого убожества, что едва в полдень принесли
дров и мяса и голодные придворные должны были ожидать обеда до четырех часов, а
сам король довольствовался тогда несколькими простыми блюдами 1).
Вообще, во всем привилегированном классе в Польше не было лица, более
ограниченного в своих действиях, как польский король. Не даром историк Пясецкий
назвал его медоносным королем пчел, не имеющим жала. Действительно, один только
он, носивший звание главы государства, не мог никого ни жалить, ни кусать. То, что
дозволялось всякому шляхтичу, запрещалось одному королю. Каждый шляхтич мог без
суда, по своему произволу, пользоваться трудом своего раба, распоряжаться его
жизнью; один король не имел рабов. Сильный пан мог бесчинствовать, куралесить и