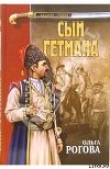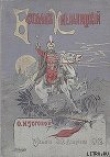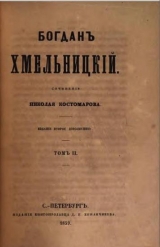
Текст книги "Богдан Хмельницкий"
Автор книги: Николай Костомаров
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 67 страниц)
предупредили появление всей козацкой ватаги: убили Косинского пьяного в том доме,
куда он пристал, и истребили весь бывший с ним отряд.
Неудавшееся восстание Косинского, показывавшего такие широкие и опасные'для
поляков замыслы, повлекло новые стеснительные меры против коза-, чества.
Сеймовою конституциею было объявлено, что те люди, которые осмелятся собираться
самовольно в «купы» с тем, чтобы делать наезды на чужия государства или
производить бесчинства внутри своего королевства, считаются заранее врагами
отечества, и кварцяное войско, без особого предписания или судебного приговора,
может укрощать их оружием, а старосты и державцы (вотчинники) имеют право
громить и уничтожать их, в видах охранения своих маетностей, и не отвечают за
убитых. С намерением остановить при-
27
лив хлопов в козацкие ряды постановлено было, что всякий, поймавший беглого
слугу или хлопа, чьего бы то ни было, имел право заковать его и приневолить работать
в свою пользу с тем, что когда пан потребует беглеца, то передержчик обязан
возвратить последнего владельцу, получив от пана 12 грошей. Такия строгости не
прекращали своевольств. Нехотевшие повиноваться своим панам хлопы самовольно
считались козаками-охотниками сверх положенного реестра, другие бежали в низовые
приднепровские пустыни и там скрывались, готовые на первый клик мятежа явиться в
Украине.
Появилась церковная уния или соединение греческой церкви с римскою. Римские
первосвященники издавна простирали виды на русскую церковь. Попытки им в
продолжение веков оставались безуспешны. Но в конце XVI века обстоятельства были
для них благоприятнее, чем когда-либо. В распоряжении их был орден иезуитов,
введенный в Польшу при Сигизмунде-Августе и в короткое время овладевший и
правительством, и умами дворянства, и воспитанием юношества. Сигизмунд III был
горячий католик и готов был на все в угодность папе. Притом же стремления польской
политики благоприятствовали видам римского двора: совершенное слитие Руси с
Польшею казалось неудобоисполнимым, пока не успеют поколебать веру русского
народа. Возникла уния и возникла с искусством. Не касаясь, повидимому, прав Руси,
освященных торжественно коренным законом соединения русских с поляками, не
показывая явного намерения подчинить русских римско-католической церкви,
ограничивались единствено тем, что русские должны были признать спасительность
римско-католического исповедания, со всем учением западной церкви, наравпе с
греческим, и почитать обряды заиадные такими же святыми, как и восточные; а
римская церковь признавала святость всего, составляющего достояние восточного
православия. Такова была видимая сущность унии. Способ её введения был также
прикрыт личиною справедливости: католики отнюдь не навязывали русским унии.
Нашлись люди из духовного звания, которых можно было употребить орудиями и
придать делу такой вид, будто церковь православная, в лице духовных представителей,
добровольно предлагает братское соединение с западною церковью для блага всего
христианства. Некоторые епископы увлечены были обманом; их убедили подписаться
на бланках, на которых потом написали совсем не то, что им обещали, а будто они все
желают признать первенство римского апостольского престола 1). Этот-то акт был
утвержден папою, а потом поляки считали себя в праве употреблять всякия явные меры
к уничтожению русской веры в русской земле, думая, что коренной закон в соединении
русских с поляками, как равных с равными и вольных с вольными, отнюдь не нарушен.
Унию выдумали только для простого народа: дворян предполагалось обратить прямо в
католичество.
Дворянство южнорусское при появлении унии зашумело; составились братства,
конфедерации, с целью защищать отеческую веру 2); но лет через тридцать с
небольшим после того французский инженер Воплан, служивший в Польше, говорил:
«Дворянство русское походит на польское и стыдится исповедовать иную веру, кроме
римско-католической, которая с каждымъ
‘) Опис. киев. Соф. соб. и Ист. киев, иер., 140.
2)
Опис. киев. Соф. соб. и Ист. киев. иер., 149.
28
днем приобретает себе новых приверженцев, несмотря на то, что все вельможи и
князья ведут свой род от русских *).
Многие русские дворяне, происходя от св. Владимира или Гедимина, пользовались
перед польским дворянством знатностью рода, обладали богатствами и, участвуя на
сеймах, могли быть двигателями государственного управления. Они полюбили эту
роль, променяли тесное поприще на обширное и свыклись с мыслью, что отечество их
целая Речь-Посполитая, а не присоединенная к ней Южная Русь. Приняв, по
необходимости, польский язык, употребляемый при дворе и на сейме, они скоро
переменили и веру, потому что эта перемена освобождала их от невыгодного взгляда на
них римско-католического духовенства, столь сильного в то время в католической
Польше, и открывала им дорогу к приобретению староств; притом ободряли их ласки
короля и двора, и всеобщие похвалы шляхетского сословия.
Другие потеряли веру и народность через браки с польками; а если сами
заимствовали от супруг единственно язык, то всегда почти предоставляли детям
следовать внушениям матерей в отношении веры. Таким образом перерождались целые
фамилии.
Еще более действовало на перерождение русского дворянства воспитание. Дети
русских дворян учились в Кракове, во Львове, в Ярославле и прочих городах
внутренних стран Речи-Посподитой, иные за границею, в Австрии, во Франции, в
Испании, в Италии; иезуиты везде овладевали тогда воспитанием. Как только прибудет
в училище молодой русип, на него устремляется все внимание; ему внушают
отвращение к вере отцов его; описывают ее ересью; представляют догматы римско-
католической церкви истинными, а обряды её стараются выставить в привлекательном
виде. Молодое чувство покоряется внушениям наставников: русский принимает
римскокатолическое исповедание, возвращается на родину—и все в ней кажется ему
варварским; он, затыкает уши, слыша речь южнорусскую; на подданного своего он
смотрит не только как на презренного раба, по как на существо, отверлсенное Богом,
лишенное облегчения своей горькой участи и за пределами гроба.
Наконец, многие дворяне, живя на родине, увлечены были убеждениями иезуитов,
которые рассыпались тогда по всей Южной Руси и разными путями выгоняли и
унижали православных духовных, которых поляки с намерением лишали средств к
образованию, дабы они не были в состоянии спорить с римско-католическими
духовными и опровергать их. Более двадцати лет после введения унии большая часть
православных епископских кафедр оставалась незанятою; посвящение священников
сопряжено было с затруднениями. Дворяне видели вокруг себя католиков и унитов,
которые были образованнее православных. Притом польские дворяне с каждым годом
более и более расселялись в Руси. Сила привычки велика: русские дворяне незаметно
стали расположены быть отступниками.
Польское право предоставляло владельцам безусловную власть над подданными; не
только не было никаких правил, которые бы определяли отношения подчиненности
крестьянина, но помещик мог, по произволу, казнить
1)
Оишс. Укр., 8.
29
его смертью, не давая никому отчета 1). Даже всякий шляхтич, убивший
простолюдина, вовсе ему не принадлежащего, чаще всего оставался без наказания,
потому что для обвинения его требовались такия условия, какие редко могли
встретиться. «Нет государства – говорил в своих проповедях иезуит Скарга 2)—где бы
подданные и земледельцы были так угнетены, как у нас под беспредельною властью
шляхты. Разгневанный земянип (владелец) или королевский староста не только
отнимет у бедного хлопа все, что у него есть, но и самого убьет, когда захочет и как
захочет, и за то ни от кого слова дурного не потерпитъ». Со времена унии, как мы
заметили, пан готов был поступать безжалостнее с крестьянином, чуждым ему и по
языку, и по вере. Надобно прибавить 3), что в то же время между дворянством Речи-
Посполитой распространилась чрезмерная роскошь, и мотовство, требовавшие
огромных издержек. По сказанию Воплана, обыкновенный обед в знатном польском
доме превышал званые столы во Франции. Серебряная и вызолоченная посуда,
множество кушаньев, иноземные вина, в то время дорогия, музыка при столе и толпы
служителей составляли условия тогдашнего обеда. Такая же расточительность
господствовала в одежде. Бережливость считалась постыдною; в тот век принимали за
хороший тон в доме, когда лакеи вытирали сальные тарелки рукавами господских
кунтушей, вышитых золотом по драгоценному бархату 4). «В прежния времена—
говорит современный обличитель Старовольский 5)—короли хаживали в бараньях
тулупах, а теперь кучер покрывает себе тулуп красною материею, хочет отличиться от
простого народа, чтоб не заметили на нем овчины. Прежде, бывало, шляхтич ездил
простым возом, редко когда в колебке на цепях, а теперь катит шестернею в коче,
обитом шелковой тканью с серебряными украшениями. Прежде, бывало, пили доброе
домашнее пиво, а теперь не то что погреба – и конюшни пропахли венгерским.
Прежде, бывало, четырехлетнего венгерского бочка в сто гарнцев стоила десять
злотых, а теперь за бочку в шестьдесят гарнцев платят по 150, по 200, по 400 злотых и
дороже того. Все деньги идут на заморские вина, на сахарные сласти, на пирожные и
пастеты, а на выкуп пленных и на охранение отечества у нас денег нет. От сенатора до
ремесленника, все пропивают свое состояние, потом входят в неоплатные долги. Никто
не хочет жить трудом, всяк норовит захватить чужое; легко достается оно, легко и
спускается; всяк только о том думает, чтобы поразмашистее покутить (epulari
splendide); заработки убогих людей, содранные с их слезами, иногда со. шкурою,
истребляют они как гарпии или саранча: одна особа съедает в один день столько,
сколько множество бедняков заработают в долгое время, все идет в дырявый мешок —
брюхо. Смеются над поляками, что у них пух верно имеет такое свойство, что на нем
могут спать спокойно (не мучась совестью)». Паны содержали при дворах своих толпы
шляхтичей, которые существовали на счет господ и вовсе нн-
*) Опис. Укр., 9.
2)
Kazania, IV.
3)
Опис, Укр., 111.
4)
Оппс. Укр., 111.
•') Reforma obyczajow.
30
чего не делали. Точно так же и знатная панья окружала себя толпою шляхтянок.
Таких дармоедок в ином доме было но нескольку тысяч. Все это падало на
крестьянский класс.
«Крестьяне в Польше,—говорит современник '), – мучатся как в чистилище, в то
время, когда господа их блаженствуют как в раю». Кроме обыкновенной панщины,
зависевшей от произвола пана, «хлопъ» был обременен различными работами.
Помещик брал у него в дворовую службу детей, не облегчая повинностей семейства;
сверх того, крестьянин был обложен поборами: три раза в год, перед Пасхою,
Пятидесятницею и Рождеством, он должен был давать так называемый осып 2), то-есть
несколько четвериков хлебного зерна, несколько пар каплунов, кур, гусей; со всего
имущества: с быков, лошадей, свиней, овец, меда и плодов, должен был отдавать
десятую часть 3) и, кроме того, каждый улей в его пчельнике был подвергнут пошлине
под именем очкового, каждый волъ—пошлине йод названием рогатого; за право
ловить рыбу платил он ставщину. за право пасти скотъ– опасное, за право собирать
жолуди– жолудное, за ловление рыбы и зверей– десятину, за измол муки—
сухомельщину *) и т. п. Крестьянам не дозволялось не только приготовлять у себя в
домах напитки, но даже покупать в ином месте, кроме панской корчмы, отданной
обыкновенно жиду на аренду, а там продавали хлопам такое пиво, мед и горилку, что и
скот пить не станет; «а если—говорит Старовольский 5)—хлоп не захочет отравляться
этою бурдою, то пан велит нести ее к нему во двор, а там хоть в навоз выливай, а
заплати за нее». Случится у пана какая-нибудь радость—подданным его печаль:
надобно давать поздравительное (witane); если пан владеет местечком, торговцы
должны были в таком случае нести ему материи, мясники—мясо, корчмари—напитки.
По деревням хлопы должны были давать «стацию» его гайдукам и исозакам. Едет ли
пан на сеймик, или на богомолье в Ченстохово, или на свадьбу к соседу—на его
подданных налагалась всегда какая-нибудь новая тягость. Куда ни проедет пан со своим
своевольным оршаком (свитою), там истинное наказание для бедного хлопа: панские
слуги шляхетского происхождения портят на полях хлеб, забирают у хлопа кур,
баранов, масло, колбасы, «а пойдет хлоп жаловаться пану,– говорит Старовольский, —
так.его за то по ушам отшлепают, зачем беспокоит его милость, тем более, что сам пан
привык поступать как его слуги. Наберет у купца товаров, сделает ремесленнику заказъ
–и тому и другому не платитъ». Таков был панский обычай. Не умея или ленясь
управлять лично имениями, паны отдавали как родовые, так и коронные, им
пожалованные в пожизненное владение маетности на аренды, обыкновенно жидам 6), а
сами или жили и веселились в своих палацах, или уезжали за границу и там
выказывали перед иноземцами блеск польской аристократии.
J) Олис. Укр., 114, 127.
-) Лет. Самов., 7.
3)
Опис. Укр., 9.
4)
Рат. о wojn koz. za Chmieln., 56.—Ист. о през. бр.
5)
Reforma obyczajow. e) Fawor. Mebieskv.
31
с
Жиды вымышляли новые поборы, какие только могли прийти в голову
корыстолюбивой рассчетливосги. Если рождалось у крестьянина дитя, он не мог
крестить его, не заплатя пану так называемого дудка (dudek); если крестьянин женил
сына или отдавал дочь, прежде должен был заплатить поемщизну 1). Жид обыкновенно
требовал с хлопа еще больше того, сколько было назначено: и если крестьянин не мог
заплатить, то дитя оставалось некрещеным несколько лет, нередко и умирало без
таинства, а молодые люди принуждены были сходиться между собою без венчанья 2).
Кроме того, имущество, жизнь крестьянина, честь и жизнь жены и детей находились в
безотчетном распоряжении жида-арендатора. Жид, принимая в аренду имение, получал
от владельца право судить крестьян, брать с них денежные пени и казнить смертью 3).
В коронных имениях положение хлопов было ужаснее, нежели в родовых, даром что
там подданные имели право жаловаться на злоупотребления. Старосты и державны,—
говорит Старовольский 4),—не обращают внимания ни на королевские декреты, ни на
коммиссии, пусть на них жалуются: у них всегда найдутся пособники выше;
обвиняемый будет всегда прав, а хлопов бранят, пугают и запугают до того, что онп
оставят дело и молчат. Если же найдется такой смельчак, что не покорится и не оставит
иска, так его убьют или утопят, а имущество его отдадут другим, угодникам панским.
Убитого обвинятъ–будто он бунтовщик, хотел бежать в опришки (бродяги), на
границе воровство держал и т. п. «Двое старост,—продолжает тот же Старовольский,—
судились за то, что один из них посылал своих слуг бросить с моста в воду проезжих,
ограбивши их имущество, а другой брал , с купцов на ярмарке незаконные поборы
целыми кусками блаватных материй да бочками малвазии. И что же? Их отпустили и
оправдали, а иск продолжать предоставлено на их слугах, даром что за одним
старостою уже известны были прежде подобные дела». И не мудрено было поступать
таким образом старостам, когда, по известию современников, привилегию на староство
выхлопотать стоило дороже, чем сколько староство приносило годового дохода. «У нас,
– говорит тот же Старовольский, – в канцеляриях завелись неслыханные прежде
поборы – подарки ассесорам и судьям; везде подкупы; войты, лавники, бурмистры,
все на подкупе, а о доносчиках, как они подводят невинных людей, и говорить тяжело:
поймают богатого, запугают, засадят в тюрьму и тянут над ним следствие, а с него
сосут подарки и взятки. Так называемые экзаторы—собиратели податей в городах п
коронных имениях, были также грабители». «Иногда, – говорит Старовольский,—за
квитанцию возьмут больше, чем поборов соберут. Знаю я одного такого собирателя;
ему город подарил за квитанцию сто талеров,—он бросил их со стола и ногами
потоптал и не дал квитанцип, пока ему не всучили сто червонцев. Другой по Руси
ездил собирать недоимки из села в село и везде брал себе стации—полти мяса, сыр,
масло, даже рогатый скотъ
*) Hist. bel. cos. polon., 32.—Fawor. Niebiesky,
2) Hist. bel. cos. pol,, 32.—Ист. пзв. о возн. в Польше ун., 70.—Унпверс. киевск.
митр. Петр. Мог., 10.
3)
Пам. киев. ком., 1, 2, 89.
4)
Ref. obycz.
32
за ним гнали стадом. Кроме безграничного произвола, старосты или жида
подстаросты, которые не жалели людей, потому что они составляли достояние
владельца только до его смерти, в коронных имениях квартировали войска,
отличавшиеся в Польше неистовствами и бесчинствами. Наш жолнер,–говорит
Старовольский,—не знает ни веры, ни отечества: получит от РечиПосполитой
жалованье и пропьет его в один вечер, а потом достает себе платье, упряжь и
продовольствие от убогих людей, награбит у них всякой всячины и везет в обоз, а там
раскинет палатку и продает награбленное, потом кричит на гетмана, жалуется, требует,
чтобы войско отпустили на гиберны (зимовые квартиры), получает жалованье по
четвертям и не помнит того, что получил не в зачет за четверть. Жолнеры составляют
конфедерации, расписывают самовольно квартиры, собирают на себя королевлевские
доходы, и таким образом тот, кто обязан защищать отечество, делается его разорителем.
На войну ли идут жолнеры – обдирают бедных людей; с войны возвращаются – то же
самое; одна хоругвь придет в село, грабит его, за нею другая, третья, и нет такого села,
где бы не перебывало тридцать, сорок хоругвей. Люди плачут, кричат, разбегаются».
«Много нам рассказывают о турецком рабстве,—говорит в другом месте тот же
писатель,—но это касается военнопленных, а не тех, что жительствуют у турок под
властью, обработывают землю или занимаются торговлей. Последние, заплатив
годовую дань, или окончивши положенную на них работу, свободны так, как не
свободен у нас ни один шляхтич. У нас в том свобода, что всякому можно делать то,
что захочется: от этого и выходит, что беднейший и слабейший делается невольником
богатого и сильного, сильный наносит слабому безнаказанно всякия несправедливости,
какие ему вздумается. В Турции никакой паша не может того делать последнему
мужику, иначе поплатится за то головой; и у москвитян думпый господин и первейший
боярин, и у та-' тар мурза и высокий улан не смеют так оскорблять простого хлопа,
хотя бы и пноверца; никто и не подумает об этом: всяк знает, что его самого могут
повесить перед домом обиженного. Только у нас в Польше вольно все делать и в
местечках и в селениях. Азиатские деспоты во всю жизнь не замучат столько людей,
сколько их замучат каждый год в свободной Речи-Посполитой».
Рядом с утеснением народа шло поругание православной веры. До смерти короля
Владислава, со времени введения унии, польское правительство издало десять
конституций, обеспечивавших спокойствие последователей греко-русского
исповедания *); но, во-первых, духовные считали себя в праве не слушаться никаких
конституций на том основании, что церковь выше государства, а во-вторых, эти
конституции, по самым правам польским, могли относиться только к дворянскому
сословию. Дворянин православной веры мог в своем имении или старостве построить
церковь, монастырь, покровительствовать духовным, впрочем, с опасностью
подвергнуться наезду какого-нибудь соседа, возбужденного католическим
духовенством; но там, где владелец католик и не благоприятствует веротерпимости,
там подобные конституции не могли иметь ровно никакой законной силы, ибо и
совесть, как честь и жизнь хлопов, зависела
*) Ист. взв. о вози, в Польше ун., 85—89, 101—110.
33
от произвола пана. А так как панов католической веры со дня на день становилось
больше, чем православных, то, значит, эти конституции давались в полной
уверенности, что они не могут остановить стремления лишить русских
своенародности. Владельцы захватывали церковные имения, приписанные к тем
храмам или обителям, которые находились на земле их вотчин или староств х);
обращали насильно православные церкви в унитские *); нередко толпа шляхтичей,
живших у пана, врывалась в монастырь, разгоняла и мучила иноков, принуждая к унии:
их заключали в оковы, вырывали им волосы, томили голодом, иногда же топили и
вешали. Тогда жиды, смекнув, что в новом порядке вещей можно для себя извлечь
новые выгоды, убедили панов отдать в их распоряжение, вместе с имениями, и церкви
гонимого вероисповедания 3). Жид брал себе ключи от -храма и за каждое
богослужение взимал с прихожан пошлину 4), не забывая при этом показать всякого
рода нахальство и пренебрежение к религии, за которую некому было вступиться.
Часто люди, изнуренные работою и поборами, не в состоянии были платить, а
священники, не получая содержания и притом терпя оскорбления от лендов,
разбегались; тогда приход приписывали к унитской церкви; православная церковь, если
не нужно было обращать ее в унитскую, уничтожалась, а вся святыня переходила в
руки жидов. Римско-католические духовные подстрекали отдавать православные
церкви на поругание, думая этим скорее склонить народ к унии.
В городах одни католики были выбираемы в должности 5) и, в качестве членов
городского начальства, потакали римско-католическому духовенству и допускали
распоряжения, стеснительные для православия. В Червоной Руси, земле, издавна
присоединенной к Польше, православные еще до унии подвергались стеснениям; но со
времени унии во Львове запрещено было православным не только участвовать в
муниципальном совете, но даже торговать и записываться в ремесленные цехи 6). Не
дозволяли хоронить православных с христианскими обрядами; священник не смел
идти к больному с дарами; наглость львовских католиков и унитов доходила до того,
что толпы врывались в церковь во время богослужения. В Луцке в 1634 году ученики
иезуитского коллегиума и польские ремесленники, ободряемые ксендзами, бросились
на монастырь православного крестовоздвиженского братства, прибили и изувечили
палками и кирпичами монахов, учителей, учеников, нищих, живших в богадельне,
ограбили казну братства, потом, с благословения иезуитов, разбивали дома, били,
увечили хозяев и нескольких человек убили до смерти; наконец, оставаясь без
преследования за свои поступки, величались своими подвигами, называя их
богоугодными делами 7). В Киеве насильно обратили большую часть церквей в
унитские, и в том числе св. Софию и Выдубицкий
*) Ист. изв. о возн. в Польше ун., 70.
*) Hist. Ъеи. cos. pol., 24.
3)
Пам. киев. коми,, I, 2, 99.
4)
Pam. do panow. Zygm. III, WI. IV, i J au. Kaz. 254.
5)
Описание, киев. Соф. соб. и Ист. киёв. иер., 159.
6)
Истор. изв. о возн. в Польше ун., 71.
~) Памят. киев. коми. I, 1, 241—242.
Н. КОСТОМАРОВ, КНИГА IV.
о
34
монастырь. Михайловский монастырь долго оставался в запустении *). По всей
Руси в судах и трибуналах накопилось тогда бесчисленное множество религиозных
процессов. Иезуиты настраивали католиков и унитов подавать на православных
доносы, обвиняющие их в хулении римско-католической веры. Обвиняемых заключали
в оковы, подвергали мучениям пыток, под которыми иные умирали, и всегда почти,
если обвиненному удавалось перенести муки и просидеть несколько лет в
отвратительной тюрьме, его постигала конфискация имущества и инфамия, то-есть
лишение гражданской чести 2).
Если бы не было Козаков, поляки, быть может, и достигли бы своей цели. Русское
дворянство легко поддавалось польскому влиянию и теряло народность, а за
народностью и веру предков. Простой народ, порабощенный дворянством, показывал
бы долее страдательное противодействие, роптал бы на судьбу, вздыхал бы о вере
отцов своих, а в конце концов, под силою всеизглаживающего времени, уступил бы
гнету обстоятельств и забыл бы старину, так же точно, как некогда после введения
христианства, он долго вздыхал о своем язычестве и втайне обращался к своим
прежним божествам; а между тем время делало свое и мало-по-малу народ сроднился с
новою верою и стал чужд языческой старине своей. По общечеловеческим законам то
же доллено было, если не сразу, то в течение немалого времени совершиться с
православием и с русскою лшзныо. Все доллено было ополячиться и окатоличиться,
если бы, на беду польским и римско-католическим затеям, не стояло против них
козачество—вооруженное, крепкое, составлявшее' цвет и материальную силу русского
народа. Наполняясь, в последнее время, как было сказано, из простого народа, оно
готово было защищать оружием то, что было дорого простому народу. Хлоп, бежавший
в козачество от власти и произвола старосты или дедичного пана, вносил туда
сердечную, глубокую ненависть ко всему панскому, шляхетскому, и вместе с тем ко
всему лядскому, потому что ненавистный его пан был или сделался ляхом; зауряд со
всем панским стала ему противна и враждебна римско-католическая вера; еще
мерзостнее была для него уния, как вера, которую, в довершение своего произвола над
хлопом, насильно навязывал пан последнему на совесть. Таким путем сделались козаки
единственными борцами за православную веру и русскую народность.
При самом введении унии вспыхнуло козацкое восстание Наливайка и Лободы.
Наливайко, лицо чрезвычайно крупное в истории возникшей борьбы между
южнорусскою и польскою национальностями, был уроженец из города Острога, где
жила его семья и где старший его брат, Дамиан, был придворным священником у князя
Константина Константиновича Острожского и пользовался уважением, как один из
ученых защитников православия. Сам Семерый Наливайко, брат священника, состоял
на службе у князя Острожского и воевал против Косинского и его Козаков. Вся
обстановка жизни этого человека, казалось, прочно привязывала его к шляхетской
стороне. У него, кроме брата Дамиана, жили в Остроге родители, сестра и меньшой
брат. Но случилось происшествие, поворотившее его деятельность в иную сторону. У
О Опис. киев. Соф. соб. н Ист. киев. иерарх., 159.
2) Унив. Петр. Мог. И.—Нстор. изв. о возн. в Польше ун., 79.
35
отца его был грунт (земельный участок) в Гусятине. Владелец этого местечка, пан
Калиновский, отнял этот грунт и самого хозяина, за его протест, так исколотил, что тот
умер от побоев. Наливайко, ожесточенный против панского произвола, стал
непримиримым врагом всего панства и шляхетства и задумал продолжать дело
Косинского. Он, чтобы СОЙТИСЬ И примириться с запорожцами, подарил им табун
лошадей, отбитых у татар, сблизился и подружился с Григорием Лободою, получившим
звание козацкого гетмана после Косинского, сделался атаманом ватаги нестроевых
Козаков, присоединился с нею к Лободе и вместе с ним, по зову императора Рудольфа,
отправился в Седмиградскую землю, воевал в румынском крае, где тогда оба господаря
покушались освободиться от турецкого господства. После неудавшагося их покушения
Наливайко воротился в Украину в 1595 году, и тут вместе с Лободою поднял открытое
восстание против Польской Короны. То было время, когда русские архиереи, затеявшие
поддать русскую Церковь римскому папе, собирались ехать в Рим; везде
распространились слухи о их затеях; еще немногие были за нововведение, другие
горячо восставали; князь Острожский рассылал повсюду свои послания против
унитской затеи, составленные при участии брата Наливайкова, Дамиана. Злоба Козаков
к знатным и богатым привлекала к ним все мелкое и угнетенное: теперь они могли
надеяться на большее сочувствие к себе народа, когда сами могли прикрывать свои
восстания знаменем веры. Сам князь Острожский, если не покровительствовал
возмущению, то смотрел на него сквозь пальцы, по крайней мере насколько
своевольники могли пугать отщепенцев православной веры. Наливайко напал с своею
ватагою на Луцк, епископский город, где были сторонники и слуги епископа Кирилла
Терлецкого, одного из зачинщиков унии. На них обратилась козацкая злоба. И в других
волынских городах Наливайко находил себе друзей. Посещение козаками подняло в
городах и их окрестностях дух своеволия. Наливайко зазывал к себе охотников;
составлялись из них козацкия ватаги, делились на сотни, избирались сотники и
атаманы.
Увеличивши свое козацкое полчище, Наливайко двинулся на север в Белоруссию. И
там восстание нашло себе в народе сочувствие; панские хлопы сбегались в козацкое
ополчение.
Наливайко напал на Слуцк и так неожиданно, что владелец Слуцка, Гиероним
Ходкевич, не успел принять мер к обороне. Наливайко взял город и наложил на мещан
пять тысяч коп литовских в свою пользу, забрал в слуцком замке восемьдесят гаковниц
и семьдесят ружей и повернул к Могилеву. 30 ноября 1595 года козаки взяли его
приступом. Но тут литовский гетман Криштоф Радзивилл, узнавши о восстании,
оповестил по литовским поветам, чтобы шляхетство собиралось укрощать мятежников.
Сам Радзивилл пошел к Могилеву с некоторыми панами, у которых были ополчения,
собранные из их волостей. Шляхта осадила Наливайка в Могилеве. Произошел пожар.
По словам самого Наливайка в его письме в королю, шляхта зажгла Могилев, чтобы в
нем погубить Козаков, а по известию историка Бельскаго’, его зажгли сами
могилевские мещане, чтоб не допустить Наливайка защищаться в стенах города и
заставить его скорее убраться. Наливайко уклонился от столкновения с литовским
гетманом,
з*
36
остановился в Речице и оттуда послал письмо к королю, просил отвести козакам
землю пустую для поселения между Бугом и Днестром на пространстве ниже Брадлава
на двадцать миль, с тем, чтобы козаки обязывались помотать Речи-Посполитой в
войнах, добывать языки и содержать караулы на своем иждивении. Но это, кажется,
делалось только для вида. Наливайко, не дожидаясь ответа на свой проект, продолжал
восстание, взял Пинск, забрал ризницу и документы пинского владыки, бывшего также
в числе составителей унии, ограбил имения Яроша Терлецкого, брата луцкого владыки,
мстя на брате последнему за унию и стал у Острополя. Между тем его сообщник,
Лобода, собирал козацкое ополчение на Волыни, готовясь действовать разом с
Наливайком. Но тут король для укрощения мятежа вызвал кварцяное войско,
находившееся в Молдавии, и оно, под начальством польного гетмана Жолкевского,
поспешило к Кременцу на Волынь. Козаки, не дожидаясь его, двинулись на восток.
Лобода стал разгонять шляхту в киевском воеводстве, и сам остановился в местечке
Ногребыще, а Наливайко, уклоняясь от столкновения с польским гетманом, двинулся к
Брацлаву, а потом повернул через реку Собь в дикую уманскую степь, тогда еще вовсе
незаселенную южную часть нынешней Киевской губернии. рассчитывая на горячность,
с какою преследовал его Жолкевский, Наливайко надеялся, что польский гетман туда за
ним погонится и тогда успех был бы на стороне Козаков. Польскому войску было бы