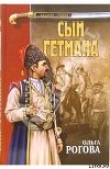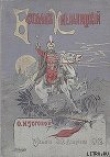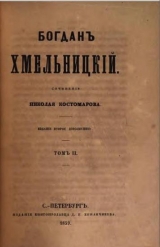
Текст книги "Богдан Хмельницкий"
Автор книги: Николай Костомаров
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 67 страниц)
иудеями, и завоевали город хитростью: пятьдесят русских, одетых по-польски,
подъехали к воротам, затрубили в трубы и ударили в литавры, как делали обыкновенно
польские всадники. Поляки думали, что это прибывают к ним на помощь
соотечественники, и отворили ворота. Тогда удалось сатанинское дело,– говорит
иудей-современник,—впущенные в соединении с православными мещанами разбили
ворота и впустили весь загон, притаившийся недалеко от города. Целыми сотнями
водили топить поляков и жидов, перебили маленьких детей; одних жидов, если верить
рассказчику, погибло тогда до шести тысяч 5).
Между тем, испуганная подольская шляхта столпилась в укрепленном замке
Нестерове или Нестерваре, иначе Тульчин, принадлежавшем князю Янушу
Четвертинскому, еще православному. Вслед за шляхтичами столпились там и иудеи со
всего околотка. Ганжа, услышав об этом, пошел туда и бросился на замок. Шляхтичи
оборонялись храбро, но до тех пор, пока козаки не стали палить из пушек: картечи,
летевшие в город, не давали
1)
Повесть о том, что случилось в Украине, II, 8.
2)
Народн. песня,—О том, что случилось в Увр., 8.
3)
О том, что случ. в Укр., 9.
4)
Истор. о през. бр.
5)
Окружи, послание раввина.
186
осажденным покоя ни на улице, ни в домах. Шляхтичи решились просить мира и
предлагали окуп за свои души.
Козаки дали ответ им:
«Вас пощадим, если вы заплатите за себя окупъ—мы отойдем, а жидов ни за какие
деньги не помилуем: они наши заклятые враги, они оскорбили нашу веру, и мы
поклялись истребить все племя их. Выгоните их из города и не будьте с ними в
согласии».
Поляки решились пожертвовать иудеями. Со слезами, поднимая к небу руки,—
говорит летопись,—стояли иудеи толпою на улице перед дворянами; жидовки, с детьми
на руках, обнимали их колени, думая возбудить сострадание. «Бог накажет вас за нас
невинных,—говорили иудеи;—если вы нас погубите, то сами пропадете. Козаки не
такой народ... Вспомянете наше слово, да поздно: они и вас перебьют!» Шляхтичи не
слушали пророчеств, не трогались мольбами: собственная опасность была слишком
очевидна. Когда жиды не шли добровольно на явную смерть, они принялись их гнать
силою. С воплями и проклятиями, подгоняемые нагайками, выбежали дети Израиля и
Сталина валу. «Боже, отец наших!—восклицали они:—отмсти за смерть нашу!» И
только-что увидели их козаки, бросились на них с неистовством. «Иудеи, видя
последний ча,с свой, – как выражается современник, – защищались отчаянно
чем.попало: даже женщины отбивались от Козаков, обороняя детей». Эта бойня
продолжалась три дня, пока козаки не истребили их от малого до большего 1). «Три
тысячи погибло тогда иудеев,—говорит современник,—под ужаснейшими муками,
какие только может выдумать варварство: козаки кололи их гвоздями, жгли, рубили,
били дубьемъ». Раввин, описывая это событие, прибавляет, что оно случилось в
пятницу – день несчастный издавна для иудеев,—день, в который Моисей разбил
скрижали Завета 2).
После избиения иудеев Ганжа послал сказать шляхтичам, что теперь козачество
довольно: пусть дадут окуп и тогда будут пить мировую. Шляхтичи отсчитали им
значительную сумму, и началась взаимная попойка; казалось, враги, столь неистовые,
забыли вражду свою. Козаки обещали не беспокоить шляхтичей и разговаривали с
ними о мире, который, как они уверяли, должен последовать скоро 3). Шляхтичи
обрадовались и не взяли у них заложников. В самом деле, Ганжа отступил от
Ииестервара, но на дороге встретился с предводителем другого загона, Остапом
Павлюком. Узнав о выкупе, полученном Ганжею, Остап требовал с него части добычи;
Ганжа отказал 4). Тогда Остап с своим загоном бросился сам на замок, когда шляхтичи
не думали,, не гадали о таком посещении, и поджег одну башню, наполненную
порохом. Оглушенные нежданным взрывом, шляхтичи оцепенели, и козаки,
ворвавшись в замок, начали рубить кого попало; шляхтичи не защищались, только
просили пощады 5). Козаки прекратили резню,
*) Раш. о wojn. kozac. za Chmiel., 9.– РИстор. о през. бр.—Woyna dora. Ч. I, 14.
2)
Окружи, послапие раввина, в „Slaw. Jabrb.“, 107.
3)
Раш. о wojn. kozac. za Chmieln., 10.
–1) Летоп. Велич., I, 93.
5)
И'ст. о през. бр.
'187
объявили ил, что они останутся целы, и приглашали их пить мировую 1).
На этот раз пирушка была в доле Четвертинского. Бедные, дрожащие дворяне
должны были сидеть за столом с мужиками и притворяться веселыми. Сначала все шло
хорошо, но спустя немного разговор стал живее, потом с обеих сторон пьяные
отпускали двусмысленности, потом поднялся шум, наконец началась ссора и драка.
Тогда другие козаки, на вид спокойнее и трезвее, стали как будто разнимать
неполадивших и под этим предлогом выводили шляхтичей на двор и там рубили им
головы а). Таким образом дошло дело до самого владельца, Четвертинского. Как только
его вывели, толпа его подданных бросилась на него, и один из них, ремеслом мельник,
привел связанного князя ко нвю и топором отрубил ему голову 3). По сказанию
современника, мятежники убили детей Четвертинского, а жена его досталась, как
лучшая добыча, самому полковнику Остапу. Польская летопись говорит, что она
согласилась быть женою его для того, чтоб спасти жизнь свою. Обстоятельно
неизвестно, как это случилось, но Остап не взял ее наложницею, а обвенчался с нею.
«О, несчастный брак!—восклицает польский летописец:—подлый хлоп поклялся
княгине в супружеской верности! знатная пани должна угождать грубияну» 4). По
другому известию, переданному одним современником из Львова, в деле под
Тульчином участвовал Максим Кривонос, самый жестокий из предводителей загонов.
Народное предание считает его характерником, то-есть чародеем, которого не брала
пуля. Сперва он выказал себя в Переяславле, перебил там иудеев и поляков, перешел па
правый берег Днепра, прошел 'за Буг, взял Ладыжин, Бершад, Верховку,
Александровку, везде истребил католиков и иудеев, 20-го июня подходил к Тульчину и
отошел от него, а 21-го июня козаки явились туда в большом числе: военные люди,
находившиеся в замке, вступили в бой и были обращены в бегство. 22-го июня козаки
взяли тульчинский замок приступом и перерезали в нем всех, не разбирая ни пола, ни
возраста: тогда погиб и Четвертинский, а вдова его сделалась женой козака. О пирушке
не говорит это известие. Русские изливали свою месть и над отошедшими из мира сего
врагами: вытаскивали из гробов трупы и кости и разбрасывали 5).
Ганжа с своим загоном сошелся с начальником другой толпы, Кривошапкою.
Удалые пошли по Подоли. К ним приставало такое множество мужиков, что поляки
считали их тысяч до восьмидесяти. «Вся эта сволочь, – говорит современный поэт
польский,—состояла из презренного мужичья, стекавшагося на погибель панов и
народа польскаго». Были взяты города: Красный, Брацлав. 7-го июля Кривонос взял
Винницу ®). Нигде не было отпора. Везде избивали шляхту и жидов; по всей Подоли,
до самой Горыни, панские замки, города, местечки лежали в развалинах; кучи гнивших
тел валялись
1) Pam. о -wojn. kozac. za Chmieln., 10.
2) Pam. о wojn. kozac. za Chmieln.
3) Ист. о през. бр.
4) Pam. о wojn. kozac. za Chmieln., 10.
5) Рук. И. П. Б. разнояз. № 5. Misc. F. Л« 63.
6) Wojna dom. 4. I, 16.—Рукоп. Ii. II. Б. разнояз. F. № 6.
188
без погребения, пожираемые собаками и хищными птицами; воздух заразился до
того, что появились смертоносные болезни 1). Дворяне бежали толпами за Вислу, и ни
одной шляхетской души не осталось на Подоли 2).
Разом с Ганжою свирепствовали другие загоны, между которыми особенно
выказывались загоны Половьяна и Морозенка. О первом осталось предание, что когда
ему случалось поймать панну или жидовку, то он сдирал у ней с шеи полосу кожи и
говорил, что это ей козаки подарили алую ленту (чорвону стричку). Морозенко был так
страшен, что о нем говорили будто ляхи боятся его более мороза.
Но вот среди панического страха, овладевшего поляками, пошел на восставший
русский народ Вишневецкий.
Это был князь Иеремия. Род его происходил от Ольгерда: оттого к фамилии
Вишневецких прибавлялось прозвание Корыбут, по имени Ольгердова сына,
родоначальника этого дома. До эпохи перерождения южнорусского дворянства
Вишневецкие были защитниками православия. Один из его предков был гетманом
Козаков и впоследствии потерпел мученическую смерть в Царьграде за веру. Отец
Иеремии, Михаил, до конца жизни исповедовал православие; гроб его до сих пор виден
в деревянной православной церкви в Вишневце. Молодой Иеремия был сначала также
православным, но отдан для воспитания дядею в львовскую иезуитскую академию.
Монахи воспользовались юностью магната, внушили ему расположение к
католичеству, а православие выставляли с дурной стороны. Иеремия переменил
религию и' сделался ревнителем римского католичества. В молодости он
путешествовал по Европе, а в 1634 году воротился в отечество. Владея огромными
имениями в Червовой Руси, на Волыни и в Украине, особенно в нынешней Полтавской
губернии, он принялся с жаром вводить католичество, построил в Прилуках
доминиканский монастырь, костелы в Лубнах, Ромне, Лохвице, поощрял единоземцев,
переходивших в католичество, и гнал схизматиков, как называли поляки православных.
Такой фанатизм нравился полякам. Иеремия поддерживал к себе уважение и другими
качествами. Он,—говорят поляки,—смолоду не знал ни Бахуса, ни Венеры, с
твердостью переносил лишения, вел простой образ жизни; честолюбивый, гордый с
равными, ласковый с низшими, содержал бедных шляхтичей на своем иждивении и не
скупился на свое надворное войско, которое оттого было к нему привязано. Гордый и
своенравный, он мало уважал и чужую собственность, и закон. Не довольствуясь'
неизмеримым пространством своих владений он, как было уже сказано, отнял у
Казановского Ромен и принудил Владислава нарушить данную последнему
привилегию. То же сделал он с Конецпольским. Покойный коронный гетман владел
Гадячем в качестве королевщины. Перед смертью Конецпольский выпросил у короля
привилегию на Гадяч своему сыну Александру. Вишневецкий сделал наезд на Гадяч и
присвоил его себе. Его «служебникъ» Машкевич в своем дневнике говорит, что и
Вишневецкий выпросил у короля привилегию на Гадяч, и король, давши прежде
Конецпольскому, дал в другой раз то же самое Вишневецкому: это известие
*) Из современ. рукоп. стихотвор. неизвестн. соч.
2)
Раш. о wojn. kozac. za Chmieln.
189
может быть и справедливо, потому что Владислав действительно делал подобное,
но также может быть и вымышлено в оправдание своего патрона, тем более, что в
других современных источниках овладение Гадячем называется просто наездом. Это
возбудило вражду Вишневецкого с Конецпольским, которые находились между собою в
свойстве, будучи женаты на родных сестрах. Конецпольский искал судом на
Вишневецком. Вместе с тем он обвинял его в самовольном обращении хорольского
староства в свое дедичное имение. В 1646 году Вишневецкого позвали к ответу на
сейм, но он не явился, отговариваясь болезнью. На следующий год, на сейме же,
Конецпольский требовал, чтоб он присягнул, что действительно был болен.
Вишневецкий так разозлился, что, собрав свою дружину из четырех тысяч, с которою
прибыл на сейм, грозил изрубить Конецпольского и всех, кто будет за него, хотя, бы и
самого короля. Король и сенаторы упросили Конецпольского не требовать присяги;
дело их было разобрано и отослано в ассессорский суд, который нашел, что Гадяч, по
всем правам, принадлежит Конецпольскому, а хорольское староство неправильно
обращено в дедичное владение 1). Иеремия Вишневецкий был неумолим к врагам. Во
время войны с великоруссами он так разорял великорусские украинные города и села,
что великоруссы прозвали его Налеем. Еще ббльшую жестокость оказывал он над
козаишга, после укрощения их мятежей. Самые ужасные казни выдумывал он и чрез то
пришел в крайнее омерзение у русских; особенно ненавидели его духовные,
восстановляли против него народ, указывали как на отщепенца и изменника. Не раз
жизнь его была в опасности, и всегда, как только удавалось ему освободиться от беды,
он не думал, подобно другим магнатам, усмирять недовольных ласкою. Он не терпел
двойственной политики: открытый во вражде и дружбе, он держался правила
истреблять без милосердия врагов 2).
Когда Хмельницкий поднял войну, Иеремия жил в Лубнах, любимом своем имении.
Услышав о мятеже, хлопы составляли загоны и бежали к Хмельницкому. Вишневецкий
собрал до восьми тысяч шляхтичей, живших в его владениях, из которых, впрочем, не
все были надежны 3); он разсеевал загоны и всех, попадавшихся в руки, казнил
жестоко; в каждом городе и селе ставили на рынках виселицы, виновных вешали,
сажали на кол, рубили головы *). Разгоняя таким образом шайки, Вишневецкий дошел
почти до Переяславля и намеревался перейти на другую сторону Днепра, чтоб
поспешить на помощь Потоцкому 5), но услыша, что Переяславль возмутился и
Кривонос е десятью тысячами готовится поразить князя в), возвратился назад, и тут, на
обратном пути, недалеко от Березани, явились к нему шесть Козаков с письмом
Хмельницкого, в котором предводитель Козаков извещал князя о поражении польских
гетманов под Корсуном, просил не
Н Bog. Maszk. Zb. Раш. о dawn. Polsce, У, 59.—Раш. Albr. Rad., II, 264.
2)
Korona Polska, przez Kaspra Niesieckiego, t. IY, о Wiszniewieckicli.
3) Памяти, киевск. комм., I, 3, 26.—Latop. Jerl., 66. d) Памяти, киевск. коми., I, 3, 157.
5)
Лет. Вел., I, 30.
°) Памяти, киевск. коми., I, 3, 29.
190
оскорбляться этим и не начинать неприятельских действий против русских.
Вишневецкий, вместо ответа, приказал посадить на кол посланников Хмельницкого. На
дороге, между селами Войтовым и Филипповым, был исполнен этот приговор х).
Воинственный князь негодовал на тех дворян, которые от страха готовы были мириться
с козаками. Побрякивая саблею, он восклицал: «Вот чем следует удалить Козаковъ» 2).
Услыша, что под Лубнами собираются мятежники, князь поспешил назад; в Лубнах
оставалась супруга его, Гризельда, дочь Фомы Замойского, которую он нежно любил. С
часу на час разгорался мятеж в окрестностях: положение Вишневецкого было
небезопасно; из собственной дружины его осталось только уже три тысячи 3).
Собравшись наскоро, Вишневецкий с семейством и с пятнадцатью слугами 4) выехал из
Лубен, навеки попрощавшись с ними и заплакав о потерянных маетностях, по
замечанию' летописца 5). В Киеве переправиться уже было невозможно: Вишневецкий
переправился чрез Днепр в Любече и отправил княгиню с сыном в Вишневец чрез
Полесье, при вооруженной страже, со множеством католиков обоего пола, спасавшихся
от восстания 6). В Любаре пристала к нему толпа украинских шляхтичей, убежавших из
своих маетностей при слухе о козацких восстаниях 7). Затем Иеремия несколько дней
пробыл в Житомире, куда стеклись оставшиеся в русской земле шляхтичи на сеймик.
Вишневецкий своим примером и убеждениями поддержал в них падающий дух,
увеличил свой отряд новыми охотниками, дал ему правильное разделение и, при
содействии киевского воеводы Тышкевича', сделал постановление о сборах с повета
для содержания войска; а пока нужные для того деньги могли быть собраны с поселян,
дал заимообразно собственных несколько тысяч злотых 8). Отсюда он, как русский
воевода, послал универсалы во Львов, главный город своего воеводства, и убеждал
тамошнюю шляхту вооружиться и спешить на выручку Речи-Посполитой; извещал, что
скоро на Польшу нападет огромная орда с султанами Нуреддином и Калгою и с самим
ханом 9). Потом, услыша, что Кривонос отправлен против его имений, Иеремия
обратился в глубину Украины правого берега; на дороге ему предстояло местечко
Погребище.
Жители составляли загон; из соседних сел стекались хлопы; священники ободряли
их; никто не ожидал нападения – и вдруг налетел Вишневецкий. Все попались в его
пуки; князь сажал на кол, тиранил мучительно и виновных и невиновных 10), особенно
мучил священников, «ничтоже со-
1)
Летоп. Велич. I, 79.
2)
Histor. ab. exc. Wlad., IV, 22.
3)
Летоп. Велич., I, 49.
4)
Рук. Имп. П. В. разнояз. ист. F. № б.
5)
Ист. о през. бр.
6)
Летоп. Велич., I, 26, – Иетор. о през. бр. – De reb. gest. contra cos. 67.– Poch.
wojenn. slaw.
7) Jemiolowsk. pamietnik., 4.
8) Latop. Jerl., 60.
9) Рукоп. И. П. Б. разнояз. ист. f. .N» 5.
10) Летоп. Величка, I, 95,—Рат. о wojri. kozac. za Chmieln., 12.—Wojna dom.
1, 17.
191
гревшихъ», по замечанию русского летописца им просверливали буравом глаза 2).
Вышедшп из Погребища, князь очутился среди разгара восстания. Все кругом
волновалось. Вишневецкий послал шляхтича Барановского в Немиров, свою
маетность, требовать провианта для войска, а сам между тем стал в Ободном 3).
Барановский подошел к городу, увидел, что ворота заперты. Немировские пьяницы
и повесы, как называет их летописец, вышли на вал и закричали ему: «Идите прочь! уж
тут нет лядского духа: не знаем мы твоего пана! Есть у нас другой пан —
Хмельницкий» 4). С таким ответом воротился Барановский.
Вишневецкий разъярился, услыша, что рабы его более не повинуются ему, и тотчас
с дружиною отправился под Немиров. Вишневцы выбили деревянные стены, вырвали
колья и ворвались в местечко. Священники били сами в набат; мещане и козаки
защищались отчаянно, но не устояли против княжеской дружины: храбрейшие легли в
сече, а те, которые были потрусоватее, побросали оружие и попрятались в погребах, по
чердакам домов. Князь въехал в Немиров.
Мещане думали как-нибудь умилостивить разгневанного владельца, выползли из
своих закоулков, как выражается летописец, и, дрожа от страха, пришли к владельцу.
«Мы невинны,—говорили они,—были здесь злодеи козаки; они – изменники, они так
отвечали Барановскому, а мы ничего не знаем, не ведаем. Помилуй нас! Готовы дать,
что прикажешь!»
«Подайте мне виновных!» кричал Вишневецкий и на другой день приказал
собираться всему городу. Испуганные мещане, пытаясь как-нибудь спастись, указали
на тех, которые их ободряли.
Вишневецкий приказал мучить кого только подозревал. Немпровцам вырывали
глаза, распинали, растесывали их пополам, сажали на кол, обливали кипятком и, кроме
того, употребляли такия муки, говорит летописец, каких и поганые не могли выдумать.
Вишневецкий присутствовал при казнях п находил какое-то удовольствие. «Мучьте их
так, чтоб они чувствовали, что умирают!» кричал он в исступлении 5).
Утром приказал князь собрать всех оставшихся мещан. «Виновные наказаны, —
сказал он,—я вас прощаю; служите верно и узнаете мою милость».
Забрав провиант, князь уехал из Немирова и оставил в местечке двести драгунов.
Едва только немировцы успели сосчитать и оплакать замученных родных и друзей, как
снова стали сноситься с козаками и тайно послали к вышедшим из Врацлава козакам,
умоляя поспешить к ним на помощь. Козаки пришли. Мещане отворили им ворота и
бросились вместе с ними
*) Истор. о през. бр.
2) Памяти, киевск. коми., I, 3, 157.
3) Рат. о wojn. kozac. Chmieln., 12.—Wojna dom. H. I, 17.
4) Рат. о wojn. kozac. za Cbmieln., 12.—Летоп. Величка, I, 95.
5) Pam. о wojn. kozac. za Chmieln., 12.—Истор. о през. бр.– Hist. ab. exc. Wlad., IV,
22.
192
на драгунов, которые, не желая отдаться на муки русским, ожесточенным за
погибель своих братьев, защищались отчаянно и все пали в сече; только один спасся.
Немиров в другой раз признал господином Хмельницкого :). Вишневецкий в то время
уже готовился идти на Кривоноса, как вдруг узнал о новом отпадении Немирова.
«Теперь, – говорил он,—я накажу их так, что и свет еще не слыхал такой кары», и
готовился идти к Немирову.
Но на этот раз спаслись мещане. На дороге прибежал к Иеремии киевский воевода
Тышкевич 2), из числа магнатов в Украине, производивший, подобно многим, род свой
от православных предков. Отец его переменил веру, а сын стал горячим католиком.
Получив воеводство киевское в управление, он старался распространить в нем
католичество и унию, заводил иезуитские училища, бернардинские и доминиканские
монастыри, обращал насильно православные церкви в унитские, принуждал людей к
унии 3). Мятежники, мстя вообще всем дворянам за притеснения, особенно
преследовали тех, которые оскорбляли русскую веру. Кривонос, разграбив несколько
имений Вишневецкого, ворвался в маетность Тышкевича Махновку. Козаки разорили
там кармелитский монастырь, выманили хитро коменданта замка, Льва, и нагнали на
засаду. Жолнеры едва пробились назад в замок и дали коекак знать Тышкевичу в
Бердичеве; старый воевода обратился к Иеремии и умолял его поспешить для обороны
Махновки. «Чернь ругается над святынею,—извещал он,—едва-едва защищается
замок; парканы не надежны; может быть уже его взяли!»
Иеремия немедленно обратился к Махновке и пришел к ней тогда, когда козаки уже
разрушили деревянные укрепления; разломаны были ворота, надворная команда
выбилась из сил. Вдруг Вишневецкий ударил на пехотинцев сзади. Увидя помощь,
сильнее стали напирать бывшие в замке жолнеры... как вдруг, во мгновение ока,
бросается на Вишневецкого сзади Кривонос с конницею; он стоял неподалеку и
поспешил выручить пехоту. Пехота, ободренная тем, пустила сильный залп, и в
сумерках чуть было сам Вышневецкий не погиб: Кривонос лично гонялся за ним и едва
было не проколол его копьем. Князь принужден был приказать спешиться драгунам и
сражаться, отступая. Битва шла до самой ночи. Вишневецкий надеялся поправить дело
на другой день, но Тышкевич убеждал воротиться назад, представляя, что войско
изнурено и что сражаться опасно. «В самом же деле,—говорит летописец, – он боялся,
чтоб в сражении не сожгли его гумен, куда отряд пробился, отступая; да притом он не
хотел раздражить слишком Козаков, чтоб не навлечь на себя горшей беды». Козаки
обратились тогда снова на Махновку, взяли замок и сожгли его, а жолнеров истребили
вместе с комендантом. Иеремия отступил на другой день и стал отдыхать в Грыцове 4).
1) Летоп. Велич., I, 96.—Истор. о през. бр.—Wojna dom. Ч, I, 18.
2)
Раш. о wojn. kozac. za Cbmieln., 12.—Bell, scyth. cos., 25,—Pochodnia wojen.
slawy.
3)
Korona polska, t. III, о Tyszkiewiczacb.—Летоп. Самов., 10.
4) Летоп. Велич., I, 96.—Pam. о wojn. kozac. za Cbmieln., 13.—Истор. о през. бр.—
Wojna dom. Ч. I, 18.—Latop. Jerl., 68.—De rebus, gestis contra cos. 59—61.– Poch. wojen.
slawy.—Рук. И. И. Б. разнояз. F. Дг 5.
193
Здесь прибежала к нему толпа шляхтичей из Волыни. Разогнанные из домов, они
собрались-было в местечке Полонном, но, слыша об ужасной силе Козаков, не
надеялись устоять и прибежали к Иеремии просить у него войска, чтоб спокойнее
сидеть, как они говорили. «У меня нет войска,– отвечал он,—мои люди изнурены до
крайности, по целым дням ходят не отдыхаючи». Между тем он послал к двум панам,
Корецкому и Осинскому, приглашать биться вместе с ним против неприятеля: паны
вышли с своими отрядами, но не знали, чтб им делать, ибо должны были повиноваться
князю Доминику Заславскому, которого тогда назначили начальником: он требовал их в
Заславль, а потому они и отвечали Вишневецкому, что не имеют гетманских
приказаний. Князь оскорбился. «Они ждут гетманских приказаний,– говорил он,—а
кто-ж ил даст? Разве они не знают, что гетманы в плену? После этого следует и мне
оставить войну, да отыскать себе спокойный уголок, а то еще скажут: зачем я начал
войну без гетманских приказаний?» Иеремия рассудил, что если он долго будет
драться, то придет в бессилие, потому что ему никто не помогает. Он отправился в
Константинов, откуда хотел ехать в Збараж и там, по крайней мере, хотел дождаться,
чем кончатся переговоры с козаками; но вдруг догоняют его. те самые паны, которые
отказали в помощи. «Прости нас, – говорили они,—что не послушали тебя. Прими нас
под свое начальство. Ужасная сила идет на тебя». Причина такой скорой готовности к
битве была та, что Кривонос, соединясь с загоном Половьяна, бросился прямо на
Корецкого и Осинского. Иеремия сначала не хотел-было опять начинать войны, но
после рассудил, что все равно придется встретиться с козаками, если они идут на него,
и, уважая просьбы знатных панов, принял их с отрядами и воротился *).
Кривонос, тем временем, напал на Полонное, взял это местечко, при помощи
тамошних православных жителей, и произвел в нем ужасное кровопролитие2);
перерезали всех шляхтичей, которые там искали обороны 3), а иудеев, по
преувеличенному известию современника, погибло там до десяти тысяч 4). Оттуда
козаки бросились на Звягель (Новгород-Волынский)5). Сам Кривонос пошел на
Старый-Константинов на встречу Вишневецкому 3).
Вишневецкий сошелся с ним недалеко от города 25-го июля, при каком-то пруде,
через который шла плотина. Он отрядил заранее Осинского в засаду, а в час пополудни
выслал на плотину отряд драгунов н отряд пеших, и поставил пехоту так, что она была
закрыта конницею. Кривонос думал, что у Вишневецкого только и воинов, что стояли
впереди, против него.—«Ну-те, молодцы-атаманы,—кричал он, ободряя своих,—ну,
Половьяне, Остапе, Демко, от теперь маемо в руках Яремку. Уже мы сих ляхив всих
собак возьмемо, таки потопком через их пийдемо!» Козаки с криком, гамом, летят
прямо на драгунов; те не двигаются с места; ко-
1) Раш. о wojn. .kozac. za Chmieln, 13,—Annal. Polon. Cl., I, 50.
2) Histor. ab. exc. Wlad., 22.—De rebus, gest. contra cos., 60.
3) Рук. И. П. Б. разнояз. № 5.
4) Окружи, пос.ч.'раввина.—De rebus, gest. contra cos., 61.
5) Annal. Polon. Cl., I. 50.
6) Pam. о wojn. kozac. za Chmieln., 13.—Poch. wojen. slawy.
H. КОСТОМАРОВ, KH. IV.
13
194
заки бросаются на них, драгуны только слегка отстреливаются; козаки
разгорячились, силятся сломить неприятельские ряды, хотят как будто съесть живьем
неприятелей, по выражению очевидца '), а сами потеряли порядок: это заметил
Иеремия, тотчас крикнул,—драгуны дали залп и расступились, а пехота неожиданно
выскочила на неприятелей. Они бежали словно обваренные, говорит польская летопись
2); а между тем Осинский бросился на них сзади 3); Козаков преследовали до самого
табора; но когда достигли онн табора, то дали отпор и, в свою очередь, довольно с
большим уроном заставили Вишневецкого отступить *). Однако Барановский привел в
лагерь пленного Половьяна. Князь приказал его пытать, и Половьян сказал: «Я прислан
от Хмельницкого с приказом Кривоносу не начинать без, гетмана ничего. Четыре дня
назад мы получили от Хмельницкого из Наволочи письмо, в котором он велел нам
забавлять вас до тех пор, пока подойдет он с огромными силами».
Паны тогда рассуждали так: «с Кривоносом-то мы сладим, но если придет
Хмельницкий, а у него тысяч пятьдесят, то нас побьют; свежих сил нет у нас, хлеба
мало, и лошадям недостает корма. Лучше отступимъ» 5).
И так паны отступали к Кольчину; но когда достигли Россоловец на Случи,
Кривонос, на другой день, догнал их во время переправы е). Вишневецкий снова
обманул его: поставленный спереди плотины небольшой отряд побежал, как будто
испугавшись неприятеля; козаки преследуют их, вступают на плотину: к большой их
радости, отступают и те, что стояли за плотиною. Тогда русские бросились все толпою
за ними, думая, что теперь перебьют поляков без сопротивления; но когда одна часть
перешла озеро, а другая толпилась на плотине, бегущие оборачиваются, и князь
приказывает «попотчивать их оловянными пилюлями». Из всех ружей грянули козакам
в лицо; они остановились. Князь приказывает «пустить им крови саблями», и поляки
начали их рубить 7). «И так тогда поразили хлопство,—говорит очевидец,—что все
поле покрылось трупами, как белым сукномъ». Они забрали у Кривоноса четыре
пушки8), полонили нескольких старшин и взяли двадцать семь значков; но в двух
сражениях потеряли и своих до четырех тысяч 9). Князь приказал снова пытать
Половьяна, чтоб добиться у него правды о Хмельницком. Козак уверял, что
Хмельницкий недалеко и орду за собою ведет, а войску козацкому числа нет. «Мы
хотим, – говорил он, – пробраться за Билу Рику», так называли Вислу козаки 10).
Поляки в самом деле думали, что они угольями заставили козака высказать правду п),
но Половьян лгал для того, чтобъ
Ч Памяти, киевск. комм., I, 3, 181.
а)
Рат. о wojn. kozac. za Chmieln., 13.
3)
Annal. Polon. Clim., I, 50.—Histor. panow. Jan. Kazim., I, 0.
*) Летоп. Велич., I, 97.
5)
Памяти, киевск. коми., I, 3, 185.
б)
Annal. Polon. Clim., I, 51.—Histor. Jan. Kaz., I, 5.
4 Pam. о wojn. kozac. za Chmieln., 13.
8) Памяти, киевск. комм., I, 3, 197.
з)
Летоп. Велич., I, 97.
10) Annal. Polon. Clim. I, 51.—Pam. do panow. Zygm. III, Wf. 1У i Jan. Kaz. II, 10-
и)
Памяти, киевск. комм., I, 3, 189.
195
заставить Вишневецкого удалиться и открыть свободное поле для своих братий ва
ВОЛЫНИ. ЕГО, измученного, обожженного, посадили на кол, но он сделал свое дело:
Вишневецкий отправил артиллерию в Тучин, а сам обратился с легким войском к
Константинову; но услышав, что его Гризельда ушла из Вишневца в Збараж, сам туда
отправился и оставил восстанцев продолжать разорения ). Козаки взяли Корец и
Межирич и истребили там, по обыкновению, все жидовское и шляхетское. Межибожье,
принадлежавшее Сенявскому, взято было после сопротивления, и пощажено, из
уважения к Сенявскому, который почему то прежде заслужил особое снисхождение к
себе русских 2). Кривонос, по приказанию Хмельницкого, пошел на Вар (ныне местечко
Могилевского уезда). Жители этого местечка просили Козаков избавить их от
ненавистного гарнизона, помещенного в городе Вишневецким. Этот гарнизон состоял
под начальством шляхтича Вроневского, который своим обращением довел их до того,
что они, даже не дождавшись Козаков, взбунтовались и принудили его уйти. На место
Вроневского явился Андрей Потоцкий, сын гетмана, и расположил своих двести
драгунов частью в замке, частью в городе около замка. Кривонос явился к Бару,
сухопутьем и водою, в первых числах августа, едва только Потоцкий успел войти туда.
Православные мещане тотчас отворили козакам ворота; драгуны поспешили укрыться
в замок. Козаки перерезали, перетопили, перемучили неслыханным образом
шляхтичей, католиков, духовных, особенно иезуитов и иудеев; последних нигде
столько не погибло, как в Варе; единогласное сказание историков простирает число
погибших там иудеев до пятнадцати тысяч. Ожесточенные русские сдирали с них кожи
с живых. После того они осадили замок. Напрасно немцы палили в них из пушек;
огражденные так называемыми гуляй-городынами, русские лезли под дым, приставили
к стене лестницы и ворвались в замок. Драгуны погибли: большая часть пала в сече,
остальные сдались и были замучены неистовою толпою. Только Потоцкий и
знатнейшие паны были пощажены и отосланы к Хмельницкому, за что Кривонос
получил от него в подарок саблю и вошел в большую милость. Из Вара он отправился в