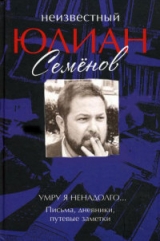
Текст книги "Неизвестный Юлиан Семенов. Умру я ненадолго..."
Автор книги: Ольга Семенова
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 84 (всего у книги 85 страниц)
Произошло этого из-за того, что Вы, вероятно, не слишком начитанны. Литература – это каждодневный, изнуряющий труд, здесь сомодеятельность не вывезет.
Это – как солдатская служба: всего себя надо отдавать без отдачи, только тогда 101что-нибудь может получиться. И потом – надо иметь что сказать людям.
А Вы просто описываете Ваш последний день перед уходом в Советскую Армию, и интересно это только Вам да и той девушке, которую Вы вывели под именем Светланы. А литература должна интересовать каждого – только тогда это будет литература, а не веселое времяпрепровождение. Советую Вам побольше читать.
Горький писал: «Любите книгу – источник знания». Это мудрые слова мудрого человека. Помните их, сле– дуйте им. Не торопитесь писать – добрый совет Вам. Пишите только тогда, если Вы не можете не писать и будете уверены, что сказанное Вами – открытие, без которого люди жить не смогут! Опять-таки сошлюсь на при– мер Горького: он стал писать, когда накопил жизненный опыт, когда он заговорил с читателями о том, что до него было неведомо.
Еще советую: не посылайте свои рассказы наобум: кого увидите в редколлегии.
Если Вы станете побольше читать, у Вас определятся свои симпатии к тому или иному писателю – с таким человеком Вам имеет смысл поддерживать связь, у такого человека Вы сможете чему-то поучиться.
Желаю Вам всего хорошего, хорошей службы в Армии.
С уважением
«МЕТР И РИТМ, КОТОРЫЙ НАМ НУЖЕН»
(Рецензия на книгу Б. Иванова «Метр и ритм»)
1974 год
Бранить литературную критику стало занятием модным.
Подчас это справедливо – особенно если критик берет себе право выставлять баллы тому или иному произведению, повторяя очевидное; подчас – вовсе несправедливо.
Для меня, например, злая, но доказательная статья дороже панегирика, если я нахожу в ней нечто такое, что открывает для меня неведомое, что объясняет мне – меня.
(«Мне», «меня» в данном случае, смею думать, обобщение, ибо любой литератор хочет получить от критика разбор не только очевидного, зримого, но и того, чего нет в его произведениях, но что – по логике искусства и жизни – быть в нем должно.)
Однако сейчас нет-нет да появляются книги особого рода: критика – не критика, литературоведение – не литературоведение... Я бы определил такие книги, как некий паллиатив очерка, новеллы, анализа; паллиатив, который «настоян» на любви автора к своим героям, любви открытой, атакующей.
К такого рода книгам мне бы хотелось отнести последнюю работу Бориса Иванова «Свой метр и ритм». Это ряд портретов деятелей нашей литературы и искусства. Особенно мне хотелось выделить новеллы о Вадиме Кожевникове и Василии Кулемине.
Написанная с доброй грустью—во временном уже отдалении – зарисовка родной нам всем «Комсомолки» военных дней, быстрые, карандашные портреты Юрия Жукова, Бориса Буркова, Якова Хелемского, и на фоне этого – столкновение с замечательной прозой Кожевникова «Март – апрель», прозой особой, пронзительной, современной и сегодня, может быть даже особенно по-сегодняшнему современной.
Борис Иванов не дает оценок. Он не присваивает себе права судить: он добро и искренно рассказывает о мастере, с которым жизнь сводила его в Москве, Нью-Йорке, Каире. Из зарисовок рождается портрет Кожевникова. Человек и литератор, личность и художник – вопрос сложный, особый вопрос, и Борис Иванов не старается «жать», он бережет краски, он нарочито «сушит» себя: правда не любит декоративности.
Так же тонко и до щемящей боли грустно написан Василий Куле-мин, человек, которого нельзя было не полюбить, узнай его хоть на час. Автор рассказывает историю прелестную, историю горькую о том, как Василий Кулемин смог своим поэтическим СЛОВОМ победить человеческую жестокость, глупость, ограниченность.
Читая эту новеллу Иванова, названную точно и глубоко: «Не убивайте неожиданность», каждый, кто знал Василия Кулемина, не сможет не поблагодарить его друга, Бориса Иванова, за то, что он так по-настоящему, по-фронтовому, по-мужски хранит память о нем.
В книге собраны эссе о Борисе Федорове (о нем, пожалуй, можно было бы написать и побольше и пошире – самобытность этого поэта требует того), о наших художниках и кинематографистах. Фамилии, которые мелькают в прессе, в застольных беседах и коридорных пересудах, обретают человеческую явь, будь то портрет Ильи Копалина, Ивана Семенова или Ильи Глазунова.
«Свой метр и ритм» написана человеком неравнодушным и открытым, человеком скромным и добрым, который щедро отдает читателям свою любовь, отстаивая при этом свою позицию писателя – бескомпромиссную к противникам и открытого товарищам.
«КЛЮЧ ПОЗНАНИЯ»
(Рецензия на книгу «Японские записки» Н. Федоренко)
Видимо, этот таинственный ключ – предположи на миг его реальное существование – должен соответствовать символу «уважение», если опять-таки предположить существование такого рода символа.
Я подумал об этом, прочитав «Японские записки» Николая Федо-ренко, книгу талантливую, умную, добрую, «настоянную» на высоком уважении к этой далекой стране, к ее народу, истории, искусству, традициям. Подумал я еще и о том, что современный читатель, отбрасывающий книгу, лишенную истинного знания, глубины, информации, говоря языком научно-технической революции, «записки» Николая Федоренко о Японии прочтет с неослабным интересом оттого, что незнаемое становится ясным, далекое – твоим.
Ни в одной строке книги Н. Федоренко не «подделывается» под незнающих, ему чуждо примитивное популяризаторство – он приглашает читателя к соразмышлению, сиречь к знанию. Рассматривая, например, вопрос о «вежливой речи», вопрос, казалось бы, сугубо лингвистический, Н. Федоренко не боится понудить читателя разобрать восемь форм выражения благодарности, каждая из которых имеет конкретную значимость.
Вы будете стараться понять, отчего в одном случае вы благодарите, произнося «канся итасимас!», в другом – «о рэй о масимас!», в третьем «готисо сама дэсита».
Оказывается, «о рэй о масимас!» есть форма выражения благодарности за подарок, а также за самую малую услугу, «не связанную с затратой физических усилий», в то время как третья форма может быть приложима лишь к благодарности за угощение.
Соразмышляя вместе с писателем, вчитываясь в тонко наблюденные детали этой главы, понимаешь, отчего Н. Федоренко привел слова японского философа: «Мысль о том, чтобы себя в речи унизить, а собеседника возвысить, не покидает мозг говорящего японца» (свидетельствую – истинно так!).
Книга в высшей мере интересно построена, в ее неторопливости заключен резерв прочности, то есть резерв знания. Писатель приглашает нас войти в дом академика Охора – выдающегося знатока японского языка.
Над крыльцом – большое новогоднее украшение «вакадзари», декоративная связка из огромного морского рака («оэби»), листьев папоротника, «комбу» (морская капуста), «дай-дай» (горький апельсин).
Охваченное пучком рисовой соломы – символ счастья и удачи. Всю церемонию входа в дом, взаимных приветствий, разувания опишет Федоренко, и в этом тоже будет открытие, потому что за деталью быта встает деталь национального характера.
Именно здесь, в доме академика Охора, мы узнали о том, почему у «каждого времени есть свое звучание, свои неповторимые мысли и особые краски эпохи». Федоренко рассказывает о «тайнах зодиака», о японском календаре, об истоках оракульской магии. Нет ничего парадоксального в том, что Федоренко серьезно и тщательно исследует проблему, казалось бы, пустяшную – как надобно сидеть.
Для нас, европейцев, сие, воистину, странно, но вы поймете, отчего писатель рассказывает об этом искусстве, когда прочитаете слова Охоры: «Чтобы понять некоторые особенности японского быта и обычаев, необходимо прежде всего сесть на пол, как это принято у японцев».
Он разъясняет: тайна приземистой посадки в основах японской архитектуры легко постигается, если на композицию японского дома смотреть не стоя, а сидя»...
Здесь же, в доме академика Охора, мы узнаем множество интересного и неведомого ранее о японских масках, которые скрывают или, наоборот, выражают печаль, счастье, боль.
Именно здесь мы заново исследуем страшный день шестого августа 1945 года, когда над Хиросимой и Нагасаки вырос первый ядерный гриб. В повествование, пронизанное блистательной японской и китайской поэззией, великолепными пословицами и поговорками, пуб– лицистика входит зримо, страшно, а потому логично: история мно– говекового развития противополагается исследованию вопроса: кто, почему и каким образом поверг в прах два древних, прекрасных японских города.
Так же органично в ткань литературно-художественного, научного исследования входит публицистика о рекламе, причем американской, которая явилась некоей прародительницей современной японской.
Книга эта написана изящно, с блеском, сказал бы я, ибо Федоренко известен как один из наиболее серьезных советских востоковедов. Не могу отказать себе (и читателю) в удовольствии привести одну (из многих) сценку: автор спрашивает гостеприимного хозяина, не пора ли ему – после горьковатого вина «тосо» – отправляться домой: уже поздно.
Академик весело объясняет гостю, что степень опьянения характеризуется тремя калибрами тигра: «катора» – маленький тигр, первая степень опьянения, «тютора», средний тигр и, наконец, «ото-ра», большой тигр, высшая форма опьянения.
– Не пора ли заблудшему «тигру» убираться в свое логово?
– Японский травяной напиток не производит впечатления на наших северных соседей. Не то что японцы, которые и от бамбуковой росы пьянеют.
– Металл проверяется на огне, человек – на вине.
– Вино начинается с церемоний, а кончается дракой, – в свою очередь заметил в том же ключе Охора-сэнсей.
Мы провели в доме академика Охоры вечер, но узнали о Японии так много, что порой не узнать и за всю жизнь...
Другой японский день, длинною в жизнь, автор предлагает нам провести вместе с Тосио-сан, послушать философа – его трактовку образов японок в литературе и живописи (особенно интересно он рассказывает о гравюрах Утамаро), его объяснение того факта, что в Японии, стране музыки, нет гармони, – все это интересно, наполнено несколькими смыслами (только так думает умный!), отмечено неповторимостью национального колорита в самом построении логики мышления.
Выделять какие-то отдельные главы, будь то история жемчуга, описание культа чая, исследование памятников Нара, никак невозможно, оттого что книга связана жгутом постоянного, «переливающегося» интереса.
Каждый, кто любит историю, философию, географию, эстетику, литературу, политику, найдет в книге Николая Федоренко поле для размышлений о нашем азиатском соседе – о Японии, такой талантливой, разной, и – во многом – еще непонятной стране.
«БЕСЫ В ЛОНДОНЕ»
(Рецензия на книгу Питера Райта «Spy Catcher»)
1987 год
Лучший способ привлечь внимание к книге, сделав его бестселлером, – наложить на нее запрет.
Так и случилось со «Spy Catcher» Питера Райта: в Великобритании его книгу покупают на черном рынке, нелегально, – беспрецедентный случай! Из Соединенных Штатов ее вывозят тысячами – хороший бизнес!
Вряд ли я бы стал писать рецензию на эту книгу, не наткнись на имя одного из подозреваемых Райтом в шпионаже: академик Петр Капица, сотрудник Розерфорда, один из учителей Нобелевского лауреата Андрея Сахарова.
Я горжусь тем, что Капица любил мои книги и фильмы, для меня была честь слушать его и говорить с ним – выдающимся ученым ХХ века. Капица – и шпионаж? Что это?
Мания преследования, которой заболел Райт в процессе ловли красных под кроватью? Преднамеренная клевета? Если ведущая ТВ-шоу Соня Фридман спрашивает, не шпион ли я, – ей об этом якобы сказал шофер такси в Лос-Анджелесе, русский эмигрант (очень важный источник информации), – отнесемся к вопросу зеленоглазой дамы с юмором, но когда речь идет о человеке, лишенном возможности ответить, – это не по-джентльменски.
Итак, почему же книга Питера Райта запрещена в Лондоне? Какие «государственные секреты» раскрыл автор? Систему установки английской контрразведкой микрофильмов во французском, кипрском или советском посольствах? Расшифровка кодов? То, как МI-5 понуждала английских девиц ложиться с «нужными иностранцами» в постель, – под объективы кинокамер секретной службы? Способы вербовки? Перипетии давней драки между SIS и CIA?
Каждый, кто внимательно читал Грэма Грина или Ле Карэ, смотрел фильмы Поллака («Три дня Кондора») или «Принц Домино» Стэнли Крамера, легко поймет, что «секреты» Райта уже давно не являются «государственными секретами».
Так почему же «Spy Catcher» запрещен в Лондоне?
Рискну выдвинуть версию.
Поскольку автор рассказывает, как МI-5 намеревалась начать рас– следование по «делу» Гарольда Вильсона, лейбористского премьера Великобритании, которого CIA (Mr. Angelton) считало «советским агентом», поскольку П. Райт признает, что ряд тред-юнионистских и лейбористских руководителей находились под наблюдением МI-5, так как английская контрразведка искала мoscow”s connections, поскольку книга посвящена «советскому проникновению», – каждый, кто прочтет ее (а теперь, после запрета, хотят прочесть все!), не должен голосовать за лейбористов, во-первых, быть осторожен в своей профессиональной активности, во-вторых, и, наконец, всегда помнить, что главной угрозой для Острова являются красные, которые давно и прочно обосновались в высших эшелонах власти Англии.
Книга вышла в свет после того, как Кремль выдвинул доктрину «нового платоновского мышления» – то есть взаимоуважительного диалога между Востоком и Западом.
Эта доктрина оказалась притягательной для тех, кто с надеждой думает о будущем и лишен той зашоренности, которая была рождена стереотипами времен холодной войны. А Питер Райт повторяет: «бойтесь русских!»
Недавнее выступление Маргарэт Тетчер в американской прессе о целесообразности сотрудничества Запада и Востока, – несмотря на различие социальных доктрин, – обрадовало меня.
Следовательно, запрет на книгу Райта, сделавший ее столь популярной, – есть политика тех «hardlikers», которые противятся развитию диалога. Так кто же они, эти «хардлайкеры»? Ответить на этот вопрос достаточно трудно. Подождем, пока выйдет в отставку очередной «охотник за шпионами».
А теперь несколько замечаний «личного плана».
1. Во время представления моей повести «ТАСС уполномочен заявить», только что выпущенной в США, некоторые журналисты спрашивали меня, действительно ли я верю, что люди «военно-промышленного комплекса» связаны с CIA и обладают правом влиять на операции разведки, конструируя тот или иной политический курс.
Я отвечал, что вполне допускаю такое вероятие. Журналисты (к счастью, далеко не все!) снисходительно улыбались. Предоставим слово «охотнику за шпионами»: «В то время, когда я познакомился с ним, Ротшильд возглавлял исследования Shell Oil Corporation, контролировавшей более 30 лабораторий в мире.
Он пригласил меня на ужин в свою элегантную лондонскую квартиру в Сент-Джеймс Паласе... Его связи с политиками, интеллигенцией, банкирами, гражданскими службами и вокруг были легендарны. Ротшильд был поражен моими планами в области научной модернизации MI-5... Ротшильд предложил мне несколько лабораторий Shell в пользование для MI-5».
Думаю, нет нужды напоминать читателям, кто такой Ротшильд. Думаю, нет нужды повторять, что термин «военно-промышленный комплекс» выдуман не мною, а президентом США Эйзенхауэром.
Так что книга Райта лишь подтверждает мою версию о настоящих контактах «военно-промышленного комплекса» с секретными службами.
2. «ТАСС» я написал в 1978 году, а в прошлом году закончил вторую повесть – «Межконтинентальный узел», являющийся продолжением «ТАССа».
В новой повести я уделяю много места делу шпиона Пеньковского, арестованного в Москве в 1961 году, хотя действие происходит в наши дни.
В процессе работы над повестью я тщательно проанализировал стенографический отчет судебного процесса над Пеньковским и пришел к выводу, что он «работал» не один, наверняка имел преемника.
Читая же Питера Райта, я понял, что он всегда подозревал Пеньковского, «коронного агента MI-5» – все это дело – «фокус русских». Питер Райт считает, что Пеньковский не работал ни на Лондон, ни на CIA, а всегда верно исполнял свой «долг советского гражданина».
В моей повести есть отрывок, являющийся, если хотите, правленной стенограммой моего собеседования с одним из высших офицеров КГБ, который принимал участие в «работе» с Пеньковским. Из него явно следует, что «двойник» так себя вести не может.
Поскольку «Межконтинентальный узел» был напечатан в Советском Союзе в 1986 году, задолго до выхода в свет «Spy Catcher», вряд ли можно заподозрить меня в том, что я, – конечно же под «давлением властей», – написал свою повесть в «пику» Райту.
3. Не без интереса я прочитал те страницы «Spy Catcher», кото рые посвящены покушению на Джона Ф. Кеннеди.
П. Райт осуждает CIA за то, что американские коллеги допускали «неконституционные меры» по отношению к перебежчику Носенко. Автор, однако, как и люди из CIA, по сей день не верит Носенко, считая, что тот вел свою «игру», для того чтобы «отвести от русских подозрения» по поводу Ли Харви Освальда, который несколько месяцев прожил в России.
Это, с моей точки зрения, был эпизод заговора тех, кто хотел сделать невозможным дружество между американцами и советскими, ибо память о талантливом президенте Кеннеди будет, словно пепел Клааса, постоянно стучать в сердца граждан США.
В 1975 году я проводил мое личное расследование обстоятельств покушения на DFK в Далласе, Нью-Орлеане и Мексико-Сити. В Техасе мне помогал бывший шериф Джим Бу. Мы нашли хозяйку дома, где жил последние дни перед покушением Ли Харви Освальд, – она рассказала мне больше, чем комиссия Worrena; мы нашли водопроводный люк на дороге, который, к моему удивлению, не был даже помечен в докладе Worrena, а это – идеальное место для снайпера.
В Мексико-Сити я убедился в том, как Освальда намеренно «светили», заставляя его посещать советское посольство и просить визу, в которой ему было отказано.
После того как замечательный американец Кеннеди пал жертвой разветвленного заговора, после того как арестовали Освальда, начался гул спекуляций о «руке Москвы». Потом, внезапно, спекуляции прекратились. Почему?
Потому что русские сразу проинформировали Белый дом об Освальде – о том его периоде, когда он жил в Советском Союзе, оставаясь гражданином США.
Белый дом убедился в том, что информация русских абсолютна. CIA ничто не могло убедить в нашей объективности – отсюда эпидемия подозрительности, которой заразился и автор «Spy Catcher».
Можно было бы написать исследование об этой книге – социологическое, историческое, этическое, медицинское. Глядишь, кто и напишет.
Я же ограничусь рекомендацией: каждый, кто хочет понять, как одержимая подозрительность калечит людей, с одной стороны, и как оперирует секретная служба в Лондоне, с другой, должен прочесть эту книгу. Она страшна своей поучительностью. Порою, читая П. Райта, я вспоминал «Бесов».
Мне становилось душно и тягостно.
ВЫСТУПЛЕНИЯ
Стенограмма выступления на съезде кинематографистов
Середина 1970-х гг.
CТЕНОГРАММА ВЫСТУПЛЕНИЯ НА ПЛЕНУМЕ ПИСАТЕЛЕЙ
1974 г.
СТЕНОГРАММА ВЫСТУПЛЕНИЯ НА СЪЕЗДЕ ПИСАТЕЛЕЙ
Вторая половина 80-х
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА СЪЕЗДЕ СОЮЗА
МОЛОДЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В 1990 ГОДУ
Стенограмма выступления на съезде кинематографистов
Середина 1970-х гг.
По-видимому, и в литературе и в кинематографе термин «придумал» будет чем дальше – тем больше исчезать. Я глубоко убежден, что в искусстве не надо придумывать. В искусстве должно думать и осмысливать увиденное. Нельзя научить человека писать романы и стихи – речь идет, естественно, о литературе, а не о графоманстве, которого, увы, весьма хватает на нашем культурном фронте. Нельзя научить человека придумывать сценарии или пьесы. Нельзя, да и не надо.
По-моему, успех может принести неистовая жажда видения и познавания мира, который вокруг нас. Плохо, когда говорят о художнике: «он – человек одной темы». Нельзя писать о тайге, не зная степи, нельзя по-настоящему понять пески Кара-Кумов, не пожив в Арктике. Всегда и во всем должно быть – «тепло против холода». Только тогда – восприятие будет отточенным и спокойным.
Нужны ли сценарные курсы и мастерские? Бесспорно. Путь к мастерству лежит через навык. Я отношусь к курсам сценаристов только с точки зрения некоей профтехшколы, где проверяется истинность таблицы умножения работой электронных машин. Но я так же глубоко верю, что нельзя писать сценарий, сидя в Москве и просматривая ленты мастеров мирового кино.
Было бы очень здорово, если бы слушателям сценарных курсов давали возможность сесть на самолет и с оператором и режиссером вылететь на ледник «Медвежий», или на перекрытие Енисея, или на десант пожарников, воюющих с таежными пожарами. Право, даже одна такая поездка даст великолепный заряд творческой одержимости.
Пусть на экран выйдет одночастный фильм, но зато он будет не фиксирующим, а объясняющим событие, он поднимется над хроникой, он будет не просто показывать, он должен будет, показывая, объяснять. Есть ли такая возможность?
Думаю, что есть. Стоило бы скооперироваться с телевидением, с хроникой, с научно-популярной кинематографией, и это очень обогатит тех, кто пока что занят просмотром лент в Доме кино и встречами с мэтрами нашего кинематографа. Говорят, что там учатся не школяры и не нервические мальчики. Очень хорошо.
Но Чехов, будучи признанным мастером, тем не менее ехал на Сахалин. А я думаю, у него и без этой поездки было что сказать. Но – тем не менее – ехал. По-видимому, это – от жажды познавательства и перепроверки уже узнанного.
Один мой приятель, талантливый молодой кинодраматург, как-то попросил: «Старик, подскажи, какой подвиг может сделать человек в тайге, где строят шоссейку поздней осенью?» Не надо подсказывать про подвиг.
Надо ездить за ним по стране. Ищущий – да обрящет. Имеющий глаза – да увидит. Мне не понятно, почему молодой кинодраматург, даже «имеющий что сказать», должен сидеть два года в Москве и работать над сценарием.
Если к кинодраматургии относиться как к равноправному разделу литературы – то тогда возникнет один вопрос.
Почему молодой писатель Георгий Семенов, или Анатолий Приставкин, или Георгий Владимов, или Владимир Амлинский, или Василий Аксенов – и это «или» можно здорово продолжить – считает невозможным просидеть даже месяца два без поездки к своим будущим героям, а молодые кинодраматурги на сценарных курсах считают, что им есть что сказать и надо только, чтобы им не мешали два года это свое затаенное высказывать.
Дальше. Если бы обратиться в ЦК ВЛКСМ, то, мне представляется, они поддержали бы молодых кинодраматургов и нашли возможность связать слушателей сценарных курсов с комсомольскими газетами в Красноярске, Магадане и Бухаре.
Право же, это был бы великолепный альянс, если содинить остро видящих людей с практической газетной работой, где можно видеть во сто крат больше, чем если сидеть в Москве и следить за жизнью страны только по хронике в газетах. Каждый день, проведенный на Абакан – Тайшете, даст кинодраматургу если не костяк будущего сценария, то уж эпизод – во всяком случае.
Каждый день, проведенный среди молодых вулканологов Камчатки даст кинодраматургу если не трех, то уж одного-то героя – во всяком случае.
Мне очень нравится традиция Фадеева и Эренбурга, Вишневского и Симонова. Это прекрасная традиция каждодневного поиска. Это традиция людей, утверждавших своим творчеством эпоху. Хорошо бы эту традицию творческой жадности в видении окружающего восстановить во всей ее полноте. Комната – плохая лаборатория для писателя.
Одна шестая земного шара – вот истинное поле для лабораторных поисков. Великолепный художник Петр Кончаловский однажды сказал мне: «Искусство – это очень просто. Это верный цвет на верное место». По-моему, блистательное определение искусства.
Если художник полон невысказанным, если он пишет не потому, что надо писать, а потому, что не писать он не может, если художник исповедует – по Пастернаку – такие строки, которые «нахлынут горлом и убьют», – он обязательно найдет верные краски и верное место им.
CТЕНОГРАММА ВЫСТУПЛЕНИЯ НА ПЛЕНУМЕ ПИСАТЕЛЕЙ
1974 г.
Мы живем в особое время – впервые в истории Европы наш континент не сотрясают войны уже в течение двадцати девяти лет – и это рекорд. …Особое время налагает на нас, литераторов, особые обязанности.
Мы живем в эпоху новых уровней – жизни, знаний, компетентности. Мы обязаны в творчестве своем соответствовать этим новым, растущим уровням – в этом, видимо, одна из главных задач этого пленума.
Литература – это всегда действие, это утверждение или отрицание идеи, явления, характера. Велеречивое описательство мало сейчас нужно – с этим сейчас справляются в бюро прогноза погоды, подкладывая текст под великолепные кинокадры весны или снежной стужи и нежную французскую музыку.
Действенность литературы не в описательстве, но в активной гражданской позиции.
Считают, что вражда и зависть – две стороны одной медали; вражда – недовольство выраженное, зависть – скрытая. Не стоит потому удивляться, что зависть столь быстро переходит во вражду.
Особенно это очевидно в той кампании антисоветизма, которая сопутствует разрядке напряженности и налаживанию долгосрочных экономических контактов между двумя системами. Причем происходит очевидное смыкание, некое пение на два голоса в микрофонах радио «Свобода» и радио «Пекина».
Если проанализировать отправные концепции наших идеологических противников, можно выделить занятный, по-своему новый лейтмотив: «Нет, мы не против советской литературы. Мы не против вас, потому лишь, что вы – это вы. Мы только скорбим о традициях советской литературы двадцатых годов!»
Пропагандистская машина наших противников работает, рассчитывая на то, что новое – это хорошо забытое старое. Стоит поднять подшивки берлинских, дайренских или лондонских газет двадцатых годов: тогда многие из тех, кто ныне «сострадает» нам с вами, травили советских писателей за предательство традиций русской литературы начала века; впрочем, тогда призыва к конвергенции идей не было – был призыв к крестовому походу против большевиков.
Я не зря сказал о взаимосвязанности вражды и зависти – русской и советской литературе, как в двадцатых, так и в семидесятых годах двадцатого века, нельзя не завидовать.
Мы, по-моему, в избытке обладаем редкостным даром скромности. Качество это, бесспорно, великолепное, но не создалось бы – доведи наша литературная критика скромность до абсолюта – такое положение, когда «нет пророка в своем отечестве»!
Поскольку здравый смысл – это инстинктивное чувство истины, то следует согласиться с тем, что нельзя ныне уже рассматривать глубинные процессы в мировой литературе без и вне творчества таких, например, писателей, как Симонов, Бондарев, Гамзатов и Шукшин, Нагибин и Казаков – перечень можно продолжить, из многообразия разностей родится гармния, особенно если вспомнить писателей из братских республик – Айтматова и Василя Быкова.
Полтора года назад в маленький кабинет товарища Корвалана на улице Театинос принесли три книги, изданные массовым тиражом, без обязательной на западе глянцевой обложки, на шершавой, плохой бумаге, но очень дешевые: первый шаг правительства Альенде был шагом истинно революционным – книга сделалась доступной для трудящихся, цены были снижены в пять-шесть раз.
Луис Корвалан ласково, как истый газетчик, тронул книги своими прокуренными, желтыми, крепкими пальцами, пролистал и протянул мне: «Посмотри, – сказал он, – это литература нашей борьбы». «Судьба человека», «Повесть о настоящем человеке». «Это книги – солдаты, книги – борцы, – продолжал Луис Корвалан, – они станут настольными в доме каждого чилийца. Можно погубить человека – нельзя уничтожить правду: я верю – эти книги станут настольными для тех чилийцев, которые сейчас ведут мужественную борьбу против фашистских извергов».
Помню, как после встречи с товарищем Хо Ши Мином, в день накануне Рождества, когда было заключено перемирие на двадцать четыре часа, и американцы не бомбили, и народ Ханоя вышел на улицы гордого, израненного и непобежденного города, больше всего людей толпилось возле витрины самого большого книжного магазина, что неподалеку от отеля «Тяншоят».
Колокольчатоголосые вьетнамцы завороженно повторяли имена Фоук – мано – па (Фурманова), Пау – кстоп – скоф (Паустовского), Э – рен – буа (Эренбурга): каждая новинка советской литературы была событием в дни борьбы вьетнамского народа против агрессии, это была – наравне с МиГами, ракетами, станками – реальная помощь, в отличие от пропагандистских буклетов с портретами великого кормчего.
Советская литература и один из ее боевых отрядов – литература Россйской Федерации – очень нужна всем тем, кто сражается против фашизма, против войны и тьмы. Это известно не только друзьям, но и врагам.
Именно поэтому, когда я беседовал с одним из сотрудников Отто Скорцени, подвизающегося ныне не только в бизнесе, но и в «Антибольшевистском блоке народов», нескрываемая ненависть была в каждом слове моего собеседника. Это в общем-то не страшно: бездоказательность и злость сугубо заметны не только нам, людям подготовленным, но и всем тем, кто с такого рода нацистами беседует, слушает его выступления или читает его эссе в газете.
Совсем иной характер носила пятичасовая дискуссия с редакторами и издателями крупнейшей испанской газеты «Пуэбло». Мои контрагенты прошли хорошую школу, они на рожон не лезли, они сочувствовали «нашим трудностям», говорили о том, что писателю необходима полная, абсолютная, неограниченная свобода творчества, которой мы с вами, естественно, лишены, и что лишь самовыражение художника истинно, а оно, понятно же, лишено классового смысла, поскольку художника определяет только мера его индивидуальности и национальное начало.
Обращение к национализму стало вообще приметным штрихом в работе наших противников: действительно, о чем им можно мечтать, как не о том, чтобы расшатать великое здание нашего Интернационала?!
Наша беседа закончилась под рев полиции: молодчики из «Гвардия севиль» разгоняли очередную демонстрацию рабочих и студентов, которые вышли на мадридские улицы с требованием освободить из тюрем демократов и дать народу номинальные человеческие права.
Я заметил, что особенно рьяно нам с вами «сострадают» те, кто при Гитлере ходил в черных мундирах и выступал с погромными статьями в коричневой прессе Геббельса и Штрайха, те, кто был и продолжает оставаться противниками разрядки, окончания войны во Вьетнаме, мирного урегулирования на Ближнем Востоке, те, кто одевает на головы своих писателей клоунские колпаки и заставляет их собирать мусор руками на пекинских улицах!








