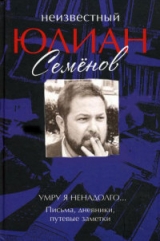
Текст книги "Неизвестный Юлиан Семенов. Умру я ненадолго..."
Автор книги: Ольга Семенова
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 85 страниц)
Когда после этого вас снова возвращают на крупный план рыдающего Альберто Сорди, смотреть картину невозможно – ее убили. Искусство для рекламы – это чудовищно.
Весь день провел у господина Такаси – руководителя международного отдела крупнейшей частной телевизионной компании Ти-Би-Эс.
Беседовал с политическим комментатором г-ном Сонода. Он ехал в Токийский университет вести прямой репортаж: там идет забастовка левых студентов. Пригласил поехать вместе с ним. Поездка была интересной. Около университета собрались демонстранты, человек двести. Пока мы стояли около телевизионных камер, толпа студентов возросла до пятисот.
Эту, как и остальные молодежные ультралевые демонстрации, отличает крайний истеризм. Маленький паренек в красной каске выкрикивает лозунги громким, тоненьким, пронзительным голоском.
Остальные сидят на асфальте, подложив под себя листки бумаги, и внимательно слушают лидера. Ребята готовятся идти к министру образования со своими требованиями, в главном – разумными.
Если бы не крикуны, спекулирующие на студенческой проблеме, то наверняка большинство здравомыслящих японцев стали бы на сторону молодежи. Однако ультралеваки, прилепившиеся к движению, толкают ребят к требованию «немедленной социальной революции, немедленного уничтожения всей буржуазной культуры, немедленного изгнания всех старых профессоров».
Ультралевых отличает такая же тенденция к железной организации, как и ультраправых. Стоило руководителю демонстрации посвистать в свой пронзительный свисток и крикнуть что-то в мегафон, как немедленно к нему подскакивали девушки и ребята и, зная заранее, кому, куда, в какой ряд, в какую шеренгу становиться, по-солдатски выстраивались в спаянную колонну.
Сонода быстро надел каску, дал такую же мне и попросил опустить на лицо прозрачную пуленепробиваемую маску.
– Сейчас может начаться драка, – сказал он. – Бьют весьма больно.
Промышленность по выпуску «противоударных касок» здорово греет руки: в месяц они выпускают триста тысяч касок для демонстрантов в одном лишь Токио. Стоит такая каска четыреста иен, а особенно прочная, красного цвета, – тысячу.
Японские журналисты говорили мне, что, быть может, хозяева этой «индустрии» связаны с главарями ультралевых студентов, потому что барыши у «каскопроизводителей» совершенно фантастические.
Чем больше я наблюдал за студентами, тем больше они казались мне членами военной организации. Впереди – наиболее рослые ребята в касках, за ними девушки и парни без касок, это, вероятно, «интеллектуалы» движения – худенькие, слабенькие, но очень голосистые, они все время выкрикивают лозунги. Колонну замыкает арьергард – там тоже здоровенные ребята в касках, с дубинками и металлическими прутьями в руках.
Ребята начали бегом кружить по улице, скандируя свои лозунги; они «разогревались», словно спортсмены перед стартом. Когда их крики стали особенно яростными, подъехали дополнительные наряды полиции. Полицейские выскочили из своих машин и, пристроившись на бегу к демонстрантам, окружили их со всех сторон и «повели» колонну к министру образования.
В Ти-Би-Эс работают не только телетайпы информационных агентств Франции, Великобритании и Америки. Там, впервые в Азии, работают телетайпы на иероглифах. Казалось бы, иероглифический телетайп должен работать медленнее, чем телетайп латинского шрифта.
«Нет, – с гордостью сказали мне японцы, – наш телетайп работает значительно быстрее европейского». Это чудо, действительно чудо: японцы смогли рассчитать на ЭВМ принцип иероглифического письма и отладили телетайп, который первым, – в сравнении с остальными, – сообщает о новостях со всего света.
Если бы национальная тенденция выражалась в том, как «свое» делать более быстрым, красивым, удобным, более приятным для человека, то – да здравствует такой «национализм»! Да здравствует «национализм» скорости, удобства, радости! Долой национализм ущемления «других»! Впрочем, истинный национализм начинается с ущемления «своих».
Познакомился с Токато-сан – прелестным тридцатилетним художником, одним из известнейших живописцев Японии. Сели в его «тойоту». Поехали к скульптору Ивано-сан – я его назвал «Иван Иванычем», и скульптор зашелся от смеха. Еще до того, как японцам переведут смысл каламбура или шутки, они по интонации понимают, что ты говоришь. Вообще здесь обостренный, я бы сказал жадный, интерес к русскому языку.
Как это ни парадоксально, японцы чувствуют наш язык, особенно это заметно в песне. Мне показалось, что в Японии наши песни поют отнюдь не хуже, чем мы, порой даже с большим чувством.
Ивано-сан, лауреат Национальной премии Такеси Хаяси, работает в маленькой мастерской. Его скульптуры в чем-то похожи на работы Николая Никогосяна – так же экспрессивны. Только в них экспрессия сдержанности, «кричание» статистики. Движение души, порыв, плач, счастье, крик японцы умеют передавать через сцепленные пальцы рук, а на лице – если это поясной портрет – будет полное спокойствие.
Я заметил, что «национальность» новой работы Ивано «Девушка, снимающая платье» я мог бы определить, даже не видя ее лица: по движениям рук, повороту торса, наклону головы.
Ивано-сан преподает в Институте новых форм, приглашает съездить туда.
Рано утром приехал Ивано-сан на своем маленьком «брюбер-де». По-английски «блубед» означает «синяя птица».
Японцы не произносят букву «л», они говорят «брюберд». Даже когда они хотят сказать по-английски: «Ай лав ю», – они произносят: «Ай рав ю». Сигареты «Лаки страйк» они называют «Раки страйк».
«Выходира на берег Катюша… Выходира, песню заводира...»
Ивано-сан пригласил меня за город. Он придумал интересный маршрут: по «деревянной Японии», в Институт новых форм – к художникам, а потом в театр «Синсейсакудза», руководимый Маяма-сан, одной из наиболее известных актрис и режиссеров Японии. В Институте новых форм Ивано-сан завел меня в «комнату для изучения чайной церемонии». Это бесконечно интересно.
Чай вы должны выпить в три присеста. После каждого глотка вы обязаны говорить хозяину комплименты. Хозяин должен любезно и заинтересованно отвечать вам. Чашку следует держать «лицом», то есть рисунком, к хозяину. Непристойно пить чай, повернув «задом» к хозяину. (Ивано-сан очень потешался, объясняя мне, что значит «лицо», что значит «зад» чашки.)
Чаем угощают главного гостя. Он должен сидеть справа от хозяина. Только главный гость имеет право говорить о вкусе чая, ибо это угощение сделано в его честь. Лишь после второй заварки право высказываться о вкусе чая перейдет к соседу главного гостя.
Вот вам японское застолье, которое разнится от грузинского, пожалуй, только тем, что вместо вина здесь пьют душистый, великолепный чай. Впрочем, есть еще одно отличие: здесь не говорят ничего о хозяине; говорят лишь о том, как он приготовил чай, – разбирают «работу», а не «личность», ибо даже «злодей, умеющий делать нечто, заслуживает снисхождения». А вообще чайная церемония, ее философская сущность заключается в том, чтобы уметь найти прекрасное в обыденном.
Бывает так, что идешь по дороге и начинаешь привыкать к окружающей тебя диковинной красоте. Но вдруг подымешься на пригорок, откроется тебе новая даль, ты поразишься ее плавной голубизне, обернешься назад и заново увидишь многое из того, мимо чего прошел, привыкнув.
(Вспомнил Александра Трифоновича Твардовского. Однажды рано утром он, гуляя по дорожкам нашего поселка, зашел ко мне. Пронзительные голубые глаза его – диковинные глаза, изумительной детскости, открытости – были как-то по-особому светлы и прозрачны, будто бы «умыты» росой. Он тогда сказал одну из своих замечательных фраз, – он их разбрасывал, свои замечательные фразы, другому-то на это дни нужны: «С утречка посидел за столом, строчку нашел и словно бы на холм поднялся – дорогу далеко-далеко увидал, петляет, а – прямая...»)
Таким же «холмиком», взгорьем, с которого видно вперед и без которого трудно понять пройденное, для меня оказалась встреча с Маямой-сан.
«Иван Иванович» думал показать мне ее интереснейший театр, его поразительную архитектуру, а вышло так, что я провел у нее много дней, радуясь и удивляясь этой великой актрисе, режиссеру и драматургу Японии.
-Ивано-сан подъехал к старинному городку Хатиодзи – это неподалеку от Иокогамы, свернул с хайвея на маленькое шоссе, миновал двухэтажные улочки центра, дорогу, точь-в-точь как у нас в Красноярском крае (первая, кстати говоря, проселочная дорога в Японии, которую я увидел), проехал мимо домиков крестьян и остановил свой «брюберд» посреди горного урочища.
– Вот мы и приехали в театр Маямы-сан, – сказал он.
Я ошалело огляделся. Синее высокое небо. Ржа коричневых кустарников на склоне крутых гор. Желтая земля. В углу урочища, образованного двумя скалами, – большая серая бетонная сцена. Ивано-сан, внимательно следивший за моим взглядом, отрицательно покачал головой.
– Это лишь одна из сценических площадок, – сказал он, – зал на тысячу мест выбит в самой скале...
Когда в прошлом году Маяма поставила спектакль о Вьетнаме, то главной сценической площадкой были склоны гор. Прожекторы высвечивали актеров, одетых в форму партизан, склоны гор были радиофицированы, поэтому создавалось впечатление соприсутствия с людьми, затаившимися в джунглях. Это было фантастическое зрелище.
Тут собралось несколько тысяч человек, овация длилась чуть не полчаса.
И вот навстречу идет женщина, маленькая до невероятия, красота ее традиционна – такими рисовали японок на фарфоре. Она в кимоно и в деревянных крошечных гета. (Звук Японии – это когда по ночному городу слышен перестук деревянных гета.)
Она здоровается так, как, верно, здоровались в Японии в прошлом веке: приветствие – целый каскад поклонов, улыбок, вопросов, приглашений, разъяснений, шутливых недоумений; глаза ее – громадные, антрацитовые – светятся таким открытым, нежным и мудрым доброжелательством (у Твардовского они голубые и поменьше, а так – одинаковые), что становится сразу легко и просто, словно ты приехал к давнишнему другу, и только одно странно: почему друг говорит по-японски, с каких пор? (Мне хочется допустить мысль, что и Маяма тогда подумала: «С чего это Юлиано-сан заговорил по-русски?»)
Эту женщину в Японии знают многие. Ее книга «Вся Япония – моя сцена» издана несколькими тиражами, переведена во многих странах мира. Она показывает рукой, чтобы я следовал за ней.
Жест сдержан, он плавный, лебединый, полный грациозности. И мы идем осматривать театр, первый в мире театр – коммуну, у которого в стране миллионы поклонников и друзей. В скалу вбиты дома для актеров – великолепные квартиры. Детский сад для малышей. Библиотека. Бассейн.
Зал, врубленный в скалу, обрушивается рядами кресел на сцену. Ощущение, что ты находишься в театре будущего. Акустика такая, что на сценической площадке слышен даже шепот.
Театр начинал с «нуля», после крушения милитаризма в Японии. На книжных рынках появились новые имена, для Японии были по-настоящему открыты «По ком звонит колокол» и «Гроздья гнева», «Разгром» и «Теркин», Арагон, Брехт и Лем. Новая литература рвалась на сцену, но ставить ее не могли: до сорок пятого года театр в Японии был сугубо традиционный, женщины на сцене не играли.
Варьировалась «самурайская классика».
– Я засела за Станиславского, – вспоминает Маяма-сан, – изучала опыт Мейерхольда. Я убеждена, что вне национального искусство погибает, лишь национальное дает выход к массам и на международную арену. Но тяга к национальному – явление двузначное: в какой-то момент эта тяга может стать националистической, то есть, как я считаю, фашистской...
Когда мы начинали, у нас было всего двадцать человек. Жили у меня дома. Я потихоньку продавала платья, шубы, книги, чтобы кор– мить товарищей. Сейчас у нас в труппе восемьдесят действительных членов и сорок кандидатов. Мы гастролируем по всей Японии.
Деньги от спектаклей идут на покрытие наших расходов, на транспорт, заработную плату актерам, а остальные деньги – мы зарабатываем много – идут сельской интеллигенции: врачам, учителям, фельдшерам, ансамблям художественной самодеятельности...
Маяма-сан пришла в театр из семьи известного японского писателя. Когда она вспоминает о детстве, глаза ее меняются, – в них уже нет улыбки, они замирают и кажутся густо-синими, фиолетовыми.
– Отец мой часто пил, – негромко рассказывает она, чуть ви новато улыбаясь. В окнах ее дома, стоящего на самой вершине горы, – звезды. Тишина. Раскрыт огромный концертный рояль, музыка – ее вторая жизнь. – Характер этого самого прекрасного человека, – продолжает она (Маяма говорит несколько фраз и надолго замолкает, уходит в себя), – был ожесточен окружающей ложью. Он был очень честным и чистым человеком, а ему не давали писать ту правду, которая окружала нас. Это как живописец, кото рого заставляют вместо раннего утра писать ночь. Писать так, как этого требовали власти, он не умел.
Когда девочке исполнилось пять лет, в доме начались ссоры, денег не было, семья голодала. Маяма взяла иголку и всю себя исколола, чтобы болью «уравновесить» ужас, который охватывал девочку во время страшных скандалов. Ее увезли в больницу, месяц она пролежала в палате без движения – форма детского паралича.
– Я очень, очень любила его, – продолжает Маяма. – Возвра щаясь из школы, я часами простаивала возле дверей его кабинета, чтобы услышать, как он встанет из-за стола, войти тогда и сказать так, как принято в семье самураев: «Вот я пришел!»
Так было всегда у самураев, – поясняет она. – Утром, перед школой, надо сказать: «Вот я ушел!» Раньше самурай, уходя, рисковал никогда впредь не вернуться. Возвращение в дом – это счастье, и все должны сразу же знать об этом...
Он тогда обнимал меня, мой отец, сажал на коле ни и рассказывал смешные истории, но мне совсем не хотелось сме яться... Когда он умер, в доме осталось десять тысяч иен – этого с трудом хватило на дощатый гроб. Цветы на его могилу принесли два деревенских паренька.
Потом, когда его перехоронили в Токио, – вспоминает Маяма, – и было много цветов, торжественных речей и важных господ в смокингах и фраках, я думала, что те, деревенские похороны, в последний год войны и цветы деревенских мальчиков, которые робко стояли у гроба, были честней и выше духом, чем показная печаль степенных буржуа...
Десять лет Маяма играла в театре. Ее занимали в главных ролях, слава ее росла...
– Между прочим я была у вас на представлении «Чио-Чио-сан».
Я обожаю ваше искусство, но тут я была огорчена: много неточнос тей в показе японского быта. Например, я замирала, когда ваша ак триса начинала обмахиваться веером. – Лицо Маямы становится страдальческим. – Юлиано-сан, веер – это ракетно-ядерное оружие женщины. Оно так же сильно. Поэтому обращаться с ним надо ответственно и строго. Разве мужчина сможет быть спокойным, если увидит в руках у женщины веер? Любой мужчина потеряет голову.
Ваша Чио-Чио-сан встречала мужчину, прохаживаясь по кабинету. А по японским обычаям мужчину надо встречать с поклоном с колен, Юлиано-сан. Это высшая гордость для женщины, когда в ее дом входит мужчина!
А как ваша Чио умирала? По-нашему, уж если женщина решила умереть от любви и ее смерть не принесет горя мужчине, который уехал, бросив ее, она должна тщательно продумать ритуал самоубийства. Высшая эстетика в честь женщины сокрыта в фазе смерти. Во-первых, надо завязать колени тугим жгутом.
Во-вторых, следует обернуть кинжал бумагой. Зачем связывать колени? Представьте себе, что у Чио-Чио-сан будут видны оголенные ноги!
Зачем бумага на кинжале? Чтобы она впитала кровь. Вид лужи крови на земле может вызвать отрицательные эмоции у тех, кто придет в комнату и обнаружит труп. Вы не сердитесь на меня? Быть может, вам нравится постановка «Чио-Чио-сан» – тогда, пожалуйста, простите меня. Но мне кажется, что вы согласны со мной, – улыбается Маяма.
-Поздно ночью Маяма пригласила меня на свой спектакль, посвященный Варшавскому восстанию 1944 года. Кинокадры разрушенной Варшавы. Расстрелы патриотов. Панорама по лицам солдат Красной армии и Войска польского, которые готовятся к штурму. Звучит Шопен. Мощное ощущение гнева и гордости.
В зале были только Маяма-сан и я. Но я ощущал высокое волнение, словно был затерян среди тысячи других зрителей, и поэтому не было зазорным, когда в глазах закипали слезы и горло перехватывало спазмой.
А потом на сцену вышли актеры – без грима, и они играли граждан сегодняшней Польши, и я забыл, что это японцы, и я только поражался тому, как художник, только художник, может отдать свое сердце любви к другому народу.
…Иида-сан переводит в Японии мои книги. Поехали с ним в издательство «Хаякава». Они издали «Петровку, 38». Познакомился с папой Хаякава (Хаякав в Японии, как у нас Петровых), президентом издательства, с сыном Хаякавой, вице-президентом, и с главным редактором Токива.
Они показали мне свой план – скоро выпустят братьев Стругацких. Готовят переиздание Ле Карре, Флеминга, Агаты Кристи.(Великолепную книгу Ле Карре «В одном маленьком немецком городке» здесь, как и повсюду на Западе, замалчивают из-за ее открытой тенденции: «Внимание, люди, в ФРГ неонацисты поднимают голову!», переводят лишь те романы ле Карре, в которых он наскакивал на ГДР.)
Хироси Хаякава – вице-президент компании «Хаякава паблишинг хауз» – рассказал об организации издательского дела в стране.
– Книгоиздательство, – говорил он, – это азартная игра. Я не связан непосредственно ни с читателем, ни с писателем, ни с книго торговлей. Все решает посредник. Он в первую очередь формирует читательское общественное мнение. Я, издатель, фактически не имею никакой гарантии, и я не знаю, пройдет книга на рынке или нет. Для того чтобы как-то подстраховать себя, приходится выпускать серию Джеймса Бонда.
Я понимаю, что это дурная литература, пошлятина, но что делать. Я жалею молодых писателей. Они сердитые, им тя жело. Если ко мне придет гений, но гений непризнанный, у которо го нет паблисити, он и уйдет непризнанным гением, я его не издам, я не могу рисковать. Если только приходит посредник и я знаю, что это серьезный человек, и что у него отлажены контакты с книгопро давцами, и что он имеет свои ходы в журналы и в газеты, только тогда я иду на риск. Потому что значительную долю ответственнос ти за неуспех он принимает на себя.
Говорит он об этом деловито, а в глазах затаенная боль.
– Где же выход? Его у нас нет. Невозможно поломать сложив шуюся систему отношений: писатель – посредник – издатель – про давец. Кроме писателя, все заинтересованы в сохранении этой сис темы. Я понимаю, что это ужасно, что это мешает появлению новых имен в литературе. Я пытаюсь успокаивать себя лишь одним: истин ный талант – одержим, он должен пробить стену, если ему есть что сказать людям.
…Забыл получить деньги в банке. Ночевать негде. Позвонил друзьям. Сказал, что нашел маленький «традиционный отель», где комната стоит три доллара, а не десять, как всюду. Оставил на всякий случай номер телефона: если понадоблюсь – ищите.
Когда я приехал в «традиционный отель», портье протянул мне бумажку: номер с обслуживанием стоит тридцать долларов! Я похолодел. В кармане у меня оставалось всего девять долларов, рассчи– танных до цента: три – за номер, три – позавтракать и поужинать (обед – излишество, если можно устроить поздний завтрак), доллар – метро, два доллара – музеи и кинотеатры в воскресный день.
– Но мне сказали, что номер стоит три доллара!
Портье достал японо-английский разговорник, долго листал его, наконец ткнул пальцем в какую-то фразу и протянул мне книжечку.
– «Никто так не обслужит мужчину, как женщина».
Портье томно закрыл глаза, изображая девицу, и поцеловал себя в ладонь, изображая страстного мужчину.
– А без «обслуживания» можно?
Портье долго переговаривался со старухой в кимоно и гета, потом вздохнул и сказал:
– Нежелательно, но можно. Пять долларов.
– Два! – сказал я и для верности показал на пальцах.
– Три, – сказал портье миролюбиво, – и не центом меньше.
Комнатку он мне дал крохотную – четыре квадратных метра.
Кровати нет, стола нет, в углу матрац, свернутый, как солдатский ранец, – ночью он заменяет кровать. За тоненькой бамбуковой стенкой веселились американцы с японочками из «обслуживания».
Пошел бродить по городу. Просто так, без всякой цели. Увидел вывеску: «Русский бар “Кошка”». Это в районе Синдзюку, в тупичке около железной дороги. Это район нищих «баров», сколоченных из неструганых досок. Стойка и четыре высоких скрипучих стула. В баре сидели трое молодых японцев с кинжалами на широких ремнях.
Старуха в парике, увидев меня, схватила балалайку и запела: «Выпьем за Танюшу, Танюшу дорогую, а пока не выпьем, не нальем другую».
– Откуда? – спросила она меня по-японски. – Американец?
– Нет, – ответил я, – русский. Старуха вдруг, без всякого перехода, заплакала:
– Господи, русский, вот счастье-то! Из каких? Австралийский русский или немецкий?
– Советский…
Старуха – опять-таки сразу же, без подготовки, – плакать перестала и решительно вытерла нос платочком.
– Не может быть, – сказала она, – не верю.
– Почему?
– Вам запрещено ходить по-одному, а посещать бары – того более.
– Значит, я отступник…
– В России за отступничество головы рубят.
– У меня шея крепкая.
– На продажу ничего нет?
– Не понимаю…
– Золотишко, камней? Устрою, есть связи…
– Не надо…
Старуха плеснула в рюмку «смирновской» водки, – мне она налила двадцать граммов и десять, не больше, плеснула себе.
– Пей до дна, пей до дна, пей до дна! – пропела она. – Пей, большевичок недорезанный… Эх, господи, и зачем вы сюда пришли, только сердце растревожили… Я пятьдесят лет никого оттуда не видала… Из Петрограда – в Читу, потом – в Дайрен, оттуда – в Шанхай, а после сюда. Графиня, – крикнула она, открыв окошко, ведшее на кухню, – идите сюда, у нас в гостях красный…
«Графиня», женщина лет сорока пяти, густо накрашенная, в нелепой черной мини-юбке, вышла из кухни. Один из парней вскочил, подошел к ней, взял за руку, привлек к себе, что-то шепнул на ухо.
Женщина отрицательно покачала головой, глядя на меня.
– Действительно вы из России? – спросила она.
– Действительно.
Она прикоснулась к моей руке.
– Во плоти, – усмехнулась она. – Бред какой-то. Где ночуете? – спросила «графиня».
– В отеле.
– Далеко отсюда?
– Нет…
– Откуда сами?
– Из Москвы.
Старуха снова заплакала.
– Если будет желание переночевать в русской семье – прошу, – сказала «графиня», вымученно улыбнувшись. – Две комнаты, семь квадратных метров. По здешним условиям это прекрасно. Нянька, – она кивнула головой на старуху, – переночует здесь, на полу…
Я улыбнулся, посмотрев на старуху.
– Она уже сказала вам, что княжеского рода? Она такая же княж на, как я графиня. Она – старая б…, я – помоложе…
…В понедельник встретился с директором одной из фирм «Мицубиси». Важный, чопорный господин читал мои книги, попросил подписать их, учтиво интересовался, в каком отеле я живу. Настойчиво рекомендовал «Тоси сентер».
– Там великолепные номера, это недорого, всего двадцать дол ларов.
Знать бы ему, где я ночевал.
…Беседовал с работниками Общества содействия переводам русской литературы. Им трудно. Книг они получают мало. Только сейчас услыхали о Юрии Бондареве, Василе Быкове, Юхане Смууле. Они ничего не знают о Василии Шукшине, Борисе Васильеве. В университете Васеда, где изучают русский язык, получают только два наших толстых журнала.
Вечером, когда я возвращался в отель, ко мне подошла женщина.
В руке у нее подрагивал маленький фонарик.
– Предсказание судьбы стоит всего триста иен, – сказала она на плохом английском, – я гадаю только правду.
…Взяв мою руку, она замерла, низко приблизив свое застывшее лицо к моей ладони.
– У вас прекрасные дети, – сказала она после долгого молча ния, – две девочки. У них глаза разного цвета...
Гадалка то включала фонарик, то резко выключала его, и делалось тревожно темно вокруг. Несколько раз она осветила мое лицо, близко заглядывая в глаза.
– У вас в жизни дважды был перелом, трагический перелом. Вы недавно потеряли любимого человека. Отец? Мать? Младшая дочь похожа на вас, а старшая дочь – на жену.
(Откуда она могла знать все это? Она говорила правду.)
– Будьте активны. Вы устали от своей работы, но не бойтесь этой усталости, без нее вы погибнете.
Она говорила это не так, как обычно говорят японцы, – улыбчиво, оставляя возможность не согласиться с их словами. Она настаивала на своих утверждениях.
– Вы не должны быть жестче, чем вы есть. Зачем? Доброта дол жна быть сильной без маски.
Ноябрь 1972 – январь 1973 года
Франция, Испания
20 ноября посол Абрасимов пригласил меня на встречу советских граждан, живущих во Франции, то есть тех, кто принял советское гражданство после войны. Большинство – люди пожилые, седоглавые.
Это была первая эмиграция, которая ушла с Врангелем, и сюжет, который родился у меня в голове, когда я слушал доклад нашего поверенного в делах, Валентина Ивановича Оберенко, был таким:
Вот сидит старик с розеткой Почетного легиона в петлице. Идет доклад. В общем, в определенной мере казенный доклад, такой, какой мы, к сожалению, произносим, как правило, на праздничных датах, а там есть цифры. Против цифр, как говорится, не попрешь – цифры роста.
Вот старик слушает этот доклад, и взять ретроспективу: революция, он в Белой гвардии. Вот он слушает доклад, и описать его радость во время коллективизации, когда казалось, что вот-вот все зашатается у нас.
Вот он слушает этот доклад – немецкое вторжение. И он отходит в сторону от тех оголтелых, которые пошли в услужение к немцам. Вот он слушает доклад, а когда он увидел немецкие зверства, когда он услыхал по подпольному радио о героизме Сталинграда, он уходит в маки.
Вообще, этот человек был чем-то поразительный, потому что никогда я не видел такой трепетной заинтересованной аудитории в каждом слове, которое неслось со сцены. Никогда я не видел такой, я бы сказал, обнаженно-доверчиво-патриотической аудитории, как та, которая прожила в эмиграции добрые пятьдесят лет.
На завтра утром посол пригласил меня на завтрак, который он проводит раз в месяц, когда собираются послы всех социалистических стран. Запоздали послы Польши и Югославии, потому что бастовали студенты, перекрыли улицу, нельзя было проехать. Вместе с нами на завтраке был Андрей Андреевич Смирнов, заместитель Громыко.
Послами высказывались разные точки зрения по поводу предстоявших тогда выборов в бундестаг. И была очень интересная точка зрения, что Брандт проводит политику, которую боялся, но очень хотел проводить Аденауэр. Смирнов рассказывал, как он беседовал в свое время – это было году в пятьдесят шестом, пятьдесят седьмом с немецким крестьянином.
Он спросил его: «Почему Вы голосуете против социал-демократов?» А крестьянин ответил: «Хватит, они привели к власти Гитлера». То есть социал-демократы скомпрометировали себя половинчатостью, и именно строго определенная политика Брандта послужила одной из наиболее весомых гарантий для его победы на выборах.
Для дипломатов чем хуже положение, тем лучше, ибо есть себя на чем проявить. Усталость, благополучие – враг дипломатической карьеры.
Во время холодной войны значительно легче выдвигались кадры, особенно молодые. А мир делает одна личность, как правило, которая круто поворачивает тенденцию планеты. И все остальные этой личности служат. Здесь нельзя себя проявить, ибо в данном случае излишняя торопливость в хорошем может вызвать обратные результаты. Во времена холодной войны чем хуже каждый себя проявит (я имею в виду агрессивность самопроявления), тем лучше.
Когда возвращался из посольства, Петр Андреевич предложил мне машину, но я решил поехать на метро – всегдашняя моя манера за границей ездить на метро, ибо это социологический срез общества. На Пляс де ля Конкорд сел молодой американец. Перень, наверное, давно не ел, прислонился к стене, устроил себе перерыв, достал бутерброд. Я разговорился с ним: почему он здесь? зачем?
– Я устал биться с режимом равнодушия, – ответил парень. – Я пробовал себя в кино, в театре, на телевидении, это невозможно практически, нужны либо меценаты, либо деньги, либо уже хоть в чем-то и хоть как-то проявивший себя талант. Я, во-первых, не знаю, есть ли у меня талант, а если и есть, то он никак не проявлен. Я приехал в Европу, был в Англии, потом перебрался сюда. Здесь, в общем, такой же режим равнодушия, но мне помогает жить и не броситься под колеса поезда то, что здесь, в Париже, жил Старик.
– Хемингуэй? – спросил я его.
– А разве есть еще один Старик? – ответил парень.
Его зовут Джекобс. Он из Нью-Джерси, двадцать три года. Ушел с четвертого курса Вашингтонского университета.
Назавтра встреча с главным редактором «Юманите» Анри Вюр-мсером. Беседовали по поводу присуждения ему премии буржуазной критики за исследование творчества Стендаля, Толстого и Бальзака.
Вюрмсер сидел в маленькой комнатке, весь в табачном дыму. «Я каждый день пишу по статье для “Юма”, – сказал он, – и восемь лет не брал отпуска. Ни разу».
Беседовал с членом политбюро ЦК французской компартии Гастоном Плисонье.
– До войны, – рассказывает он, – я не был активным членом партии. Жил в деревне, а там политическая жизнь проста. Кто за, кто против – очевидно сразу. Когда началась испанская война и Мюнхен, мы были очень активны, издавали листовки. Потом партия перевела меня в Лион. 14 июля 1941 года мы подготовили листовку «Франция будет свободной», вели пропаганду на заводах.
Самая маленькая победа на вашем фронте была для нас счастьем. Когда вы отбили Ростов, мы собрали по сантиму для того, чтобы купить не сколько бутылок вина и выпить – отметить это счастье. А потом меня перевели в район Тулузы.
Именно там мы создали издательство, ко торое работало до конца войны. Выпустили 10 тысяч листовок. Надо было найти типографа-коммуниста. Мы знали, что он жил в Сант– Этьене. Я его отыскал и сказал: «Купи дом вдалеке от дорог. Я не хочу знать, где будет твой дом и твоя типография».
Я верил, что в случае провала выдержу, но… лучше знать меньше. Бумагу нам да вал хозяин бумажного завода из Сен-Жерон-де-Арьеж – передавал ее в чемоданах.
Помню занятный случай: выезжаю из Тулузы в Лион с документами для южной зоны и с информацией для товарищей в Алжире, так как у нас шла связь. А на станции – обыск. Я шел по перрону, и вдруг всех пассажиров окружило 30 полицейских. Они повели нас в комнату для проверки документов. Подумал: «Все. Пропал».
А с тем, что я вез, меня расстреляли бы немедленно. Я проглотил бумагу, где были написаны имена подпольщиков в Лионе, – хоть их спасу. А информация у меня в чемодане, который надо было отдать в камеру хранения.








