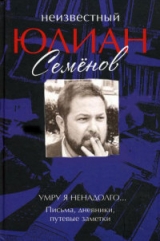
Текст книги "Неизвестный Юлиан Семенов. Умру я ненадолго..."
Автор книги: Ольга Семенова
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 76 (всего у книги 85 страниц)
УЛЬРИХ. Подсудимый Буланов, подтверждаете ваши показания?
БУЛАНОВ. Да. За годы работы в качестве личного секретаря Ягоды и секретаря Наркомата внутренних дел я привык смотреть на все его глазами... О заговоре я впервые узнал в тридцать четвертом году: насильственный приход к власти путем переворота...
На просцениум выходит ТУХАЧЕВСКИЙ.
ТУХАЧЕВСКИЙ. Я, маршал Тухачевский, расстрелян летом прошлого года... Как военный, не чуравшийся истории, хочу спросить: если среди заговорщиков был шеф разведки, контрразведки Союза, а также службы охраны Политбюро Ягода, если товарищ Енукидзе, секретарь ЦИКа, расстрелянный Сталиным три месяца назад, отвечал за безопасность Кремля – еще с восемнадцатого года, – я, заместитель министра обороны, мои друзья, командующие военными округами Уборевич, Якир, Корк, Примаков, начальник Политуправления Красной Армии Гамарник, то чего же мы тогда ждали?
Чего?! Заговор не может быть длительным – это провал... Мы же не были идиотами, право... Если мы решили бы взять Кремль, мы взяли бы его за два часа... Увы, мы не позволяли себе и думать об этом... Когда Хрущев брал Берию, МВД было в руках этого мерзавца, поэтому дело спасла Красная Армия маршала Жукова...
Чего ж было опасаться нам, если и НКВД и армия и безопасность Кремля были в наших руках? Несчастный, доверчивый, беспамятный народ мой... Каждый, кому не лень, может обмануть тебя, надругаться над тобою... Почему? Ну отчего нам выпала такая страшная доля?! (Тухачевский берет свою маленькую скрипку и играет трагическую каприччиозу.)
УЛЬРИХ. Подсудимый Ягода, признаете свои показания, данные на предварительном следствии?
ЯГОДА. Подтверждаю... Уже в тридцать первом году я создал в ОГПУ группу правых, куда входили начальник контрразведки Прокофьев, начальник секретно-политического отдела Молчанов, начальник экономического отдела Миронов, заместитель начальника разведки Шанин и ряд других... В январе тридцать четвертого года готовился государственный переворот с арестом состава Семнадцатого съезда...
На просцениум выходит КОРОЛЕНКО.
КОРОЛЕНКО. Я, русский литератор Короленко, Владимир Галактионов...
Я думал, что не было на Руси процесса постыднее, чем дело Бейлиса... Увы, я ошибался. Такого рода «процесс» до Октября семнадцатого года был попросту невозможен... Хотя кто как не я был противником идиотства романовского самодержавия?! Только что в этом зале говорилось, что делегатов съезда арестовали не заговорщики, а именно господин Сталин! Просто какие-то лебедь, рак и щука...
На просцениум выходит БУХАРИН.
БУХАРИН. Собственно, признание Крестинского стало кульминацией процесса... Тем не менее каждый из нас, – не те провокаторы, которых посадили вместе с нами на скамью подсудимых, а истинные ленинцы, – старался защищаться диким самооговором, признанием заведомой, легко опровергаемой лжи, интонациями даже: если вы послушаете пленки и посмотрите фильм, который тайно снимала сталинская группа, вы убедитесь в правоте моих слов...
Я предложил следствию компромисс: взамен на то, что признаю все предъявленные обвинения, в последнем слове все же скажу то, что считаю нужным... Я был вынужден пойти на компромисс не только потому, что речь шла о жизни жены и детей... Близких... Друзей... Учеников... Я пошел на компромисс потому, что Ежов сказал: «Будете молчать – докажем, что именно вы организовали покушение на Ленина! Вы ж с ним спорили! Спорили! Именно вы и Дзержинский были самыми неукротимыми во время Брестского мира!
И Дзержинского замажем, если откажетесь признать свою связь с Троцким! И проведем процесс против Ленина, разоблачим его немецкое шпионство – даю слово, сможем провести!» Я знал – теперь смогут... Но вчитайтесь в мое последнее слово! Пожалуйста! Оно же все построено на междустрочье и недоговоре... Вы же слышали, сначала я взял на себя всю ответственность за «правотроцкистский блок»...
Но дальше! Дальше! Слушайте: «Я считаю себя ответственным за величайшее и чудовищное преступление перед социалистической родиной и всем международным пролетариатом». Точка. Итак, я виноват? Да. Я позволил Сталину взобраться на верхушку пирамиды и не нашел в себе мужества убить его, когда понял, что он – контрреволюционер, предатель дела и духа Ленина.
Я потом был вынужден произнести вписанную мне фразу – я, кстати, торговался с Ежовым за каждое олово, каждую запятую: «Считаю себя ответственным за вредительство», но следом я все же произнес: «ХОТЯ Я ЛИЧНО НЕ ПОМНЮ, ЧТОБЫ ДАВАЛ ДИРЕКТИВЫ О ВРЕДИТЕЛЬСТВЕ». Я произнес: «ПРОКУРОР УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО Я НАРАВНЕ С РЫКОВЫМ БЫЛ ОРГАНИЗАТОРОМ ШПИОНАЖА, КАКИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА? ПОКАЗАНИЯ ШАРАНГОВИЧА, КОТОРОГО Я НЕ СЛЫХАЛ ДО ОБВИНИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ... Я КАТЕГОРИЧЕСКИ ОТВЕРГАЮ СВОЮ ПРИЧАСТНОСТЬ К УБИЙСТВУ КИРОВА, МЕНЖИНСКОГО, КУЙБЫШЕВА, ГОРЬКОГО И МАКСИМА ПЕШКОВА».
Если я отверг обвинение во вредительстве, шпионаже и терроре, то в чем же я виновен? За что прошу в этом же последнем слове покарать меня? Сам прошу – не Вышинский?! Вдумайтесь в смысл следующих моих слов: «ГОЛАЯ ЛОГИКА БОРЬБЫ СОПРОВОЖДАЛАСЬ ПЕРЕРОЖДЕНИЕМ ИДЕЙ, ПЕРЕРОЖДЕНИЕМ ПСИХОЛОГИИ. ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ ТАКОГО РОДА ПЕРЕРОЖДЕНИЯ ИЗВЕСТНЫ, СТОИТ ТОЛЬКО НАЗВАТЬ БРИАНА, МУССОЛИНИ...»
Муссолини был редактором самого левого социалистического журнала «Аванте». В партию его рекомендовала великая революционерка Анжелика Балабанова... Но Муссолини захотел стать дуче, то есть вождем, и он предал социализм, отшвырнул его ногой, посадил в тюрьмы своих товарищей по партии, объявил их врагами нации и стал фашистом. Похоже, а?!
Слушайте дальше: «И У НАС – я имею в виду партию, страну – БЫЛО ПЕРЕРОЖДЕНИЕ, КОТОРОЕ ПРИВЕЛО НАС – страну, партию, Сталина – В ЛАГЕРЬ, ОЧЕНЬ БЛИЗКИЙ ПО СВОИМ УСТАНОВКАМ К СВОЕОБРАЗНОМУ КУЛАЦКОМУ, ПРЕТОРИАНСКОМУ ФАШИЗМУ...»
Как «лидер» правых, я употребил слово «кулацкий»! Но ведь смысл фразы сокрыт в ином, в «преторианском фашизме!» Тот, кто знает историю, должен понять, что «преторианцы» – это личная охрана античных тиранов, дорвавшихся до власти путем удушения республики и убийства тех, кто звал граждан к сопротивлению тирании... «Фашизм» – это синоним Сталина и его Ежовых, Молотовых, Кагановичей и Берий... Именно так, фашизм...
Вы слышали показания Ягоды, когда он говорил, что я приказал ему протащить в ГПУ моих людей – начальника секретно-политического отдела Молчанова, Миронова, Шанина, Прокофьева... Фашизм – это неуважение к Личности... Только не уважая Личность, можно вписывать Ягоде эдакие откровения! Ведь именно Молчанов заставил Пятакова и Радека назвать меня на процессе тридцать седьмого года «троцкистом и диверсантом»...
Геббельс призывал: «Лги, лги, что-нибудь да останется!» Увы, это правда! И если вы, собравшиеся в этом зале, не сможете или не захотите понять то, что я сейчас прокричал, вас всех ждут чудовищные испытания... Чудовищные...
Затемнение, долгая пауза. На просцениум выходят люди, мужчины, женщины, дети.
Каждый называет себя:
– Я, маршал Блюхер, погиб в кабинете Берии... – Я, Сергей Королев, академик, провел пятнадцать лет в сталинских камерах смертников, лагерях и шарашках...
– Я – вдова Рихарда Зорге, меня отравили в сталинском лагере...
– Я, Юра Каменев, мне пятнадцать лет, меня расстреляли в сталинском подвале...
– Я, академик Сергей Вавилов, меня замучили в сталинском застенке...
– Я, Всеволод Мейерхольд, режиссер, меня забили в сталинских застенках...
– Я, Паоло Яшвили, поэт, меня расстреляли в сталинских застенках...
– Я, академик Туполев, меня истязали в сталинских застенках.
– Я, маршал Рокоссовский, меня истязали в сталинских застенках.
– Я, Осип Мандельштам, меня замучили в сталинских застенках.
– Я, член Политбюро Вознесенский, меня замучили сталинские изуверы.
– Я, секретарь ЦК Кузнецов, меня расстреляли в сталинских застенках...
– Я, артист Михоэлс, меня убили сталинские изуверы.
– Я, секретарь ленинградского обкома Попков, меня расстреляли сталинские палачи...
– Я, маршал Мерецков, прошел истязания в сталинских застенках...
БУХАРИН. Я, Бухарин, который предупреждал вас, утверждаю: во время сталинской тирании в нашей стране от голода, ссылок, пыток и расстрелов погибло более двадцати трех миллионов человек. И пока «Память»... Сталин имеют союзников у нас, – рецидив ужаса вероятен. Вот так. Все, товарищи... Мне пора – иду на расстрел...
На просцениум поднимается ИВАНОВ.
ИВАНОВ. Я, Андрей Иванов, шестьдесят второго года рождения, инженер, коммунист, никто из родных Сталиным репрессирован не был. Сплошь и рядом я сегодня слышу: «При Сталине было лучше, царил порядок, и цены снижали»... Если это так, то предлагаю ежегодно проводить «день памяти Сталина»... Вот, например, рядом со мною в этом зале сидела гражданка, которая все время говорила соседу: «Клевета! Шпиона Бухарина с Розенгольцем и Левиным расстреляли правильно, враги народа! Сталин был истинным вождем».
Часть зала аплодирует, слышны крики – «верно!»
(Обращается в зал.) Согласны повторить это отсюда, гражданка?
На просцениум поднимается Нина Андреева.
АНДРЕЕВА. Я, Нина Андреева, химик, повторяю: Сталин был, есть и будет самым великим вождем нашей Родины... Клеветать на него, на нашу историю не позволим никому... Что я, зря под знаменем Сталина жизнь прожила? Хотите сказать, что я дура?! И никогда бы я не призналась в шпионстве, – пусть хоть сто раз арестовывают, – если была честна!
ИВАНОВ. Итак, вы – за «День памяти Сталина»?
АНДРЕЕВА. Да!
Пять человек мгновенно окружают ее, обыскивают, одевают наручники. Срывают с нее одежду, бьют. Андреева кричит, требует предъявить документы. Ей заламывают руки и уводят за кулисы – оттуда раздается нечеловеческий вопль, стон, еще один вопль. Музыкальная пауза, звучит песня «О Сталине мудром».
ИВАНОВ. Введите врага народа Андрееву!
Из-за кулис втаскивают окровавленную, полуживую АНДРЕЕВУ.
Ну ты, сука! Сейчас сюда привезут твою мать и у тебя на глазах протрахают раз двадцать... с трипперком. Или сифоном – найдем и таких! Или ты подписываешь то, что мы подготовили, или пенять придется на себя. В «день памяти» мы пытаем, насилуем и расстреливаем без суда... Ну?
АНДРЕЕВА. Что я... должна... показать?
ИВАНОВ. Повторяй за мной: «Сталин – сука, фашистский наймит, блядь! По его, врага народа Сталина заданию, я расстреляла семьсот сорок коммунистов-ленинцев...» Ну!..
АНДРЕЕВА. Сталин – сука... фашист... блядь... По заданию... врага народа Сталина... я расстреляла семьсот сорок... коммунистов-ленинцев...
ИВАНОВ. Молодец! Умница, товарищ Андреева! Правильно понимаешь свой долг перед Родиной. Повторяй дальше: «Я была завербована парагвайской разведкой в баре отеля “Метрополь” в то время, как его реставрировали финны, чтобы выкрасть товарища Кагановича и вновь привести его к власти...»
АНДРЕЕВА. Я была... завербована...
ИВАНОВ (в зал). Ну как? Да здравствует «День памяти Сталина»? Или назовем этот день – «Днем сладостной вседозволенности»? Или попробуем обойтись без повторения ужаса? Будем изучать книги, воспоминания, документы, акты? Будем учиться? Или – безнадежно? Мужик, что бык, втемяшится в башку его какая-нибудь блажь, колом ее оттудова не вышибешь... Или без кнута не выбьем из себя рабство? Тогда, может, плебисцит?
Выходит ВЫШИНСКИЙ.
ВЫШИНСКИЙ. Давайте, пташеньки, дискутируйте! Мы умеем ждать и вести досье... Сейчас вы – нас, но придет, придет время, когда мы – вас! Правда, товарищ Андреева?!
ЧАСТЬ 3. Статьи, Рецензии и Выступления
ОТ СОСТАВИТЕЛЯ. Ольга Семенова
СТАТЬИ
РЕЦЕНЗИИ
ВЫСТУПЛЕНИЯ
ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
Мы – единственное государство, которое на протяжении веков было лишено самого понятия и права на слово.
Юлиан Семенов
За свою жизнь отец написал столько статей, что из них одних можно было составить сборник, поэтому в эту главу я была вынуждена включить лишь несколько – самых, на мой взгляд, интересных, в том числе – передовицы для созданной им газеты «Совершенно секретно».
Истины ради хочу сказать, что никаких помощников или, как говорили в иные времена, «соратников» при создании газеты у него не было.
Был отец, в одиночестве пробивший все бюрократические препоны и преграды, и набранная им команда талантливых молодых журналистов – Дмитрий Лиханов, Елена Светлова, Борис Данюшевский, Евгений Додолев. Артем Боровик пришел в «Совершенно секретно» чуть позднее – газета выходила уже несколько месяцев, когда он стал ее корреспондентом в Венгрии, а уже потом, наравне с остальными, обозревателем.
После трагической гибели в Париже в мае 1990 года папиного первого заместителя Александра Плешкова Артем был назначен на его место, а после папиной болезни занял место главного редактора.
В момент приватизации стал ее собственником. Но, по крайней мере, вплоть до смерти Артема газета сохраняла дух Семенова, а на ее первой странице было написано «Газета основана Юлианом Семеновым в 1989 году». Почему теперь надпись на ней гласит, что это издание Юлиана Семенова и Артема Боровика – непонятно.
Непонятно и то, как замечательная, честная и политически острая газета могла превратиться в бульварное издание.
(Сразу хочу оговориться, ряд журналистов подготовил для издательства «Совершенно секретно» прекрасную книгу «БЕСЛАН. Кто виноват?», по-граждански честно рассказывающую о трагедии в Беслане, но это никоим образом не оправдывает то, что произошло с самой газетой>.)
Чтобы напомнить поклонникам творчества отца ту, прежнюю «Совершенно секретно», от которой, увы, сохранилось только название, я привожу его передовицы – это поистине высший пилотаж журналистики.
Рецензий Юлиан Семенов тоже написал немало – на похвалы не скупился, таланты охотно поддерживал, а если критиковал, то конструктивно, не лишая человека желания писать, а, наоборот, поддерживая.
Отец много выступал – без бумажки, всегда экспромтом, перед самыми разными аудиториями – на заводах, в институтах, на предприятиях, в концертных залах. Успех у него всегда был оглушительный – зрителей он завоевывал сразу и до конца вечера. Харизма? Знания?
Обаяние? Актерский талант? Думаю, все сразу. Говорят, что люди, имевшие счастье присутствовать на спектаклях Ф.И. Шаляпина, были разачарованы, слушая позднее его пластинки – голос терял часть своего обаяния и магии. Не знаю, сможет ли бумага передать все то, что отец доносил до своих слушателей, но все-таки привожу некоторые из его выступлений.
Пророческим, иначе не скажешь, стало его последнее выступление – на съезде молодых предпринимателей. В своих размышлениях о российских традициях и поиске «защитника» он кратко, но очень точно вычленил те особенности нашего национального характера, которые неизменно становились причиной политических трагедий и массовых азочарований.
Ольга Семёнова
СТАТЬИ
ЭВАКУАЦИЯ (Северный полюс, 1967 г.)
«Сижу в маленьком домике Исии – сан под Токио ...» (Токио, 1969 г.)
«Весенний снег валил пятый час подряд ...» (Токио, 1969 г.)
«Душная жара в Мадриде спадала лишь часам к десяти ...» (Париж. 1970 г.)
О КАВАЛЕРЕ ФРАНЦУЗСКОГО ПОЧЕТНОГО ЛЕГИОНА СЕСАРО УГАРТЕ (Перу, Лима. 1971 г.)
«Наш самолет летел через Атлантический океан ...» (Аргентина, 1984 г.)
«В самолете, что следовал из Лимы в милую моему сердцу Гавану ...» (Панама, 1984 г.)
САНДИНО – РЫЦАРЬ НИКАРАГУАНСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ (Никарагуа, 1984 г.)
РЕПОРТАЖ ИЗ ЖЕНЕВЫ (Швейцария, 1985 г.)
О МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ, АКЦИЯХ, СТРЕССЕ, ЮРИСПРУДЕНЦИИ, АВТОСЕРВИСЕ И ЕЩЕ КОЕ О ЧЕМ
СТАТЬЯ (1989 г.)
СОВЕРШЕННО ОТКРЫТО
(СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО № 1, 1989 г.)
ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
(СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО, июль 1989 г.)
СОВЕРШЕННО ОТКРЫТО-2
(СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО, сентябрь 1989 г.)
СОВЕРШЕННО ОТКРЫТО-3
(СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО, январь 1990 г.)
ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ
СОВЕРШЕННО ОТКРЫТО-4
(СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО, февраль 1990 г.)
ЮЛИАН СЕМЕНОВ ОТВЕЧАЕТ НА ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
СОВЕРШЕННО ОТКРЫТО-8
(СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО, июнь 1990 г.)
ЭВАКУАЦИЯ
«Правда»
Северный полюс, 1967 год
В летной гостинице Хатанги я попал в атмосферу ничем не проявлявшейся, но тем не менее явственно ощутимой тревоги: положение на СП-13 крайне тяжелое, льдину изломало, жизнь зимовщиков в опасности, а погоды нет ни на Полюсе, ни на Большой земле: всюду метет пурга, пришедшая с циклоном из Гренландии.
А с этим циклоном наверняка придет и новое торошение, а что такое торошение, представить себе довольно сложно, не столкнувшись с этим явлением воочию.
Представьте себе все-таки канонаду из сотни артстволов главного калибра, помножьте это на ломающийся лед, который, наползая, превращаясь в бело-голубую стену, неудержимо прет на вас, снося все на своем пути, представьте стремительно появляющиеся разводья, величиной в километр, – это, пожалуй, и будет приблизительным описанием торошения.
Оно смертельно опасно еще и тем, что лед ломает аэродром, и люди остаются в океане, отрезанные от Земли, за многие сотни километров, в зоне недоступности: ни ледоколу сюда не пробиться (а СП-13 уже дрейфовала в Западном полушарии), ни самолету не сесть, ни вертолету не долететь.
И сейчас, здесь, в летной гостинице, когда пришло новое сообщение о торошении на Полюсе, люди очень тревожатся за товарищей, но волнение носит непоказной характер: Арктика – это в первую голову сдержанность.
Так же сосредоточенно сражаются в шахматы пилоты и наука, так же сидит за мольбертом Герой Советского Союза пилот Константин Михаленко, присматриваясь к лицам товарищей. Он даже пробует шутить, рассказывая про полярного Василия Теркина, опытнейшего бортмеханика – у него есть своя теория торошения, и объясняется она просто: «земля, понимаешь, круглая, а лед – плоский. Вот когда лед на полюс приносит, он и начинает то-рошиться, по краям обламывается».
Михаленко заслуживает того, чтобы о нем рассказать поподробнее. Круг интересов этого великолепного пилота радует завидным многообразием: он сам пишет сценарии о ледовой разведке, сам снимает свои фильмы для Центрального телевидения, сам их монтирует; свои новеллы о фронте, о любви, о зимовке в Антарктиде он иллюстрирует своими рисунками.
В полет на лед он отправляется с авоськой, в которой лежит альбом скрасками, растворимый кофе и книги: путь над океаном долгий, можно успеть перечитать все литературные новинки. Во время отдыха между полетами Константин Фомич уходит с мольбертом на пленер, в стужу, красоту, лед.
Арктика – есть Арктика: она прекрасна и в дни весны, когда лед светится изнутри сине-голубым, яростным высверком, а желтый хвост махонького солнца упирается оранжевым столбом своих лучей в черные разводья дымной воды; прекрасна Арктика и в дни зимы, когда в темном небе развешены красно-фиолетовые сполохи Северного сияния, словно занавес в диковинном театре, когда его вот-вот поднимут, и начнется не виданное никем загадочное и феерическое действо.
Михаленко много своих живописных работ посвятил Арктике и ее покорителям – они талантливы и пронизаны любовью и к этому краю и к тем, кто рискует вступать с ним в единоборство.
Михаленко неторопливо говорил, продолжая рисовать солнечной Арктической ночью, но когда с аэродрома позвонил штурман Алексей Сорокин и сказал, что полюс дает погоду и что бортмеханик Б.Ефимов и Пилот М.Агабеков уже готовят самолет к вылету, Константин Фомич, Обычно несколько даже медлительный, в мгновенье ока собрался и, Подхватив свою авоську с альбомом и красками, чуть не побежал к аэродрому, не дожидаясь высланного за ним автобуса.
Когда Михаленко подходил к аэродрому СП-13 – чудом уцелевшему среди хаоса воды и маленьких, искрошенных льдин, он успел сделать лишний круг и передал по радио ледовую обстановку: какая-никакая, а все-таки помощь товарищам. Обстановка ухудшалась с каждым часом: разводья сделались похожими на реки среди льда, громадились десятиметровые торосы, оставшиеся ледяные поля прошили змеистые, стремительные трещины – сюда в случае чего тоже не сядешь, мала площадка.
Михаленко покачал головой и повел самолет на посадку. Усадил он свой Ил-14 артистически, как младенца в коляску, легче, казалось, чем на бетон внуковского аэродрома.
Он забрал вторую партию зимовщиков – только-только перед нами первым сюда прорвался борт М. Васильева. Те, кто оставался на льду 8до самого последнего рейса, прощались с улетавшим поваром (вес 120 килограмм, отличный товарищ – шутливое прозвище «Заморыш»), давались остальным колегам шутливые поручения уже снятому со льда приятелю по прозвищу «Глыба» (вес 40 килограмм), и было в этом прощании на искоршенной льдине столько веселости и непоказного верования в благополучный исход всей эвакуации, что можно было только диву даваться.
Это ведь Северный полюс, это даже не Антарктида – там все же под ногами материк, а здесь – 3800 метров воды, брось копейку – полчаса будет вниз падать, а то и больше, а лед – полтора метра, сигнальная лампочка тревоги в мозгу горит все время, как тут не крути…
Самолет Михаленко улетел, и на льду СП-13 возле чудом уцелевшего пока аэродрома остались последние зимовщики, отдавшие этому льду год жизни. Они проводили глазами бело-красный самолет, дождались, пока он растворился и исчез в необыкновенно высоком небе, и двинулись через разводья на свой ледяной огрызок.
Как же проводили последние часы на изломанной, ежеминутно могущей совсем искорешиться льдине полярники?
Эти самые последние часы ничем – или почти ничем – не отличались от всех, проведенных здесь за год. Часть полярников (а нас на льдине осталось восемь человек) упаковывали научную аппаратуру, оттаскивали на волокушах к лодке, чтобы потом переправить на другой берег, радист Минин по-прежнему сидел неподвижно возле своего радиоаппарата, а после, когда все было упаковано, мы собрались в кают-компании, теперь уже – это было очевидно – обреченной на смерть в теплом океане, ее уже никак не перетащить через разводья к аэродрому, а льдину нашу неумолимо, со скоростью 560 метров в час, несло все дальше в западное полушарие, в теплые воды Гренландского моря.
Когда я начал было передавать по радио в редакцию подробный, нелицеприятный отчет о ситуации, начальник Северного полюса-13 Василий Сидоров сказал:
– Только, знаете, без драматических ноток. Да, да, я все понимаю – сила примера, воспитательное воздействие и так далее. Но только на Большой земле остались наши семьи. Передайте – пусть в самом конце – что, мол, положение стабилизировалось и вообще «все хорошо, все хорошо»…
А положение-то не стабилизировалось, и лед расходился все больше и больше, и новая трещина прошила наш огрызок в двух метрах от домика самого Василия Сидорова, а он в это время продолжал заниматься утренней гимнастикой с гантелями, а в кают-компании главный врач ордена Ленина Арктического и Антарктического института А.Л. Матусов проводил личностно-социологические опросы полярни-9ков на тему: «Каким может быть зимовщик и каким он быть не может».
Люди сидели на чистом фанерном полу, прижавшись промерзшими спинами к батареям газового отопления и отвечали поначалу на довольно легкие вопросы: «Должен ли полярник быть трудолюбивым? «Может ли он быть меркантильным? Вспыльчивым? Молчаливым? Скрытным? Интеллектуальным?»
Потом вопросы стали более сложными, каждый из них активно дискутировался: «Любите ли вы сказки?», «Какую литературу предпочитаете – классическую, приключенческую, научно-популярную?», «Отрицательно ли вы относитесь к той компании, где принято заведомо подшучивать друг над другом?», «Будет ли вам неудобно жаловаться на официанта или продавца, если вас плохо обслуживают?» (все ответили, что будет неудобно), «Склонны ли вы теряться в общественных местах?» (почти все ответили, что склонны) «Любите ли вы первым завязывать знакомства?», «Повышаете ли голос при споре?»
А лед-то поскрипывает… разойдется под нашей кают-компанией, и ухнем в тартарары, и что такая возможность теоретически вполне допустима, знают все, а спор по поводу того, может ли полярник быть замкнутым или нет гремит вовсю, а вглядеться со стороны: это и не спор вовсе, а последняя научная работа на ломающейся льдине, которую пожирает изнутри теплое, пока еще еле заметное, но с каждым часом все более ощутимое теплое течение этого самого треклятого Грен-ладского моря…
Спор прекратил вошедший в кают-компанию В. Сидоров. Он сказал, что нашу льдину совсем и теперь уже безнадежно оторвало от аэродрома – трещина расползлась метров в тридцать.
Кто-то хмыкнул:
– Должен ли быть полярник трудолюбивым? Сейчас веслами намахаемся – что твои Химки летом…
И все пошли переправлять на маленькой лодочке оставшиеся здесь грузы. К трещине шли с шутками и смехом. И была в этом громадная уважительность друг к другу, к чувствам каждого, к той сигнальной лампочке постоянной тревоги, которая в мозгу у каждого – ведь известно, что людей без страха нет. Просто есть люди волевые и безвольные.
Улетали мы с СП-13 на борту Н. Шеварнова. В кресле второго пилота сидел такой же молодой человек – командир эскадрильи Евгений Журавлев, тридцать седьмого года рождения.
Он «вывозил» на лед, на самые ответственные рейсы своего младшего коллегу. Обстановка полета была – скажем прямо – довольно сложной, но Журавлев сидел совсем спокойно, сложив по-наполеоновски руки у подбородка. И только чуть качнет головой влево – круче закладывать вираж, к штурвалу сам не прикасался, иногда только чуть руку поднимет – больше газа.
Шеварнов понимает его с полужеста, со взгляда. В этой тактичности, в этом умении быть уважительным к товарищу в трудном летном арктическом подвиге, в этой – я бы сказал – профессиональной интеллигентности мне виделось что-то очень знакомое.
А когда наш самолет приземлился на одном их махоньких островков, заброшенных в Ледовитом океане, и я увидел в иллюминатор штурмана крохотную фигурку в торосах, возле мольберта, я сразу вспомнил :это жу Журавлева от Константина Михаленко, от его учителя. А какие-то черточки, так подкупающе-незаметные у Михаленко, я уже видел шесть лет тому назад у Героя Советского Союза Мазурука, который летал со Шмидтом – в далекие и близкие тридцатые годы, а после войны – с Михаленко.
На этом маленьком острове никто не встречал зимовщиков, вывезенных с изломанной льдины: Арктика привыкла к подвигу. Вероятно, эта привычка к подвигу – великолепна в своей сдержанности и скромности, но все-таки не надо никогда забывать о том, что жизнь на льду и полет над ним – это непреходящее мужество, которое всегда восхищало и всегда будет восхищать человечество.
Когда мы, стараясь не будить спавших летчиков, поели макарон с тушеным мясом и выпили боевые двести грамм компота, Михаленко пошел будить свой экипаж – предстоял полет на восток, на Северный полюс-15, там шла смена караула науки, там продолжался подвиг.
«Сижу в маленьком домике Исии – сан под Токио ... (1969 г.)»
«Правда»
Токио, 1969 год
Сижу в маленьком домике Исии – сан под Токио, в Матакаси, на Инокасира.
Портреты Зорге на стенах. Матрешки. Книги. Именно она, эта женщина, сумела сохранить и передать нам его фото, известное теперь всему миру. Лицо ее улыбчиво и приветливо, и только громадные глаза скорбны и живут своей жизнью.
Исии-сан рассказывает:
– Сначала незаметный тихий человек из секретной полиции пришел к моей маме:
«Вы должны сделать так, чтобы ваша дочь была настоящей японкой. Она должна помогать нам. Когда ее друг уезжает, она должна приносить нам его бумаги и после аакуратно класть их на место. Об этом никто никогда не узнает... Если же об этом разговоре передадут другу вашей дочери, пенять вам придется на себя».
Друг Исии-сан узнал об этом.
На следующий день в дверь дома Зорге постучался Аояма – сотрудник специального отделения полиции.
– Исии-сан нет дома, – ответила старенькая служанка, прихо дившая утром к Зорге приготовить обед и убрать в комнатах.
– Пусть она сегодня же придет к начальнику.
Зорге спустился со второго этажа:
– Какое у вас дело к Исии?
– Наше дело, – ответил полицейский без обычной воспитанной улыбки.
– Расскажите мне, пожалуйста, какое у вас дело к Исии-сан...
Аояма оттолкнул Зорге – он хотел продолжать беседу с испуганной служанкой. Реакция у Зорге была мгновенной – он ударил полицейского в подбородок, и тот упал.
Зорге увидел дырки на ботинках лежавшего агента полиции. Он попросил служанку дать ему пару новых туфель – он был неравнодушен к обуви, и у него всегда лежала куча новых, щегольских ботинок.
Аояма туфли взял и, дождавшись, пока Зорге поднялся наверх, сказал служанке: – Он страшный человек, когда сердится... Я не думал, что он такой.
И все-таки они заставили женщину прийти в полицию. Начальник спецотдела Мацунага составил протокол: где родилась, чем занималась, когда познакомилась с Зорге.
– Вы должны дать письменное обещание покинуть его, – сказал полицейский, – и тогда вас можно будет спасти.
– Я не дам такого обещания, – ответила Исии-сан, – ни устного, ни письменного...
– Следовательно, – сказал Мацунага, – на этих днях протокол уйдет в центр, и вы навсегда будете опозорены презрительным подозрением.
В тот же вечер Зорге пригласил в маленький ресторанчик Мацу-нагу, Аояму, переводчика германского посольства Цинашиму и Исии-сан. Зорге поил гостей до ночи и просил об одном – разрешить Исии быть с ним под одной крышей. Мацунага отрицательно качал головой. Он продолжал отрицательно качать головой, когда сделался совсем пьяным.
Зорге помог ему подняться, и они ушли. Их долго не было.
Переводчик немецкого посольства Цинашима обернулся к Исии и шепнул: – Полиция плохо думает о Зорге. Лучше вам не бывать у него. Я буду защищать вас, потому что я японец, но лучшая защита для вас – расстаться с ним.
Поздно ночью, сидя около своей старенькой пишущей машинки, Зорге негромко говорил:
– Больше тебе ходить ко мне нельзя... Я буду тосковать, но ты не приходи.
– Ничего... Я боюсь не за себя, я за тебя боюсь. Он быстро взглянул на нее.
– Знаешь, как страшно, когда болит раненая нога в холода... выть хочется – так страшно болит раненая нога. А у скольких солдат так болят ноги и руки? А сколько таких, как я, солдат сгнило на полях войн? Воровство – вот что такое война, малыш... Человек – малень кий бедный солдатик. Когда начинается война, солдатик не может сказать «не хочу». Я стал умным, поэтому и делаю так, чтобы войны больше не было...
Он запнулся на мгновение и поправился:
– Стараюсь так делать, во всяком случае. Это моя работа, понимаешь? Моя настоящая работа...
– Цинашима-сан сказал, что за тобой следят... тебе не верят...
– Зорге делает хорошее дело, – продолжал он тихо. («Он говорил с таким прекрасным акцентом», – вспоминает Исии-сан, и тонкие пальцы ее рвут тонкий шелковый платок, и громадные глаза кажутся невозможно скорбными, увеличенными толстыми стеклами очков, – в тюрьме у нее испортилось зрение.) – Война страшна. Человек несчастлив. Понимаешь, – продолжал он,– Зорге делает хорошо. Потом я умру. Это правда. Я умру. Что поделаешь? Зато люди будут счастливы. И ты будешь жить. Если Зорге не погибнет, вам будет трудно жить. Вам, японцам. А если я сделаю мою работу, это будет для японцев счастьем. Это правда...








