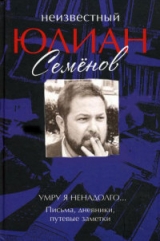
Текст книги "Неизвестный Юлиан Семенов. Умру я ненадолго..."
Автор книги: Ольга Семенова
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 85 страниц)
Критика, бесспорно, вещь архиполезная. Но критика т. Зеновой, по-моему, является образчиком того, какой критика не должна быть.
Я готов с благодарностью выслушать любую критику, но я не намерен читать фальсифицированные, бездоказательные статейки. Н. Зенова заставляет моих героев – и Степанова и Надю говорить то, чего они не говорили и говорить не могли: («я хочу ездить на охоту, а она не дает», или «пойдем вперед» или «пойдем назад»).
Критик фальсифицирует текст, пишет его за меня, а после на него обрушивается. Пусть унтер-офицерская вдова и сечет, при чем здесь текст из фильма «Не самый удачный день»?
И потом: неужели т. Зеновой не совестно становиться в позу непререкаемого судьи? Неужели такой развязный тон может считаться неким критерием критического разбора? Либо критика должна объективно помогать творческому процессу – с одной стороны и зрительскому восприятию – с другой, либо надо ввести на вооружение критики дубины и на этом поставить точку.
Еще раз выражая свое несогласие с опусом т. Зеновой, я хочу сказать ей, что она напрасно старалась увидеть в фильме слона. Я очень рад, что она его не увидала: это фильм не о животных, но о людях, которые обязаны быть взаимоуважительными, доброжелательными и тактичными.
Если редакция считает возможным, я готов прилететь в Свердловск на обсуждение нашей кинокартины с участием зрителей, коллектива редакции и т. Зеновой.
Я надеюсь, что редакция поместит это мое письмо на своих страницах.
1967 год
А.Т. Шаповалову *
Дорогой Алексей Трофимович!
Вы себе даже и представить не можете, как мне было дорого Ваше письмо! Спасибо Вам за него большое! Среди многих моих недостатков одного все-таки нет: я не льстив, а посему примите мои слова как истинную правду: письмо Ваше свидетельствует о Вашей молодости – не в возрастном, но в духовном, моральном смысле, порядочности и гражданской принципиальности.
Поверьте, я бы не стал (так же, как и Вы) подробно разбирать коллизии, связанные с претензией т. Березняка на «майорство Вихря», не отдавай я себе отчета в том, что военно-патриотическое вос– питание читателя, особенно молодого – задача обоюдоответственная: и для писателя и для непосредственного участника подвига.
Представьте себе только, Алексей Трофимович, каково было бы, начни М. Губельман кричать на каждом шагу: «Левинсон – это я! А Фадеев допустил ошибку в “Разгроме” – наш отряд не разбили, а наоборот, мы одержали победу!» Или коли б какой-то генерал сейчас выступил в газете и сказал: «Товарищи, я – имярек – и есть Серпилин из “Живых и мертвых”, но Симонов оболгал меня, написав, что я курю “Беломор”, тогда как я – некурящий!» Смешно, не правда ли?
Тов. Березняк во всех своих многочисленных выступлениях в печати обвиняет меня в том, что я, во-первых, допустил ошибку, «погубив» Вихря, а он, то есть «я, Березняк» – жив; во-вторых, я вообще позволил себе много вымысла: и ограбления в кабаре не было (и не могло быть, ибо это не в манере советских разведчиков, – сказал однажды Березняк), и инженера крали не так (что же мне писать, как этот инженерный офицер хаживал по дамам?!), и что касаемо любви – там тоже все было не совсем так и т.д.
Мне казалось, что будет довольно жестоко, Алексей Трофимович, коли я выступлю в прессе еще раз и повторю, что т. Березняк – не есть прототип «Вихря» и что его претензии на судейство моей вещи выглядят по меньшей мере несолидно.
Я очень рад, что Вы пытались говорить об этом т. Березняку. У меня создается впечатление, что т. Березняк хочет приписать себе подвиги всех тех героев, которые помогали спасению Кракова.
Нехорошо это и нескромно. Я преклоняюсь перед подвигами т. Берез– няка, Шаповалова, Церетели. Вероятно, и Вихрь, и Аня, и Коля были бы иными, не будь на свете тт. Березняка, Шаповалова, Церетели...
Но, согласитесь, Алексей Трофимович, что достойнее нам всем, живым, строить память павшим, а не возводить себе прижизненный монумент.
Мне очень дорого то, что Вы отстаиваете правду – пусть только в беседах с т. Березняком. Правда – такая категория, которая вечна и неисчезаема. Согласитесь – то, что можно уничтожить правдой, – не существует...
Да, одним из «камней» в фундаменте образа Вихря была история побега т. Березняка с рынка, был его героизм в застенках гестапо, но зачем же т. Березняку ронять себя, «монополизируя» все права на Вихря, лишая права распространить подвиги Вихря и на других наших разведчиков, действовавших в Кракове – живых и мертвых?!
Скромно ли это? Достойна ли такая позиция?
Как поступить мне—не знаю. Выступить еще раз в печати? Каким должно быть это выступление? В связи с чем? Мне было бы очень важно узнать Вашу точку зрения, Алексей Трофимович.
Жду Вашего письма. Крепко жму Вашу руку. Всего Вам хорошего и еще раз спасибо за такое хорошее, честное и благородное письмо.
С глубоким уважением.
* А.Т. Шаповалов в годы Великой Отечественной войны был военным разведчиком, внедрившимся в абвер на территории Кракова. Юлиан Семенов познакомился с ним при работе над романом «Майор Вихрь».
1967 год *
Прокурору Московской области
От Семенова Ю.
Заявление
В ноябре 1962 года произошел несчастный случай на охоте, в результате которого погиб Н. Осипов. Стреляли в тот день два человека. Одним из стрелявших был я. На основании моих показаний против меня было возбуждено уголовное дело, и я был условно осужден в Мособлсуде.
Несмотря на то что я показывал, что я нарушил правила охоты, стрелял не со своего места и вдоль линии стрелков (или почти вдоль линии), ни на следствии, ни на суде виновным я себя не признал и по сей день не признаю.
Почему я не обжаловал тогда, пять лет назад решение Мособлсуда? Только потому, что я чувствовал: силы на исходе. В тридцать два года разыгралась гипертония, начали рваться сосуды на ногах. А мне надо было еще много написать из того, что задумывалось до 19 ноября 1962 года. И я написал с тех пор романы: «Петровка, 38», «Пароль не нужен», «Майор Вихрь», повесть «Дунечка и Никита», пьесы: «Петровка, 38», «Особо опасная», «Шоссе на Большую Медведицу», киносценарии: «При исполнении служебных обязанностей», «По тонкому льду», «Не самый удачный день», «Исход», «Пароль не нужен», «Майор Вихрь».
Я работал все эти годы, не щадя себя, по десять – пятнадцать часов в сутки, но все время возвращался к тому трагическому случаю на охоте.
А ведь на судебном разбирательстве моя невиновность открылась для меня с еще большей очевидностью после показаний второго стрелявшего в день охоты – С. Столярова.
Я не стану пересказывать всего этого объемного и эмоционального дела (подчеркивания отдельных фраз в тех или иных показаниях свидетельствуют об этом со всей очевидностью). Я просил бы вытребовать это дело из архива Мособлсуда, прочитать его и сосредоточить внимание на трех основных документах:
1. Схема места происшествия – с моим к ней замечанием, зафиксированным прямо на схеме, и – обязательно – пересмотрев ее в связи с показаниями Столярова на суде, когда он утверждал, что стрелял он в лося СЗАДИ, когда тот отошел от него шагов на ДЕСЯТЬ.
2. Заключение баллистической экспертизы о том, что лось был убит выстрелом СПЕРЕДИ.
Если поверить этим двум документам (я не прошу верить моим показаниям), хотя я с самого начала следствия, еще до того, как пришла баллистическая экспертиза, утверждал, что я убил лося выстрелом спереди, справа – налево, т.е. так, как потом подтвердила экспертиза, то получится, что С. Столяров просто-напросто не мог убить со своего места лося. Может возникнуть второй вопрос: если Столяров лося не мог убить и не убил, то тогда зачем он утверждал, что второй выстрел он произвел по второму лосю, в диаметрально противоположном направлении.
Я не хочу Вас просить о том, чтобы Вы ответили мне на этот вопрос. Я просил бы только об одном: вытребовать из Мособлсуда мое дело, ознакомиться с ним, вызвать меня для беседы (м.б. я все-таки ошибаюсь, тогда вокруг этого дела бушевали страсти, сейчас уже много лет прошло, можно объективнее все рассмотреть) и – если в Вас закрадется сомнение в правильности вынесенного против меня обвинительного вердикта – снять с меня эту тяжесть, которая ранит меня ежедневно и ежечасно, не потому что я ущемлен чем-то (судимости у меня нет, дело забылось и перестало быть притчей во языцех, вдова Н. Осипова может быть тоже вызвана Вами для беседы: в те годы она писала жалобы против меня во все инстанции, а сейчас, когда мы с ней видимся, она дает совсем иную оценку произошедшей трагедии), – не юридически меня что-то ущемляет, хочу повторить, но только морально.
Очень прошу верно понять мою просьбу. По одному и тому же делу, насколько мне известно, не могут судить дважды или двух. Я не прошу об этом. Я прошу снять с меня эту моральную, трагическую тяжесть – в том, конечно, случае, если Вы, товарищ Прокурор, ознакомившись с делом, побеседовав со мной, найдете для себя бескомпромиссную возможность поддержать мою просьбу об отмене этого приговора об условном наказании и о прекращении этого дела.
* Давно уже нет на свете участников драмы, о которой идет речь в нижеприведенном письме, но некоторые коллеги из литературной среды ее до сих пор вспоминают. Мне довелось читать телеинтервью одного писателя, бывшего эмигранта, для юбилейного фильма Семенова – в честь его 75-летия (дали друзья-журналисты, прежде чем смонтировать фильм, «выбрав» хорошие фразы): «Вся его литературная жизнь была сломана в один момент! – горячо говорил писатель. – Вы что, не знаете, что с ним произошло?! – Это были не сплетни, просто люди узнавали и обсуждали. Во время охоты под его пулю попал егерь. Случайно и совершенно насмерть. И все говорили, что будет суд, и вряд ли его пощадят». Несчастный случай произошел на глазах у Е.С. Семеновой. Когда раздались выстрелы, одним из которых был смертельно ранен егерь Н. Осипов, она сразу подбежала к раненому: возле него, отбросив в сторону ружье, стоял на коленях... актер Сергей Столяров и отчаянно плакал. Сперва думали, что виновник – он, потом подозрение пало на Ю.С. У адвокатов есть девиз: «Лучше оправдать виновного, чем осудить невиновного». В той трагической ситуации суд руководствовался иными мотивами. Следствие продолжалось долго: показания свидетелей были противоречивы. Столяров и Семенов уверены, каждый, – в собственной невиновности, эксперты затруднялись с безапелляционным ответом. Перед судьей встала непростая задача – кого осудить за случившееся? Известный, заслуженно любимый народом талантливый пожилой артист – с одной стороны и не менее талантливый, но молодой писатель – с другой. Виновным признали Семенова. Быть может, суд решил, что молодому перенести такое легче? Оказалось, что нет – он горько и тяжело переживал происходившее. Папа не рассказывал мне об этой истории, поэтому много лет спустя, уже после его смерти, я сама сделала вывод о его невиновности, прочтя это письмо.
15 декабря 1968
(к комсомольскому руководителю, фамилия отсутствует)
Уважаемый Евгений Михайлович!
Видимо, нет нужды теоретически обосновывать необходимость каждодневной, яростной, атакующей пропаганды Подвига. Следует, вероятно, приступить к практическому осуществлению этой задачи, к претворению ее в жизнь.
1. О театре «Подвиг». Во-первых, следовало бы сразу оговорить, что это будет Театр Цекамола. Во-вторых, следует отдать себе отчет в том, что сейчас театры – суть площадки для самовыражения таланта режиссера и актера на базе той или иной драматургии, в то время как наш театр должен быть театром темы Подвига, то есть таким театром, в котором драматурги будут главным «рычагом» репертуарной политики.
Несколько частных замечаний. В гостинице «Юность» есть зал, принадлежащий Комсомолу. Там и великолепно оборудованная сцена, и актерские комнаты, и замечательный зал на 600 мест. Следовательно, база, то есть то главное, без чего театр не может начаться, – есть.
Вопрос о труппе. Можно было бы предложить нескольким выпускным курсам московских театральных училищ сделать дипломы по тем пьесам, которые им будут рекомендованы. Это будет своеобразный конкурс: тот курс, который сделает наиболее интересный спектакль, и станет впоследствии главным костяком труппы.
О режиссёрах.
Наш театр не должен быть театром одного режиссера. Наоборот, следует приглашать разных режиссеров, с тем чтобы не было творческого диктата и застоя.
Я вел предварительные переговоры с Ю. Бондаревым, Р. Карме-ном, М. Жаровым, Ю. Егоровым, М. Шатровым, В. Туром, А. Адамовым, В. Липатовым – все эти и многие другие писатели и режиссеры готовы сотрудничать в новом театре.
Вопрос заключается лишь в том, чтобы Театр из мечты сделать явью, реальностью...
2. О телевизионной программе «Подвиг». Телевидение имеет про граммы «Время», «Горизонт», «Кинопутешествия»... Нет только про граммы «Подвиг». Программа «Подвиг» не должна дублировать бла городной работы С.С. Смирнова. Отнюдь. Он обращен в своем по иске лишь к героям Великой Отечественной войны.
Программа «Подвиг» может и должна обращаться и к первым годам революции (неиспользованные богатства архивов Советской армии, Октябрьс кой революции, Центрального партийного архива) и – главное – к сегодняшнему дню.
Где черпать материалы? Если бы по согласова нию с тов. Месяцевым была создана редакция «Подвиг», то можно было бы очень быстро наладить связи с МВД СССР, КГБ при СМ СССР, Прокуратурой СССР, Министерством обороны СССР, с Министерством морского флота, с Министерствами геологии, авиации, рыбной промышленности (рейсы в Атлантику и в Тихий океан), с Академией наук СССР.
Как строить программу? Здесь есть несколько «отмычек». И до– верительный, писательский, журналистский рассказ о подвиге, и кад– ры хроники, и игровые куски.
3. «Комсомольская правда» согласна дать ежемесячную рубрику «Подвиг». Это должен быть разворот или полоса, целиком посвящен ная подвигу: чекиста, ракетчика, сыщика, геолога, пограничника, летчика полярной авиации, нашего современника, молодого человека, комсомольца.
4. Если мы смогли бы практически осуществить эту программу, следовало бы впоследствии обратиться в ЦК КПСС с просьбой пере дать ЦК ВЛКСМ Ялтинский филиал киностудии имени Горького, для того чтобы на базе этих неиспользованных возможностей – экономических (студия часто простаивает, особенно в зимние месяцы), климатических (я видел Голливуд, их климатические условия идентичны ялтинским и эксплуатируются разумно и жестко в отличии от ситуации в Ялте) и творческих (в Ялте нет своего сценарного отдела, Ялта сейчас – придаток Москвы, а это – неэкономно!) – создать кинообъединение ЦК ВЛКСМ «Подвиг», сделать киноцентр Страны для детей и – главное – юношества.
Для того чтобы приступить к реальному осуществлению этих мероприятий, если конечно же они представляются Вам целесообразными, следовало бы организовать при Бюро ЦК ВЛКСМ Штаб «Подвига» во главе с одним из секретарей ЦК; «Штаб» не должен быть многочисленным и «показушным» – он обязан быть локальным и работоспособным.
Помимо Г. Бережного, К. Молодого, В. Ильшина и еще двух-трех общеизвестных в СССР Героев Труда должны войти представители заинтересованных министерств и ведомств, а также группа, опять-таки не столь многочисленная – писателей, журналистов, режиссеров и актеров, например: А. Адамов, Э. Кеосоян, О. Горчаков, Н. Губенко, А. Михалков-Кончаловский, В. Липатов, А. Попов.
Начальник штаба «Подвиг» и два-три его заместителя могли бы в сжатый срок подготовить рабочие материалы для практического рассмотрения комплекса этих вопросов на Секретариате ЦК ВЛКСМ.
Вот вкратце те соображения, которыми мне, Евгений Михайлович, и хотелось с Вами поделиться.
С уважением Юлиан Семенов.
1969 год
Ленинград, «Ленфильм»
Творческая заявка на фильм *
В настоящее время я работаю над новым кинороманом под названием «Семнадцать мгновений апреля». Кинороман посвящен подвигу Максима Максимовича Исаева в последние дни войны, в апреле 1945 года.
С помощью полковника немецкой военной разведки Берга, завербованного нашими людьми в Кракове, в сорок четвертом году, Исаев входит в контакт с Фогеляйном – одной из наиболее загадочных фигур в гитлеровской иерархической системе.
Тридцатичетырехлетний генерал СС, шурин Гитлера – он был расстрелян в бункере рейхсканцелярии за несколько дней до краха Третьего рейха.
По утверждению генерала Р. фон Бамлера, проживающего ныне в Потстдаме и являющегося генералом в отставке Народной армии ГДР (в прошлом он был одним из заместителей Канариса, но, попав в плен, как «Семнадцать мгновений весны».
командир дивизии вместе с Паулюсом он вошел в Комитет «Свободная Германия» и очень много сделал для борьбы с гитлеризмом), Фогеляйн оказал помощь нашей разведке и за это был казнен.
Подробности, рассказанные мне Бамлером, определенные материалы, подобранные в архивах кино ГДР, позволяют считать эту версию в определенной мере достоверной.
Исаев не только сумел похитить секретные архивы СД, касающиеся агентуры СД и СС, оставленной в наших тылах, но и открыл код «Вервольфа», подпольной гитлеровской организации, призванной поднять «партизанское движение» против советских войск.
Исаев через Берга, вхожего к Фогеляйну (а сам Исаев известен в СД как полковник фон Штирлиц), выходит на сепаратные переговоры между Гиммлером и представителями шведского Красного Креста о заключении одностороннего договора с западными союзниками.
В этом киноромане будут показаны последние дни гитлеризма, агония партийного, военного и административного аппарата рейха. Основным же стержнем новой вещи будет показ подвига советского разведчика – нелегала Исаева-фон Штирлица в неимоверно сложных условиях гитлеровского режима.
Кинороман будет закончен летом этого года.
* Роман вышел под названием «Бриллианты для диктатуры пролетариата».
1970 год
Демичеву П.Н.
Уважаемый Петр Нилович!
Работа над циклом романов «Пароль не нужен», «Майор Вихрь», «Семнадцать мгновений весны», «Похищение бриллиантов» (этот роман будет опубликован в журнале в начале следующего года)* – все эти вещи объединены «сквозным» героем – привела меня к завершающей теме. Новый роман будет называться «Бомба для господина председателя».
Схематично сюжет, построенный на документальной основе, сводится к следующему: гитлеровский военный преступник, миллионер Флик, осужденный Нюрнбергским трибуналом, был «вытащен» из тюрьмы и приведен к новому могуществу американской банковской группой – в основном сионистской.
То есть: сионисты привели к экономическому могуществу в ФРГ человека, известного своим звериным антисемитизмом во времена Гитлера. Сейчас Флик – основной финансист неонацистов фон Таддена.
Более того: представители Флика и связанные с ним преступники из «И.Г. Фарбениндустри», поставлявшие в свое время для Гиммлера газ «Циклон», сейчас ведут через Гонконг и Макао серьезную торговлю с режимом Мао.
Японские промышленники, с которыми мне приходилось беседовать, высказывают убеждение, что немцы поставляют Мао стратегические товары, приобретенные в США, необходимые для ядерных испытаний.
Экстремистские круги ФРГ, выступающие против урегулирования отношений между СССР и Западной Германией, делают ставку на атомное оружие Бонна. Они нуждаются в атомном полигоне.
В Европе такого полигона нет, в Сахару не пустят французы, а за атоллами Тихого океана ревностно наблюдают англо-американцы.
Следовательно, для реваншистов, типа Флика, остается один выход: идти на контакт с группой Мао и совместно работать на Тибетском атомном полигоне.
Все материалы, относящиеся к этой теме, которые есть в СССР, мною проштудированы и переведены. Работа над романом вступила в заключительную стадию, когда мне необходимы встречи с рядом людей в США, Испании, ФРГ и Гонконге.
(Среди лиц, с которыми я имею возможность встретиться, – сорокалетний директор -ского концерна фон Браухич, директор меллоновского банка в Нью-Йорке, Скорцени – в Мадриде и т.д.)
Я был убежден, что эти встречи позволят мне сделать роман более выверенным. Я был убежден также, что встречи эти дадут материал для выступления в периодической печати с циклом контрпропагандистских очерков.
(Именно в результате журналистских командировок во Вьетнам, к партизанам Лаоса, в Западный Берлин, Японию, Сингапур мною были напечатаны очерки в «Правде», «Комсомольской правде», «Литературной газете», «Труде», а также написаны книги «Семнадцать мгновений весны», «Он убил меня под Луанг-Прабангом», «Вьетнам – Лаос, 1968».)
«Труд» и «Литературная газета» вошли в инстанцию с просьбой командировать меня в США и Испанию, причем целесообразность поездки в Испанию была согласована в Международном отделе ЦК КПСС.
Однако, как мне стало известно, работники Агитпропа посчитали мою командировку ненужной и предложили редакции отозвать предоставления на поездку. Причина? Семенов слишком много ездит.
Может быть, это нескромно, Петр Нилович, но товарищам стоило бы сформулировать отказ иначе: Семенов слишком много пишет, ибо в последний раз я был в командировке в феврале 1969 года, то есть более года тому назад. (Туристические же поездки, как мне кажется, в графу командировок не входят.)
Никто не посчитал своим товарищеским долгом вызвать меня в отдел, побеседовать, справиться о творческих планах и т.д. и т.п. Товарищи, как я слышал, посчитали за бестактность также и то, что в инстанцию вошли одновременно две газеты с предложением о командировке в две разные страны на почти в одно время.
Если бы меня вызвали в отдел, то я объяснил бы товарищам, что это обусловлено следующим обстоятельством: виза в Испанию получается с большим трудом, а в США я могу получить визу с помощью Мэри Хемингуэй, которая согласна быть моим «гарантом».
Но это – технология, и я не смею отнимать у Вас, Петр Нилович, время на эти аспекты проблемы.
Возвращаясь из командировок, я писал записки: будь то беседа с принцем Суфанвонгом в Лаосе, будь то дискуссия с лидерами Внепарламентской оппозиции в Западном Берлине или встречи с идеологами партии Комейто в Японии – насколько мне известно, эти записки были направлены в свое время газетой «Правда» в ЦК КПСС.
Я и в этом хотел быть солдатом, который может и должен приносить пользу Родине.
Понять отказ в разрешении на командировку я не могу, Петр Нилович.
Очень прошу Вас помочь мне.
С искренним уважением, Юлиан Семенов.
Начало 1970-х гг.
В киностудию имени Горького
Творческая заявка *
В течение долгого времени я подбирал документы, относящиеся к великолепному подвигу Н.Н. Миклухо-Маклая – гражданина, ученого, патриота, гуманиста.
Австралийские компании, убежден, с радостью пойдут на совместную с нами постановку картины о жизни Н.Н. Миклухо-Маклая, о его верном друге – жене, дочери австралийского аристократа, пошедшей на разрыв с домом из-за высокой своей любви к русскому ученому, о его путешествиях по островам Тихого океана – путешествиях, полных приключений, опасностей, германо-русских интриг.
Это последнее – русско-германские интриги, экспансия Бисмарка в бассейн Тихого океана, инертность русского царизма, его узкоумие позволяют в будущем сценарии дать не только увлекательный (я не боюсь сказать детективный по внешнему ходу сюжет), но и показать все драматическое борение страстей в мире, которое проявлялось в двух отношениях к нашим «младшим» братьям – к туземцам далеких островов: отношение снисходительного барства и отношение Человека, исповедующего Братство и Равенство.
В случае, если студия заинтересуется этой совместной постановкой – в Крыму это, увы, снять нельзя, – тогда можно было бы в самое короткое время представить сценарий под условным названием «Спасите наши души!».
С уважением, Юлиан Семенов.
* Фильм снят не был.
1975 год
В Пресс-группу КГБ при СМ СССР
Уважаемые товарищи!
Роман «30 июня», являющийся продолжением «Альтернативы», есть форма социального заказа: борьба против всех и всяческих проявлений буржуазного национализма, который суть – оружие третьей силы, иностранной державы, вражеской идеологии.
Роман написан на основании фактического материала, опубликованного на Украине Климом Дмитруком и В. Кардиным, авторами, много лет отдавшими борьбе с буржуазными националистами. Никакими закрытыми материалами архивов я не пользовался.
Роман был принят к публикации в газетах «Вильна Украина» (Львов) и «Советская Украина» – орган ЦК КПУ. Однако, товарищам в редакции было сказано в местном Главлите, что, поскольку «Штирлиц работает в Центре», то необходимо разрешение Центра на опубликование романа, где действует Штирлиц.
Товарищей интересовало, не несет ли в себе образ Штирлица каких-либо военных или государственных тайн, известных ему, как «работнику Центра».
Идеологическая целесообразность и нужность романа объяснена в предисловии Миколы Гнидюка к русскому изданию для «Огонька», где роман принят и должен быть полностью опубликован.
Просил бы санкционировать издание романа, ибо, как и все остальные мои работы, он построен на открытой, научной, советской историографии, а фигура Штирлица является тем магнитом, который должен повести читателя, особенно молодого, через все дьявольские хитросплетенья гитлеровцев в их борьбе за мировое господство.
Приятно, конечно же, когда о твоем герое говорят и думают, как о герое реальном; обидно то, что это начинает мешать этому вымышленному герою скорее и целенаправленнее выходить на широкого читателя, особенно на украинского – в год тридцатилетия Победы.
Обе газеты ждут разрешения «Центра, где работает Штирлиц». Обе газеты ждут подтверждения тому, что никаких государственных и военных тайн в романе не открыто.
Очень прошу уважаемый Центр дать скорейший выход интернационалисту Владимирову-Исаеву-Штирлицу на открытый бой с националистами.
С уважением, Юлиан Семенов.
03. 05.1978 года
В Секретариат Правления СП РСФСР
Дорогие товарищи!
В 1981 году мне стукнет полсотни (надо бы конечно же дожить). Поскольку работа наших издательств планируется далеко вперед, просил бы поддержать мою просьбу об издании двухтомника «Избранное» в Гослитиздате.
За двадцать лет профессиональной литературной работы меня ни разу не издавали ни в Гослитиздате, ни в «Роман-газете», – ну да бог с ним, что о прошлом, о будущем думать надобно. За двадцать лет работы написано немало, однако в гослитовский двухтомник я бы хотел включить лишь часть моей работы, отчитаться перед нашим читателем романами об Исаеве-Штирлице.
Был бы вам сугубо признателен, товарищи, если бы вы сочли возможным поддержать мою просьбу и обратились с письмом в Госкомиздат СССР о включении в план Гослитиздата на 1981 год двухтомника «Избранное».
С глубоким уважением, Юлиан Семенов.
1979 год
Письмо Ю.В. Андропову *
Дорогой Юрий Владимирович!
Простите, что снова тревожу Вас письмом: на сей раз оно – сугубо творческое.
Дело в том, что сейчас, во время подготовки к съемкам многосерийного телевизионного фильма «ТАСС уполномочен заявить…», «коса» артистизма нашла на «камень» производства.
Дело обстоит следующим образом: сценарий состоит из девяти серий, в то время как по обычным нормативам Гостелерадио фильм обязан быть семисерийным – и все тут! Понятно, растяжки и затяжки мешают творчеству, но мы просто-таки не умещаемся в семь серий!
Чтобы не было упреков по «гонорарной части», мол, группа создателей фильма хочет «подзаработать», – мы внесли предложение: «разрешите нам снять семь серий, но увеличенного метража – вместо того чтобы серия по нормативам была уложена в один час пять минут, мы уложим ее в один час двадцать пять минут».
И здесь – производственные трудности, ибо надо получать дополнительное финансирование на пленку, декорации, зарплату осветителям, шоферам, декораторам, в противном случае, будет страдать коллектив Киностудии имени Горького, принявший заказ от Гостелерадио.
Я не смею загружать Вас перечислением технологических деталей кинопроизводства, – увы, оно чрезмерно громоздко. Однако убежден: один Ваш звонок С.Г. Лапину сразу решит проблему: либо семисерийный фильм с дополнительным финансированием производства, либо девятисерийный, утвержденный уже и одобренный.
Не сердитесь за то, что отрываю Вас от Ваших дел.
Счастья Вам и добра,
Ваш Юлиан Семенов.
* Благодаря вмешательству Ю.В. Андропова фильм стал десятисерийным.
1979 год
ФРГ *
Уважаемый Николай Германович!
Итак, отвечаю на Ваши вопросы.
1. Позволю себе не согласиться с самой формулировкой. Мне кажется, что истинные писатели Запада вовсе не замыкаются в изображении «любви» героев либо в их самовыражении.
Впрочем, термин «любовь» – всеобъемлющ и многопланов. Любовь Роберта Джордана в «По ком звонит колокол» Хемингуэя позволяет великому американцу подняться до громадной важности философских обобщений; весь «Фауст» Гете посвящен «любви», т.е. желанию остаться навеч– но... Или вспомните «Анну Каренину».
А «Война и мир», любовная линия Наташи? Пьера? Князя Андрея? А Шолохов? А Паустовский? А Юрий Казаков? А Бабель? А Ремарк? Философская социальная проблематика наличествует в книге истинного писателя; литература потребительства не интересует меня.
Самовыражение интересно в том случае, коли есть что выражать. Агата Кристи, например, суть явление математического, а не литературного плана, она – конструирует свои книги, в то время как мастер французского детектива Жапризо (это – молодая волна), как и Сименон, как и Грэм Грин, «самовыражают» героев, которые интересны, ибо полны мыслями и истинными чувствованиями.
Коли говорить о моих персонажах (я, правда, не люблю этого делать, сие отдает саморекламой, ценить работу писателя – дело читателя, в худшем случае – критика), то повесть «Дунечка и Никита» посвящена любви, ее счастью и горю; «Он убил меня под Луанг-Прабангом», в которой я рассказываю о партизанах Лаоса, вместе с которыми я жил во время войны в 1967—68 годах, – это, если хотите, повесть о любви русского и американского журналистов, оказавшихся по разные стороны баррикады.
Да и в тех же «17 мгновениях весны», в «Альтернативе», в «Бомбе для председателя» я пишу любовные отношения героев: миллиардер Дорнброк – любит японку Иисии; Штирлиц хранит в сердце любовь к той женщине, с которой он познакомился во Владивостоке в 1921 году; а в «Бриллиантах для диктатуры пролетариата» я пишу любовь врага, графа Воронцова, и делаю это с состраданием к человеческой трагедии.
Что касаемо самовыражения... Мысль героя, его слово – это и есть его самовыражение. Вопрос заключается в том, какова информация, заложенная в его мыслях и словах.
Я полагаю, что полнее всех проинформировал читателей мира о французской женщине Гюстав Флобер в его «Мадам Бовари», а не Франсуаза Саган, к которой, впрочем, я отношусь с уважением как к писателю.








