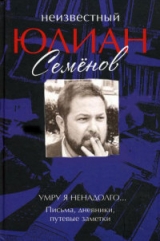
Текст книги "Неизвестный Юлиан Семенов. Умру я ненадолго..."
Автор книги: Ольга Семенова
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 85 страниц)
В Свердловском зале он нас собрал – военачальников, и Штерн, бывший ворошиловский помощник, впоследствии тоже расстрелянный, а тогда – палач, потребовал от нас санкции на арест Блюхера, Федько и др. Я выступил – единственный, против. И вышел из зала. Мне потом тайком руки пожимали».
26 мая 1963 года
Ездил на Святое озеро, в Шатуру с Гуркиным – за карасем. Ни хрена не поймали. Там был парень, агроном, он рассказывал: «Когда я первый раз рыбу выдернул, так меня аж вроде бабушка заново холодной водой умыла. С тех пор – я рыбак».
Зуев и Сериков привезли с собой на Святое озеро работника института марксизма (специалиста по Марксу) Борю Крылова. Талантливый интеллигент, с сединой, которая выступает пятнами, в очках, в синей шелковой рубахе, без запонки. Алкаш.
Выпив, начинает тут же говорить о музыке. Он театрал – летает на все премьеры в Ленинград, Таллин, Киев, слушает «Летучего голландца».
«Завтра Майка Плисецкая в Дон-Кихоте танцует. Мы будем следить, что она во 2-м действии в третьем па-де-де ножкой сделает? Это – гвоздь сегодня».
Агроном слушает его со смехом и недоуменной любовью.
Познакомился с Эдлисом. Славный парень, талантливый драматург.
В. Фирсов умудрился оббить все пороги у Щипачева, чтобы не пойти в армию. Щипачев помог ему, и министр Малиновский написал:
«Не знаю как поэт, а солдат мне такой не нужен».
А. Арбузов предлагает провести совещание драматургов по третьему акту. Первые два у нас писать не умеют, а последний, где надо ловко соврать, – никто не может. Топорно лгут, за версту видно. Вся неправда первых двух, ловко замаскированная, прет наружу в третьем.
Фамилия Крестовоздвиженберг.
Один верблюд, идущий по Сахаре, второму ...
– Что бы о нас ни говорили, а пить все-таки хочется.
При крутом повороте каравана хромой верблюд всегда становится первым.
Зубы, как культ личности: сейчас не болят, но каждую минуту могут...
Государственный сентиментализм – это советская лирическая песня.
Талант, как и государство, суверенны и сами назначают себе цену.
Первый признак шизофрении – бестактность.
Счастье – это желаемое минус достигнутое.
Вы замечали – счастливых не любят?
Светлов ездил по Белоруссии вместе с Абалкиным, все время легкая пикировка на лит. вечерах. Однажды Абалкин переперчил и, чтобы сгладить неловкость, попросил:
– М.А., смените гнев на милость.
– Мальчик мой, я только тем и занимаюсь, что с утра до вечера меняю гнев на милость – этим и кормлюсь.
Он – М. Соболю:
– Вы производите впечатление человека, который все время ста рается догнать свои зубы.
Светлов о Коктейль-холле – утопающий хватается за соломинку.
– Я стал пить в 37-м, от страха.
В «Арагви» после премьеры «Трех апельсинов» Светлов написал мне, в конце апреля, в книжку стихов, которые он сочинял, шевеля губами и загадочно-бесовски скривив губы, улыбаясь.
Вот эти стихи:
Наступает весенний рассвет,
Умирает несчастный бюджет,
Два рубля у меня на такси,
Две копейки еще б попросить.
Мне судьбу не заполнить сполна,
Двум прохожим – копейка счета,
Пустота, пустота, пустота,
Неоплаченные счета.
Даже если в гробу я лежал,
Все равно я земле задолжал,
Я все мысли мои соберу,
Сколько раз я сидел на пиру...
6 июня 1963 года
Сегодня, 6 июня, сидел во МХАТе – у Кедрова Мих. Ник. и директора. Кедров – мешковат, доброжелателен, глаза, как у узбека – черно-коричневые, с отливом.
Говорил о том, что он все сегодняшнее в искусстве воспринимает как серьезный курс. «Сегодняшняя современность – это сегодня, плюс двадцать лет вперед. Надо уметь это видеть.
Если Чехов совершил революцию в театре, позволив своим героям мечтать, то Горький утвердил недостаточность мечтаний и обязательность действий.
Сейчас в нашем театре должна произойти очередная революция и сделать ее должны писатели, увидев нового человека. Что – Астров? Рощицу посадил, о лесах мечтал – и то вошел как революционер, как герой.
А сейчас-то похлеще дела происходят! Помните, у одного поэта: «Веласкес, Веласкес, о как ты умел о великом поведать так просто!?» Ведь вы приносите в театр кожицу. Слова – это кожица. А актер обязан увидеть под ней мясо и кости. Когда говорит Отелло – что думает и как ведет себя в это время Дездемона? Это же надо точно понять и точно выразить!
Конфликт? О, конфликт повсюду. В любовном объяснении Ромео и Джульетты—сильнейший конфликт—каждый из них убеждает другого, что любит больше. В вашей пьесе, понравившейся мне, надо понять героику труда на целине (для него – Абакан—Тайшет – явная целина, тут он маленько не силен, да и пусть – не в этом суть).
Тогда бюрократы – ужасно смешные, я очень смеялся, когда их сцены читал, – будут еще более отвратительны зрителю. Дружите с нами... Очень были рады...
П. Тур сказал мне – «Не давайте МХАТу. Будут два года марь-яжить, потом еще испортят. Много вы видели у них интересных постановок последнее время? Вон, Зорина два года мутужили, а вышел пшик».
Вернулся вечером домой: письмо из Прокуратуры, от Волкова. Бессонная ночь: куда направили дело: в Рузу или область? Днем – жизнь, ночью – раздумья. Так уже восьмой месяц. Чувствую, что сдаю.
В ЦДЖ дня два назад сидел с Юрой Казаковым и Валькой Туром.
Рядом, за стеной, шумно ликовал Глазунов в окружении Михалкова, С.С. Смирнова, В. Захарченко и И. Долгополова.
13 июня 1963 года
Сидел вместе с А.Ю. Кривицким, Сашей Сербиным, М. Лукониным, Ю. Трифоновым и Ю. Иващенко в ВТО. Кривицкий был здорово на газах. Блеск остроумия. «Можно мне сказать тост?» Поднялся.
Заикаясь, торжественно, как Левитан, начал говорить:
– Я прошу вас всех выпить вместе со мной за прекрасного чело века, умницу и прозорливца, которому я обязан всем, что у меня есть на земле. Я прошу вас выпить за Александра Кривицкого.
Выпили. Спорили о кино. Иващенко рассказывал, что Романов, новый шеф кино, предложил брать газетам мнение специального отдела печати Главкино на новые фильмы, чтобы не было разнобоя в оценках. Аджубей, кажется, с этим не согласился.
«Нельзя же доводить до абсурда», – сказал Иващенко, выпивая.
– Можно, – ответил Кривицкий. – До абсурда можно, но не до катастрофы, желательно.
Рассказывал, как его защищал Трифонов от какого-то мужика, который лез без очереди в такси.
– Он бросился на меня с кулаками, огромными, как «Слово о полку Игореве»! Юра защитил меня. Он – гений.
Потом он ссорился с каким-то молодым пижоном из-за зажигалки.
– Зачем вам зажигалка? Что, вы живете в какой-нибудь безле сой стране, как Бельгия? У нас много леса, надо чиркать спички, это патриотично в конце концов!
Рассказывал о том, как в 46-м году Сталин вызвал Фадеева и Симонова.
Главная задача в идеологии на ближайшие двадцать пять лет – это заставить нашу интеллигенцию отказаться от мысли про собственную второсортность. Петр заигрывал с Западом. Он не был Великим.
Великим был Грозный, кстати говоря.
Юра Зуев рассказывал, как он переводил переговоры нашей охраны Хрущева с их Сюрте *.
Это было перед визитом Н.С. во Францию. Наши вытащили списочек:
– Вот здесь будет проезжать Н.С., через эту деревню, так в ней живет такой-то. Он – сволочь.
– Как же, как же, отвечали французские охранники, – мы это знаем.
– Надо бы его забрать.
– Заберем. Мы имеем право забрать на сорок восемь часов. Как только Н.С. будет подъезжать к этому пункту – сразу заберем.
Обстановка не переговорах была в высшей мере дружеская. Деловые люди, хорошо понимали друг друга.
Трагикомедия получилась с великим, гениальным, лучше всех понимавшим все Щедриным (прозорливость, по-моему, это хорошее знание того, что было, и точное понимание происходящего.
Это и есть два главных компонента прозорливости). Работу о нем много лет готовил Л. Каменев. После расстрела в 37 году рукописями Л.Б. завладел с помощью Н.И. Ежова Я. Эльсберг, провокатор и одновременно лит. секретарь Каменева.
Он и издал монографию о Щед– рине, написанную Каменевым, получил за нее звание доктора филологических наук, титул российского литератора и, кажется, премию Сталина. Такой оборот событий вряд ли мог предвидеть М. Щедрин.
А коли мог бы – видимо, весело б посмеялся. Он все понимал, послужив в ссылке чиновником для особых поручений и вице-губернатором. А все поняв, жил один, ориентировался на себя, играл в карты и писал пророческие вещи, особенно ответ рецензенту по поводу истории города Глупова.
Один мой приятель рассказывал, что он попал случайно, выходя из ГУМа, на Красную площадь в день похорон Дыгая. Чтобы не было давки, площадь оцепили солдаты. И он попал совершенно случайно в колонну одного из предприятий, которые пришли проститься с Дыгаем.
Но так как он долго не был дома, он подошел к солдату и сказал: «Товарищ, мне нужно выйти по ряду соображений». Солдат ответил: «Нельзя». Они долго препирались. Солдат был неумолим.
Тогда мой приятель – дирижер Свердловской филармонии – спросил его: «Ну хорошо, а если тебя припрет, тогда что?!» Солдат подумал и ответил: «Хоть в голенище, а ни с места!» Вот это я понимаю – солдат!
* Французская секретная служба
22 октября 1963 года
Каждый раз, когда начинаешь работать в архивах, поражаешься двум вещам. Во-первых, несметному богатству образов, языковых характеристик, ситуаций, с одной стороны, и с другой – поведению архивариусов.
К сожалению, это люди удивительно скучные. Они сидят на материале, годами готовят маленькую публикацию, которая носит в общем-то служебный характер.
Эти люди не только не помогают тем, которые приходят к ним в архив, но – наоборот даже ставят палки в колеса. Хотя мне нужно здесь оговориться, что пишу эти злые строки лишь после знакомства с Хабаровским государственным архивом.
Пожалуй, даже неправильно я написал перед этим обо всех работниках архивных. Но бывает так, что один негодяй в полку вызывает отношение к целому полку.
Дама, командующая Хабаровским государственным архивом, раньше много лет работала в НКВД. Поэтому всякий человек, приходящий к ней, рассматривается ею как потенциальный агент никарагуанской разведки.
Каким унизительным расспросам подвергала меня эта дама! Как она от меня требовала точного ответа: какой аспект вопросов может меня интересовать, какие люди меня интересу– ют из времен партизанской войны 1921—1922 гг.? И все мои жалкие потуги объяснить ей, что литература это – не кандидатская диссертация, не пользовались никаким успехом.
Когда я попросил ее дать из закрытого хранения целый ряд материалов 43-летней давности, она отказалась это сделать, ссылаясь на их секретность, а секретны там были, как выяснилось, фамилии белогвардейцев, лидеров антисоветского движения в Приморье.
Когда я пошел с письмом «Огонька» в Хабаровский КГБ и попросил их о помощи, они сразу же отправили к ней сотрудника. Сотрудник попросил начальницу архива разрешить мне ознакомиться с материалами. Скрипя, исполненная недоброжелательности, она дала мне эти архивы.
Я листал их, ничего нового там, в общем-то, не находил, а после того как кончил работать над ними и выписывать их в тетрадочку, у меня отобрали тетрадочку и сказали, что пришлют ее после тщательного изучения ко мне в «Огонек», а – до сего времени не прислали...
Это так унизительно и неприятно, это так воскрешает времена любимого друга пожарников, что потом приходишь в себя не день, не два, а неделю. Это лишнее подтверждение тому, что чем мельче дело у человека, тем больше пузырится его честолюбие. Как великолепно мне помогали в партийных архивах и Хабаровска, и Владивостока. Давали материалы «сверхсекретные», прекрасно понимая, что это необходимо для работы.
Это я веду к тому, что в архивах, которые являются мозгом прошлых эпох, должны сидеть высокоинтеллектуальные люди, которые бы относились к тем документам, которые собрали в архивах, не как к клочкам бумаги, а как к великим достояниям интеллектуального мышления нашей эпохи.
Всеволод Никанорович Иванов – один из лидеров антисоветского движения на Дальнем Востоке с 1920 по 1930 г. – рассказывал мне в Хабаровске, что четыре крупнейших американских университета прислали во Владивосток в 1931 году, когда там совершился белый переворот, своих представителей с неограниченным счетом.
А надо сказать, что там, во Владивостоке, тогда жили лучшие семьи русской интеллигенции: Жуковские, Вяземские, Карамзины и т.д., и у этих людей за бесценок скупались письма, архивы, альбомы, портреты, партитуры, рукописи, то есть скупались бесценнейшие вещи.
Иванов мне с горечью огромной рассказывал о том, как те же американцы увидят в университете или в институте где-нибудь мало-мальски талантливого аспиранта или студента старших курсов, не говоря уже о профессуре, и платили огромные деньги, чтобы только такого человека увезти, перекинуть к себе, ибо нет и никогда не будет правильной оценки стоимости человеческого мозга. Попробуйте оце– ните мозг Эйнштейна или Хачатуряна, или Циолковского!
И когда наше крохоборство видишь воочию, просто иногда сердцу больно.
Это понимали люди – передовые умы революции уже в первые годы Гражданской войны, хотя это их понимание считалось разложением и – в некотором роде – утерей классового чутья.
Я находил материалы, в которых видно, как Постышев изыскивал самые махонькие крохи, чтобы подкормить учительство, медицинских работников. Он находил эту возможность, работая в прифронтовом городе Хабаровске, что вызывало крайнюю степень раздражительности в столице ДВР – Чите.
Вообще в архивах сталкиваешься со страшными вещами и в то же время грандиозными по своей значимости. К примеру, во Владивостокском архиве я читал воспоминания бывшего премьер-министра Дальневосточной республики, старого большевика Никифорова.
Этот человек писал в 1952 г.: «Когда я приехал в Хабаровск и увидел наши разбитые части, когда я увидел отступающие войска, я еще не мог знать тогда, что все это организовано врагом народа Постышевым».
А в Хабаровском госархиве лежит фото. На фото – три человека.
Среди них – бывший начальник Госполитохраны Дальнего Востока Иванов. Иванов перечеркнут крестиком чернильным и на оборотной стороне фото сделана надпись рукой Губельмана, тоже старого большевика, брата Емельяна Ярославского, который был членом Дальбюро ЦК: «Тов. Иванов – враг народа. Необходимо его с фото убрать». Вот – капля, в которой отражается мир.
Губельман писал это в 1938 году. Он работал 20 лет с Ивановым, он знал его как честного человека и он пишет: «товарищ Иванов – враг народа»!
И сейчас у этих старых большевиков, руководивших дальневосточными событиями, полнейший маразм, кроме, конечно, чистого и светлого Ф.Н. Петрова. А когда с Никифоровым говоришь о Губельмане, он удивляется: «Да вы разве не знаете, что он делает мацу, замешивая на крови русских детей! Это же сатрап, бериевец и палач!»
А Губельман о Никифорове примерно так сказал: «Ну, это же старый японский шпион, грабитель: убил в почте кассира и похитил деньги. Всем известный негодяй и преступник!» И просто диву даешься, как же могут люди так ронять себя. Я о них писать – не смогу.
И писать я буду о людях, которые погибли в 37 году, потому что о живущих сейчас дальневосточниках писать невозможно. Они все в такой страшной склоке, они так льют друг на друга гадости, что кажется, будто они задались целью – все вместе – скомпрометировать то дело, которому они служили.
Писать я буду о погибших в 37 году Пшеницыне, Сяинкине, Никитенко. Это чистые люди, не замазанные склокой.
А вот как прекрасна народная речь. В Хабаровском архиве я нашел воспоминания старых партизан. И один из старых партизан коряво, неграмотно, на желтой бумаге, царапая пером, писал: «Убегали мы через сопки от белых. Лупили нас сильно. Был я пораненный, и тащил меня мой товарищ на себе. А грязь была на сопках такая мягкая, что ляжешь в нее как в перину. А ночью, если встать не сможешь, – схватит грязь морозом, и глаза от холода у тебя полопаются. И так мне было тяжело, что в себя вдых делать мог, а выдоха из себя делать у меня никак не получалося. И плакал я, потому что смерти в глаза глядел. А мой товарищ, который тащил меня на себе, чтобы успокоить, говорил: “Слышишь, собаки лают”. А в тайге, если собаку услыхал, значится жилье рядом. А я никаких собак не слыхал, кроме звонов в собственных ушах. Вот так мы тогда и жили»...
По-моему, никто так точно не мог передать физического ощущения раненого человека, затерянного в сопках, как через образ: «В себя вдых делать мог, а из себя – сил не хватало».
Несколько дней назад меня вызывали Фурцева и ее заместитель по театрам Владыкин Григорий Иванович. Шел разговор о том, как я готовлюсь к 50-летию советской власти, и говорили о том, что Министерство культуры объявит конкурс на лучшее драматическое произведение, посвященное 50-летию советской власти.
И было видно, и Григорий Иванович Владыкин и сотрудники Управления театра, которые присутствовали на беседе, всячески звали к тому, чтобы произведения писались о молодом герое, о сегодняшнем герое. Это, конечно, верно, но нельзя быть Иваном, не помнящим родства.
По-моему, нам следует ставить фильмы и пьесы и писать романы о мировой революционности, начиная с Христа, через Бруно, Галилея, Кромвеля, Робеспьера, Халтурина, Кибальчича, буров, сербов, турок и болгар, через Кемаля Ататюрка к нашим революционерам времен Гражданской войны.
И если бы сейчас, накануне 50-летия, по-настоящему покопаться в архиве! Есть в каждом областном архиве поразительные по своей трагичности и в то же время оптимистичности фонды ВИКов, где записаны прошения крестьянских ходоков, жалобы и дарственные Красной гвардии.
Покопавшись в архивах революции и первых лет советской власти, можно было бы сделать поразительные произведения, которые бы вошли в золотой фонд мировой литературы.
Мы не имеем права давать на откуп Западу революцию. Мы не можем, не имеем права давать на откуп старым писателям Гражданскую войну. Аспект видения сегодняшнего человека совершенно иной, и я бы не сказал, что он менее интересный, чем аспект видения 70-летнего человека, который воочию видел что-то.
Память – коварная старуха. На одной памяти и на одном том, что когда-то это видел, – не уедешь. Алексей Толстой не видел Петра I, но он умел работать в архивах и любил в них работать.
Этой осенью, когда я сидел и работал в Гаграх, как-то раз мы пошли со Степой Ситоряном, Женей и Катюшей в открытый театр послушать концерт московского эстрадного коллектива «Юность».
Это было ужасное, утомительное и унизительное зрелище. Вел концерт развязный конферансье по фамилии Саратовский.
Мы сидели во втором ряду, а перед нами, в первом ряду, в великолепнейшем модном костюме с разрезами сидел гладко выбритый, ухоженный, красивый маршал Жуков. Сидел он со своей женой и маленькой девочкой – то ли дочкой, то ли внучкой.
Сидел он в окружении людей, удивительно напоминавших мне нэпманов (хоть я их воочию не видел, но по архивам представляю себе довольно ясно).
Все они были одеты как истые европейцы, но только все дело портило, когда они улыбались: у всех у них было по 32 вставных золотых зуба. По-видимому, это считается наиболее верным помещением капитала в наши дни.
И старик еврей, который сидел рядом с женой Жукова, спросил ее: «Скажите, а генерал-полковник Кайзер – еврей?»
Жена повернулась к Жукову, который в это время, замерев, смотрел сценку из армейской жизни – лицо его было радостное, глаза под очками добрые, и спросила его: «Скажи, пожалуйста, Гриша, ты знаешь Кайзера?». – «Да». «Кто он?» – «Командующий Дальневосточным военным округом».
«А он – еврей?» – спросила женщина. Маршал ответил ей коротко и резко: «Ну!» В это время сценка из армейской жизни кончилась, и Жуков с азартом мальчишки стал аплодировать.
По всему летнему театру шел шорох, и все старались на него как-нибудь поближе посмотреть. А старый нэпман в белом джемпере сказал, ни к кому не обращаясь, но желая, чтобы его услышали мы, сидевшие сзади и обменивавшиеся всякого рода соображениями: «Пэр Англии. У него там есть поместье и место в парламенте».
Потом мы это выяснили, и это действительно так. Жуков в 1945 году был награжден орденом Бани – высшим королевским орденом Англии, а человек, награжденный этим орденом, автоматически становится членом палаты лордов; там есть его место, которое всегда пустует, ему выделили участок земли, который называется «Графство Жуков».
Очень забавную вещь рассказывали мне о Булганине. Он живет сейчас в двухкомнатной квартире на Пироговке, часто «соображает на двоих» в магазине и покупает абсолютно все газеты, которые выходят в Москве. На этих газетах он подчеркивает целые абзацы красным и синим карандашом и ставит свои замечания: «Удивлен!», «Немедленно разобраться», «Принять меры», «Какое безобразие!» и т.д., то есть старикашка очень хочет поиграть во власть.
Забавное это дело.
То же самое мне рассказывали про Кагановича. Когда он был выведен из президиума, его направили в какой-то строительный трест. Он приехал туда, собрал партийный актив и выступил с огромной речью, в которой призывал наладить производство, взять темпы и покончить с антипартийной группой Молотова, Кагановича и Маленкова.
Очень часто я вспоминаю Хельсинки. Кажется, не записана еще история моего знакомства с карикатуристом Бидструпом и бородатым профессором, итальянцем Петручио, который выводил детей в колбе.
Потом мне хотелось бы записать о Всеволоде Никаноровиче Иванове подробнее, о встрече с Федором Николаевичем Петровым и кое-какие кусочки по Блюхеру и Постышеву.
1963 год
Твардовский рассказывал, что до зрелости уже, особенно летом ему неудобно ходить в теплый сортир. Это с деревни.
«Отец в город переехал, приказчиком. Привезли и поселили нас в доме, не свободном от постоя, – там в нашей комнате еще четверо солдат жило.
Им ведро горохового супа принесли, они на ночь его махнули, и очень запах был. А я мучался, не знал куда сходить, – в деревне-то до седьмого венца бегали, за плетень, а тут кругом народ. Мужики, столяры во дворе работали, спросили меня, когда я застенчиво рыскал по двору, – мол, по нужде? А я смущался очень, сказал, что нет, убежал домой. А потом на лавочке сидел – сидел и обделался.
Отец у меня умным был человеком, между прочим с вечера всегда после праздника оставлял себе на донышке поправиться. Поправился – и больше ничего в рот не брал, работал, графа Фортенбрасса читал, но деревня есть деревня.
У нас, если кто поедет по селу, так вся деревня в окна: Кто поехал? К кому? Зачем? А-а, у него тетка хворает? Болотами ли поехал или в объезд – на целый день событие. Поэтому и отца вдруг прорвет, и он начинает рассказывать, веря в это, – как его вызвали ночью пристяжную подковать, он начал подковывать, а это не пристяжная, а утопшая с пьяни поповна.
А извозчик мне после в фартук насыпал горсть (поначалу-то, когда попадью увидал в обличье лошади, у меня все внутри ЗАНЫЛО, но работу начал) монет. Уехал, я глянь в фартук-то, а там – конские кругляшки».
Много рассказывал про Коласа и Купалу. Якуб Колос – католик, погиб, упав с 8-го этажа гостиницы «Москва» в конце войны. Полез пощекотать официантку, она его подносом, он через перила-то и ахнул.
Я выдвинул предположение, что это его не официантка, а Л.П .* махнул – националиста и католика. Твардовский сказал: «Меня от этого предположения мурашки пробрали».
Жил Колас на госдаче под Минском. Посеял ржицы. К столу, на котором было все, ставил тем не менее свои ржаные лепешечки.
Рассказывал о поэтах: Маршак был временами невозможен. Требовал, чтобы печатали так: «Маршак. Из поэзии Бернса». Писал свою автобиографию. «Родился в бедной семье». Я его долго упрашивал, чтобы он написал «в бедной еврейской семье». Написал, что на экзамене в 4-м классе так прочел Пушкина, что директор гимназии его на колени посадил. «Напишите, что были маленького роста». – «Зачем? Я же потом подрос». «Но тогда-то маленький вы были, а меня в четвертом классе поди на колени-то усади»...
Тоже не хотел писать. Попробуй ему скажи, что стихи не подходят. Это было невозможно. В этом смысле Антокольский был великолепный человек. С полуслова все понимает и стихи забирает – весело так, с улыбкой, совсем не обижается.
Межиров пишет стихи из любви к поззии, к стиху. Приходил ко мне поэт Кондырев. Представился – Лев Николаевич. Попросил подписать петицию в «Известия» против фельетона, в котором продернули его чудовищные стихи. Я не подписал, газетку ему процитировал. «Не могу, – говорю, – Лев Николаевич».
Книжка матери Василия Аксенова ужасна тем, что там смакуется, как было хорошо до того, как взяли. Звонит муж (казанский воевода), и в Москве лучшие места бронируются. Значит, когда нам было хорошо, Россия – черт с ней?
* Лаврентий Павлович Берия
1963 год
Пил в кафе с Гороховым. Он долго рассказывал о своих замыслах, о ссорах с Симоновым и Твардовским, которые ругали якобы его книгу о Робсоне. Глубоко несчастный человек. Говорил о том, что, когда его отца через пять месяцев после ареста в 36-м году отпустили, он собрал у себя людей – среди которых был отец М. Плисецкой. А с ним из тюрьмы вышел какой-то тип из Минска, и в НКВД Горохова попросили приютить его у себя.
Он положил его спать в кабинете, а сам сказал друзьям: «Все, конец. Теперь с нами расправятся, т.к. нужны не ленинские, а сталинские кадры". Плисецкий распахнул дверь, и тот тип вывалился в столовую в нижнем белье.
После этого всех тех, кто был у Горохова, забрали – постепенно, по одному.
1963 год
ХХ век – век греха. Люди полны внутреннего страха. Это общее – поэтому врачи выпускают триосазин – средство для «снятия внутреннего страха».Часов на шесть снимает, а потом с новой силой душит. Так за ХХ веков нагрешили предки, что мы – вроде бы по всему – вынуждены будем в конце концов исполнить роль жертвы, расплатиться за все, что было, за то, что Бога не слушали и грешили, грешили – дошли до ручки. Боимся. Все время и очень!
Символ бессмертия – людская память. Чем больше художник, тем больше он думает о смерти и боится ее. Желает стать бессмертным – пишет человека изнутри, вне политики и кукуруз, а как существо, первый крик которого после рождения можно расценивать как плач перед смертью.
Смерть разумна и является процессом обычного жизнеобмена. Действительно: о покойнике плачут (отцы о детях, дети об отцах) – всего в сто раз больше, чем об ушибленной ноге. После этого продолжительного (неделя) плача покойный начинает переходить в сладкую память, вспоминают со смехом его шутки, с умилением – добрые дела.
Культ личности у нас начинается тогда, когда первый секретарь отрывается от текста написанного для него доклада и начинает шутить...
Если сегодня соврешь ты мне,
То я завтра солгу тебе,
А послезавтра солжет нам он,
И после него солгут они,
И станет тогда ложь – для всех.
1963 год
К ТЕМЕ «КОКТЕБЕЛЬ»
Каждый раз, когда я часов в семь приходил на пляж выкупаться перед тем, как снова сесть работать, там обязательно сидел седой мужчина, беззубый, с удивительными, какими-то даже болезненно добрыми глазами. Глаза у него были черные, такие черные, что иногда казались подернутыми желтизной. Это был детский поэт Овсей Дриз.
По-русски он говорил плохо. Изумительно читал по-еврейски свои стихи. А когда однажды на литературном вечере его переводчица прочла его стихи по-русски, причем стихи очень хорошо переведенные, Овсей Дриз покраснел, на глазах выступили слезы, разволновался ужасно и стал от этого еще более трогательным и милым мне.
Как-то раз, когда мы сидели с ним на берегу, он мне сказал: «Нас было много детей у мамы. И я помню, как мама нам говорила: “Надо пойти к Абрамсону, – а это был в нашем селе богатей – и попросить у него наперсток муки”. Она все мерила на наперсток. А я вот сижу и думаю: на что же я меряю? Море – на наперсток или море – на море?»
Он вздохнул, посмотрел в сверкающую, казавшуюся холодной даль моря, грустно улыбнулся и сказал: «Как это странно: мама жила очень плохо, я живу хорошо, хотя я знал много ужасов в жизни, а сын-то мой будет жить отлично. Может быть, отсюда в людях идет зависть: в отце – к сыну, в дедушке – к внуку...»
Было ему необыкновенно приятно, когда пришла «Литературная газета», в которой старый детский писатель, автор «Книги о себе» Л. Пантелеев очень нежно отозвался о Дризе как о мастере своеобычном и – что обязательно необходимо для детской литературы – очень чистом человеке.
Оказалось, что Дриз – сексот, грабил людей. У меня, кстати, одолжил 10 рублей, не вернул и выпил всю водку, все заблевал, а рядом в комнате лежала тяжелобольная Дуня и шло следствие.
18 апреля 1964 года
В ВТО мечется Женя Евтушенко. Читает стихи с рефреном: «Паноптикум, паноптикум!» Ужасно суетился, когда пришли актеры молодежного театра. Он встал со своего места и ходил посреди зала, чтобы его заметили.
1964 год
У Молотова на ужине – мы с ним были вдвоем, а за стеной в одной из комнат грохотал американский джаз. Были 4 кусочка курицы, сыр, соленые огурцы, варенье, у него булочка для диабетиков, а у меня – 4 куска хлеба на тарелке. Он пил из чашки в подстаканнике – подарок Светланы.
В кабинетике – очень маленьком – диван, 2 стула, – все в белых с заплатками чехлах, зеленый стол, на стене – барельеф Ленина коричневый из дерева. Стены – голубые с белым. Он очень внимательно слушал, когда я ему рассказал, как в Китае на бортах машин, где нет его имени (завод им. Молотова) на ГАЗе надписи – «выведен ревизионистский дух», а там, где есть его имя, – нет никаких надписей. Дважды переспросил.
Рассказал, когда речь зашла о реакции на смерть Кеннеди, как консул в Нью-Йорке Киселев – «он, кажется, потом был у нас послом в Египте», говорил ему, что новость о смерти Рузвельта он услышал в поезде. Американцы прослушали последние известия и продолжали свой завтрак.
Обращается ко мне: «Товарищ Семенов».
Читал стихи Энцесбергера в Интерлите. Хвалит. Хваля Ромма, упрекает его в отсутствии показа классовой подоплеки фашизма.
– Эмоционально, конечно, хорошо.
– Это один путь, – говорю я, – эмоциональный, а публицисты и историки должны подтвердить наукой.
С этим Молотов согласился.
Говорил, что разведчики доносили о нервозности в немецком посольстве перед началом войны. «А как нам было выиграть хоть день, как не объявляя, что никаких приготовлений с германской стороны не ведется? Как иначе?».
13 октября 1964 года
Ойстрах рассказывал Безродному, что он, как и Рихтер, часто на концертах «делает» рожи. В чем дело? Многие считают, что это – высшее выражение чувства, а Ойстрах дружески признался Игорю, что он гримасничает, когда ему становится скучно и хочется спать. Он гримасничаньем разгоняет тоску, скуку и сон.








