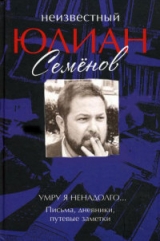
Текст книги "Неизвестный Юлиан Семенов. Умру я ненадолго..."
Автор книги: Ольга Семенова
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 43 (всего у книги 85 страниц)
У Аргентины есть все возможности быть великой страной. У вас есть культура, материальные ценности, человеческий фактор. Но следует помнить следующее: чтобы быть великой страной, нужно лучше знать другие народы».
– То, что мы знаем о советской литературе, связано в основном со Второй мировой войной. Что происходит в современной литературе Вашей страны? Какие темы актуальны?
– Происходит вот что: на Западе наша литература неизвестна. А война для нас означает двадцать миллионов погибших, цифра практически сравнимая с общим населением Аргентины. Это непрерывная боль, которая навеки с нами. Но кроме этого, в моей стране пишут обо всем, и очень хорошо. К примеру, у нас есть Валентин Распутин, который становится своего рода советским Гарсия Маркесом.
Он описывает всю крестьянскую жизнь. Или Виктор Астафьев, который пишет о современной советской жизни с абсолютной честностью. Есть много прекрасных писателей.
– А что происходит с новым поколением литераторов?
– Самые молодые посвящают себя поэзии. Ни один из них не достигает высоты поэтического полета Беллы Ахмадулиной или Евтушенко.
Но есть молодые поэты, которые развиваются и вызывают интерес, однако не думаю, что сейчас есть имена, заслуживающие упоминания здесь. Дело в том, что до двадцати трех лет они учатся в университетах, находятся на попечении государства, не имея никаких забот.
Сложно в таком возрасте, не пройдя жизненный путь, писать о проблемах, возникающих в жизни общества. Я, к примеру, пишу о том, что у нас не хватает кофе или что услуги, предоставляемые у нас, недостаточно высокого уровня, или что тюремная система оставляет желать лучшего.
– Вы упомянули Гарсия Маркеса, известного внедрением магии в литературу. На Западе говорят, что социалистический реализм сдерживает творческий полет писателей, ограничивает их в темах и даже в способе их освещения…
– Всему этому причиной то, что нашу литературу не знают. Тот же Распутин, которого я упоминал, обладает фантазией, магией, которая пропитывает все, что он пишет. Вам нужно намного ближе познакомиться с советской литературой.
– С чем у Вас ассоциируется имя Солженицына?
– Его первая книга, «Один день Ивана Денисовича», мне понравилась. Но потом Солженицын захотел стать политическим лидером. А он не готов к этой роли.
И сейчас, живя на Западе, он обманывает всех, говоря: «Чертовы большевики, они разрушили все в этой стране!» Однако это не так.
Мы прекрасно знаем о своих недостатках: двадцатый съезд был проведен не в Аргентине, а в Советском Союзе. Мы сами говорим о том, что произошло. И, заявляя, что «большевики разрушили Россию», он забывает, что до 1914 года в царской России организовывалась голодная смерть миллиона человек в Поволжье.
Затем у нас были свои трудности, нам нужно было преобразоваться в индустриализованную страну, ведь до 1917 года 85 % населения были земледельцы-скотоводы, и 15 % – трудовой класс. Процесс пролетаризации крестьян был очень болезненным.
Ясно одно: Россия, выдержав семь лет Гражданской войны и пять Великой Отечественной, запустила в космос первый спутник. Не США, не Англия, а именно Советский Союз.
– Что Вы знаете об аргентинской литературе?
– Мне очень нравится Борхес. Многие говорят, что он консерватор, но Достоевский тоже не был членом коммунистической партии.
ПИСАТЕЛЬ, ПРИШЕДШИЙ ИЗ ХОЛОДА
«TIEMPO Argentino», 31 января 1984 г.
На Западе он известен как «советский Джеймс Бонд». Его романы основаны на интервью с высокопоставленными нацистскими чиновниками и историческими личностями, такими как знаменитый маршал Жуков.
Опасная жизнь Юлиана Семенова
Он любит женщин, водку и икру. Его испанские издатели представляют его как «советского Джеймса Бонда», но он предпочитает определять свои работы как политические романы, а не шпионские книги.
Ему нравится охота, иногда он путешествует с Мэри, вдовой североамериканского писателя Эрнеста Хемингуэя.
Не чужды ему ни корриды в Памплоне, ни интервью с нацистскими верхами в разных странах мира.
Он больше, чем писатель. Юлиан Семенов – своего рода исследователь, шпион, детектив, окунувшийся в истории, которые в книгах издательства «Пласа и Ханес» носят названия «Бомба для председателя», «Семнадцать мгновений весны» – абсолютные бестселлеры, потребовавшие некоторых опасных встреч.
В Буэнос-Айресе, в здании на улице Суипача, мы встретились с мужчиной с ясными глазами, густой бородой, вначале склонным иронизировать, затем шутить, и всегда с богатым запасом историй из жизни.
– В каком возрасте Вы начали писать?
– В 10 лет.
– Вы начали писать личные дневники, как делают женщины?
– Почему Вы думаете, что личные дневники пишут только женщины?
– В таком возрасте именно для девочек наиболее характерно вести дневники, возможно потому, что они более чувствительны.
– Они более чувствительны, но менее правдивы. Женщина пишет то, что хочет чувствовать, а мужчина пишет правду. Если, к примеру, Вы почитаете дневники братьев Гонкур и дневники русских или французских писательниц, то увидите огромную разницу в чувствах, в правдивости написанного. Кроме чувств, есть еще и правда.
– У каких авторов, в каких книгах вы встретили правду?
– Много было книг, на которых я учился. Когда я прочел Библию, она произвела на меня глубокое впечатление, поскольку это очень хорошая, исключительная литература.
Когда я читал Хемингуэя, я открыл для себя новый мир. Чтение Пушкина в школе было другим, ужасным. Открыл я его дома – с отцом.
Когда вы изучаете в своих школах произведения Сервантеса, Борхеса или Гарсия Маркеса, с вами, наверное, происходит то же самое. Одно дело – учить в школе, а другое – читать.
– Что касается Вашей работы, Вы всегда писали шпионские романы или пробовали себя и в других жанрах?
– На Западе, чтобы продать книгу, у нее должна быть привлекательная обложка, и поэтому западные издатели, чтобы продать мои книги, написали на них «советский Джеймс Бонд».
Однако я охарактеризовал бы свои книги как политические романы, в основу которых легли встречи с разными историческими персонажами.
К примеру, когда я писал свою книгу «Семнадцать мгновений весны», я брал интервью у министра иностранных дел Гитлера, у Молотова, у маршала Жукова.
– Вы можете рассказать нам, как Вам удалось встретиться с некоторыми политическими персонажами?
– Одним из людей, у которого я брал интервью, был генерал СС Карл Вольф, начальник личного штаба Гитлера, с которым я по знакомился в Западной Германии. Я нашел его номер в телефонном справочнике, позвонил, представился, и он мне ответил: «Вы должны заплатить за встречу, поскольку у меня очень маленькая пенсия».
Я ответил: «Здесь, в Западной Германии, у меня нет больших денег, но есть водка и икра». Он спросил: «А сколько у Вас икры?», и мы договорились.
Встреча была назначена на полвторого дня в небольшом итальянском кафе, куда я принес свой запас водки и икры. Уточню, что у этого человека была своя ставка в Италии в конце Второй мировой войны, откуда и его связи с итальянской мафией.
Когда я пришел, меня встретили два человека в хорошо выглаженных белых рубашках – без сомнения, мафия – и сказали: «Генерал ждет Вас».
Подойдя, я увидел высокого и сильного старика. Я достал свой диктофон и спросил, могу ли записывать. Он потребовал сначала товар. Я поставил ему на стол водку и икру, и мы приступили к беседе.
– Каков был результат?
– В течение часа он лгал и, будучи человеком малообразованным и невоспитанным, считал, что то, что знает он, никто больше знать не может. Но ложь всегда подтверждает правду.
– Помимо обмана, было ли что-нибудь еще, что Вам не понравилось в этом человеке?
– Во время нашего разговора он сказал: «Я еду в Швейцарию – хочу покататься на лыжах». Я подумал тогда: «Ты, фашистский кретин, умеешь кататься на горных лыжах, а я нет?!» И с тех пор стал учиться кататься на горных лыжах.
– Но Вы получали от нацистов письма с угрозами.
– Да, и до сих пор получаю. Но пока я жив, я не думаю об этом.
– Сейчас в Аргентине Вы предполагаете описать жизнь Эйхмана?
– Не только его, но и Скорцени, который жил здесь и был владельцем очень крупного предприятия. У меня на руках есть документы, которые я получил в Перу в 1973 г. от одного очень интересного человека, который во время Второй мировой войны был помощником генерала Паттона.
Сейчас я занимаюсь исследованием этого вопроса.
– Каковы Ваши увлечения, помимо написания книг?
– Люблю женщин, охочусь и пью водку с друзьями.
– Какие у Вас отношения с женщинами?
– Мои самые близкие друзья – две мои дочери, и я считаю женщин совершенно особенными существами. Мужчина, которому повезло быть любимым женщиной, – самый счастливый на Земле.
В моем случае, а это литературная деятельность, женщинам места не остается.
Но когда знаешь, что, несмотря на расстояние в тысячи километров, есть женщина, которая тебя любит, пишется лучше.
– Какова их роль в Вашей жизни?
– Человек, который пишет, рисует или сочиняет музыку, всегда немного сумасброден. И женщина должна соответственно с ним обращаться, одновременно являясь для него дочерью, матерью и сестрой. Как никто проблему женщин понял Феллини в своем фильме «8 с половиной». Он снял Клаудиу Кардинале именно так – как сон, мечту.
– Какое качество Вы выше всего цените в женщинах?
– Их беззащитность.
– А в самом себе?
– В себе я не ценю ничего. Человек, который начинает ценить что-то внутри себя, как личность уже не существует.
ВСТРЕЧА С ИНТЕРЕСНЫМ СОБЕСЕДНИКОМ
М. Степанова
«Труд», 24 марта 1986 года
…Бонн, три часа утра. Легкая машина недорогой марки осторожно катит по улицам спящего города и вскоре выбирается на загородное шоссе.
Тут водитель словно забывает об осторожности, автомобиль прибавляет скорость, немедленно раздается вой полицейских сирен, три длинноносые машины с маячками зажимают маленький автомобиль, вынуждают остановиться, водителя заставляют выйти на дорогу и грубо обыскивают.
– Тонко было сделано, – рассказывает мне Юлиан Семенович. – Когда ездишь в одной и той же машине – а у меня такая большая машина была, в которую в случае чего можно и картины, например, погрузить… – к ней привыкнешь, руки и ноги работают автоматически, в заданном, так сказать, режиме, об этом не думаешь.
Теперь представьте себе следующую цепочку событий. Перед самым аукционом тебе устраивают автомобильную аварию. Повреждения самые небольшие – слегка помят багажник, разбиты фонари. Но ездить на такой машине нельзя, надо сдавать в ремонт.
По условиям страховки на время ремонта мне полагается машина поменьше, полегче. Вот я в эту легкую машину-то сел, на педаль нажимаю так же, а несется автомобиль быстрее – чуть-чуть быстрее. Всего лишь на несколько километров в час.
А в итоге меня лишают водительских прав. На ближайший аукцион я не попадаю. И вообще – теряю мобильность, возможность в течение очень короткого времени оказаться в любой точке Европы, где проходят важные аукционы…
Однако кому мог стать поперек горла человек, не занимающийся никакой недозволенной деятельностью? И при чем здесь «Сотби» – крупнейший организатор аукционов, на которых продаются скульптуры, древние ковры, картины, гобелены, старинное оружие? …
Есть за рубежом такая общественная организация – «Комитет за честное отношение к русскому искусству, которое оказалось на Западе».
В руководство комитета входят известные зарубежные деяте– ли культуры – такие, например, как Джеймс Олдридж, Жорж Сименон, Юлиан Семенов – один из самых активных его членов и руководителей.
– Я начал мотаться по странам Запада, – продолжает он. – То в Голландию, где Ментена судили, убийцу наших людей, который эшелонами вывозил картины из Советского Союза.
То в Швейцарию, где неизвестные замучили вдову художника Василия Кандинского. Затем в Австрию, Испанию, Англию…
И вот когда на Родину стали возвращаться то картина Коровина, то рисунок Репина, то книга, напечатанная самим Иваном Федоровым, то первое издание (подписное) Александра Сергеевича Пушкина, я ощутил активное противодействие.
Причина тут одна. Я не хочу ничего упрощать, но купить произведение искусства на Западе означает прежде всего выгодно поместить капитал. Памятники культуры, достояние всего человечества постепенно оседают в частных коллекциях.
– Но как Вы можете помешать этому – хотя бы в отношении русских картин, книг, похищенных нацистами?
– Культурные ценности из нашей страны вывозились так называемым «штабом Розенберга». Самое ценное шло в личный музей фюрера в Линце. Из того, что оставалось, Геринг отбирал себе коллекцию. Если на картине, выставленной для продажи, я увижу номер штаба Розенберга, я заявлю, что продается украденная вещь.
За владельцем потянутся нити к бывшим нацистам. Раскрутив клубок, можно будет доказать, что картина была похищена в нашей стране, и добиться ее возврата.
– Значит, Вы, автор политических детективов, ведете жизнь детектива?
– А как иначе можно писать детективы? Да еще политические? У читателя неизбежно возникает вопрос о компетентности автора. Я не поклонник Агаты Кристи, не поклонник этакой геометрии ее детектива.
И писать про шпиона, который обманывает, а потом его ловят, мне неинтересно. В таком детективе «нет автора», нет человеческой и гражданской позиции.
А когда я рассказываю о своих поисках Янтарной комнаты в книге «Лицом к лицу» (на телевидении у Юрия Сенкевича готова передача об этих поисках), то это, с одной стороны, политический детектив, с другой – памфлет, с третьей – записки путешественника…
– Скоро выходит Ваш пятитомник. Неужели все, что Вы пишете, основано на личном опыте? К примеру, «ТАСС уполномочен заявить…»
– Я, конечно, не работал в КГБ. Грузчиком, например, был, стажером МУРа был, а чекистом не приходилось. Но, между прочим, «ТАСС…» начался с одного моего чисто журналистского материала «Кому на пользу?»
Об американском шпионе, агенте ЦРУ, арестованном в Москве. И о том, что ЦРУ использовало в нашей стране яды. В роман этот случай вошел эпизодом. Но факт, сами понимаете, беспрецедентный.
За этим конкретным фактом, за документами я увидел возможность создания нового мира. Ведь рождение книги – рождение нового мира.
Я, кстати, люблю документы, часто использую, но и побаиваюсь их. Когда неукоснительно следуешь документу, перестаешь быть хозяином материала. А надо рождать мир.
– То есть делать обычную писательскую работу – придумывать…
– Одной выдумкой никого не увлечешь. Сейчас не то время. Инженер Зотов, Пол Дик – их, естественно, не было в той истории, о которой рассказал материал «Кому на пользу?». Этих людей я должен был придумать, но придумать с достоверностью натурного портрета.
Для этого надо проинформировать читателя о них – точно и глубоко. А чтобы самому иметь такую информацию, необходимо ездить по миру.
Выискивать следы картин, украденных у нас во время войны. Добиваться разрешения вывезти их на Родину. То есть нарабатывать личный опыт такого рода деятельности.
Кстати говоря, совсем недавно удалось напасть на след одной коллекции русской живописи – совершенно уникальной. Где находится коллекция – пока секрет.
Мы, естественно, делаем все, чтобы добром и миром, по тамошнему, разумеется, закону, вернуть в нашу страну эту коллекцию, где есть Сверчков, Куинджи, Шишкин, Левитан, Малявин, Айвазовский… Если об этом потом написать, получится политический детектив…
– Читатели ждут продолжение рассказа о полковнике Исаеве. Будет ли оно?
– В романе «Экспансия». У меня очень много материалов по ОСС – Отделу стратегических служб США, который был создан Рузвельтом для борьбы с гитлеризмом. Иногда мне приходится слышать: сначала был ОСС, потом ЦРУ. Так вот это ошибка: ЦРУ стало качественно новой организацией.
То, что было при Рузвельте и после него, отличается принципиально. Когда пришел Трумэн, а с ним открытая антисоветчина, слепота, низкий уровень интеллекта, ОСС просто разогнали. Был невероятно интересный заговор братьев Даллесов против «дикого Билла», генерала Донована, директора ОСС…
– А что будет делать во всем этом полковник Исаев?
– Деятельность «полковника Исаева» как разведчика прекратилась девятого мая сорок пятого года…
Его одиссея послевоенных лет – это путь на Родину… Он окажется в Испании и в Латинской Америке. Зачем? …В сорок пятом – сорок шестом годах в Аргентине пытались создать атомную бомбу.
«Атомную бомбу Перрона». Материал об этом мне помогли собрать местные ученые и журналисты. После войны в Аргентине было четыреста пятьдесят тысяч немцев из рейха.
Восемьдесят пять тысяч – члены НСДАП. Там был Скорцени, там были, я считаю, Борман, Мюллер. Представляете себе, что бы произошло, окажись разработки успешными?
Ведь Аргентина входит в десятку крупнейших стран мира. Атомная бомба на юге Латинской Америки!..
Но сюжет рассказывать не буду, а то неинтересно будет самому писать.
ЛИЦОМ К ЛИЦУ
«За автомобильно-дорожные кадры»
23 апреля 1987 года
«В чем смысл жизни?» – пришла на сцену актового зала МАДИ записка. В зале засмеялись. – Вы думаете, я знаю? – усмехнулся писатель Юлиан Семенов…
– Если честно, то у меня трясутся поджилки, – сказала я инженеру Саше Неретину, вместе с которым мы стояли у дверей в прихожей квартиры писателя.
– Раздевайтесь, проходите, – уже повторно пригласил нас человек, открывший дверь.
Мы перестали уважительно жаться к дверям, хотя чувство соприкосновения с другим миром и какого-то тайного благоговения перед обиталищем писателя, книги которого и фильмы знали с детства, нас не покидало. И тут он вышел – Юлиан Семенов, – хромающий и подкашливающий, в свитере и джинсах.
– Здравствуйте, – сказал он, протягивая теплую крепкую руку, которую мы по очереди осторожно пожали.
– Вы извините, ребята, я сегодня совсем больной. Сейчас я буду готов, проходите. В кожанке-то у вас можно появиться?
– Конечно, – сказали мы и прошли в комнату.
Стены были увешаны картинами.
– Это дочь писателя, Даша, художница, – пояснил встретивший нас бородатый человек.
Даша вошла – приветливая, доброглазая – поздоровалась, как отец, за руку, и мы почувствовали себя совсем легко и спокойно…
– Буду читать вам Ленина, – сказал писатель в машине, – не то чтобы упрямо, а тоном, отметающим возможные вопросы. Впрочем, вопросов и не было. С этого и начался разговор в зале.
Информация к размышлению: Юлиан Семенович Семенов.
Он родился в 1931 году и видел войну. Он убегал на фронт; вместе с отцом, полковником Красной армии, вошел в поверженный и освобожденный Берлин.
Работал стажером-оперуполномоченным в МУРе. После окончания Института востоковедения в качестве журналиста побывал на стройках Сибири, у таежных геологов и дальневосточных рыбаков, на Северном полюсе.
Специальным корреспондентом «Правды», «Литературной газеты» и «Огонька» он едет к партизанам Лаоса и в сражающийся Вьетнам, в Чили накануне переворота, франкистскую Испанию и освобожденную от режима Салазара Португалию.
Антифашистская, антивоенная направленность становится главенствующей в его книгах. Он встречается с «бывшими»: Карлом Вольфом, Отто Скорцени, Альбертом Шпеером, разыскивает нацистских преступников Рауфа Вальтера и Федерико Швендта, – в поисках украденных гитлеровцами из советских музеев произведений искусства вместе с ним участвуют Эдуард фон ФальцФейн и Георг Штайн, ему помогают Жорж Сименон и Джеймс Олдридж, перуанский антифашист Сезар Угарте и ученый из ГДР Пауль Колер.
В последние годы «Правда», «Неделя», «Огонек» и «Собеседник» печатают его репортажи из борющегося Афганистана и Никарагуа.
Политическая информация неотъемлема от его романов, становящихся в силу этого учебниками истории, учебниками антифашизма и мужества.
«…Такова уж природа профессии, – пишет Юлиан Семенов в романе „Пресс-центр“, – видимо, человек делается ее подданным, особенно если эта профессия стала счастьем, трагедией, судьбой».
***
МАДИ, актовый зал. 3 апреля 1987 года.
Первая записка была неприязненной: «Ваши произведения не вызывают глубоких, добрых мыслей, ничему не учат, не воспитывают молодежь».
Зал возмущенно зашумел.
– Отчего же, пусть у нас будет демократия… Только вот автор, к сожалению, не подписался.
Молодая женщина встала, громко подтвердила свое мнение. Студенты продолжали недовольно гудеть.
– Дайте же человеку высказаться, – сказал Семенов и вдруг предложил:
– Ну хорошо, давайте проголосуем. Кто согласен с этим мнением, поднимите, пожалуйста, руки. Зал затих.
– Ну а кто считает, что я все-таки что-то делаю?
Сотни рук поднялись высоко вверх.
– Спасибо. Вот на вас я и ориентируюсь.
***
– Мы грешим в своем изучении ленинского наследства, попрос ту скользим мимо некоторых вещей. И это особенно плохо сейчас, когда страна встала на путь новой экономической политики. Не надо бояться термина «НЭП», это ленинский термин. Еще тогда, в двадцать первом – двадцать втором годах, Ленин, как никто, чувство вал окостенение аппарата, бюрократию… От вас, студенчества, зависит очень многое. Вам предстоят огромные задачи, и вы должны быть подкованы. Я вспоминаю прекрасные слова Хрущева: «Вперед, к коммунизму – это значит назад, к Ленину».
Вопрос: «Ваше отношение к личности Сталина?»
– Оно очень сложное. Мы никогда не сможем простить тридцать седьмого года.…Но нельзя быть Иванами, не помнящими родства, и забывать о сорок первом – сорок пятом. В атаки-то шли с его именем.
Вопрос: «Существуют ли для вас идеалы в литературе?»
– Мои идеалы – Библия, Ленин, Пушкин, Хемингуэй, Омар Кабесас. У нас переведена повесть последнего «Команданте». Чем дальше, тем больше я растворяюсь в Горьком…
Вопрос: «Кто вам нравится из современных писателей?»
– Я дружу со многими поэтами. Люблю Межелайтиса, Сулейменова, Беллу Ахмадулину, Андрея Вознесенского, Виталия Коротича, Драча, несмотря ни на что – Евтушенко. У нас очень хорошая поэзия. Что же касается писателей… Горький принял в СП 333 члена.
А сейчас у нас 11 тысяч. Ни одна цивилизация не могла похвастаться таким количеством писателей. Это несерьезно, по-моему…
Я очень люблю Бориса Васильева, Константина Симонова. С точки зрения литературы у нас много шлака, но есть хорошая литература, которой можно гордиться.
…Друг и литературный секретарь Юлиана Семеновича, журналист Андрей Александрович Черкизов помогал разбирать записки. Одну из них Семенов читал, хмурясь, потом сердито и жестко спародировал вслух: «Вы не ответили на вопрос о Сталине. Это нечестно и не является позицией писателя и гражданина. Расстрелять».
В зале раздался смех. Зал был добро настроен сегодня, он задавал вопросы, полные интереса, ведь многие из молодых на книгах Юлиана Семенова учились чувству патриотизма. Здесь было мало недоверчивых и очень мало неверящих. Но все же они были.
– Позвольте мне думать, как я думаю, и говорить так, как я думаю! Вся моя семья прошла через тридцать седьмой год. Но я был в ликующем Берлине сорок пятого, и ликование это связывалось с име нем Сталина… Мы, к сожалению, разучились задавать вопросы с частицей «ли»: «Не считаете ли вы что…?» А это неуважение к собеседнику…
Вопрос: «Есть ли конкретная цель, к которой вы стремитесь? В чем она?»
Семенов помолчал несколько мгновений:
– Цель? Написать хорошую книгу. Какая же еще может быть цель?
ИНТЕРВЬЮ ГАЗЕТЕ «ТРУД»
С. Абрамов, газета «Труд»,
1984 год
В свое время Роман Кармен писал: «Юлиан Семенов, высаживавшийся на изломанный лед Северного полюса, прошедший пылающие джунгли героического Вьетнама, сражавшийся бок о бок вместе с партизанами Лаоса, передававший мастерские репортажи из Чили и Сингапура, Лос-Анджелеса и Токио, из Перу и с Кюрасао, из Франции и с Борнео, знавший затаенные улицы ночного Мадрида, когда он шел по следам бывших гитлеровцев, спасавшихся от справедливого возмездия, живет по-настоящему идейной жизнью...
Именно поэтому его герой Максим Максимович Исаев-Штирлиц стал любимым героем молодежи – писатель отдает герою частицу своего «я», и чем больше он отдает себя своему герою, тем ярче, жизненнее и объемнее он становится».
Редакция получает много писем, где задаются вопросы о судьбе Исаева-Штирлица. Выполняя пожелания читателей, публикуем беседу нашего корреспондента с Юлианом Семеновым.
– Юлиан Семенович, мы простились с Исаевым-Штирлицем в Мадриде, вскоре после окончания Великой Отечественной войны. Во всяком случае именно этим эпизодом заканчивается ваш роман «Приказано выжить». Будет ли что-нибудь еще написано о работе Максима Максимовича Исаева?
– Отвечу определенно: будет... Во время работы по выявлению и возвращению на Родину похищенных гитлеровцами культурных ценностей я постоянно консультируюсь с Жоржем Сименоном по этому вопросу. Как-то я спросил его, не было ли ему трудно прекратить работу над своим циклом романов о Мегрэ.
Он ответил: «Сначала я не находил себе места, я сросся с ним, Мегрэ стал моим “вторым я”.
Потребовались годы, прежде чем я вошел в свою новую работу, в написание дневников правды; внимательный исследователь сможет найти в них те эпизоды моей жизни, которые прямо-таки понуждали меня писать тот или иной роман о Мегрэ. Уверяю тебя, расставание со Штирлицем будет для тебя столь же трагичным». Боюсь, что Сименон прав.
– А коли так, то ваша недавняя поездка в страны Латинской Америки, видимо, тоже связана с продолжением работы над цик– лом романов о Штирлице?
– Увы, Гете был высоко прав, когда написал: «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!» Мне бы очень хотелось написать через Штирлица то, что происходит ныне на границах героической Никарагуа, но ведь это невозможно, ибо я сам определил дату рождения моего героя – 1900 год, ровесник века. А писать надо, и я буду писать о заговоре ЦРУ против страны, отстаивающей одно лишь право – на независимость.
Я проехал – в марте этого года – на машине всю Никарагуа, от столицы до границы с Коста-Рикой.
В Сан-Хосе, столице Коста-Рики, мне довелось повстречаться с двумя парагвайца ми; они, понятное дело, «коммерсанты», находятся в стране «поповоду бизнеса».
На самом же деле эти люди – военные инструкторы, наемники ЦРУ, и хотя родились они после войны в Аргентине, их родители занимали высшие должности в системе СС и СД, по тайным дорогам «Одессы» с ватиканскими паспортами ушли в Латинскую Америку.
Преемственность нацизма – вещь особая, не изученная еще. Фюрер «национал-социалистической рабочей партии» Гарри Лаук по паспорту является гражданином США, но его отец, крупный нацистский чиновник, скрылся в Нью-Йорке от справедливого возмездия; яблоко от яблони недалеко падает...
Так что, видимо, сегодняшнюю ситуацию в Центральной Америке придется писать через другого героя, через журналиста и литератора Дмитрия Степанова.
Вернувшись от партизан Лаоса, я с его «помощью», его глазами увидел то, что отлилось в повесть «Он убил меня под Луанг-Прабангом».
После нескольких лет работы в Западной Европе я – через Степанова же – написал роман «Пресс-центр». Во время нынешней поездки в Латинскую Америку побывал в немецких колониях на границе с Парагваем.
Там живут люди, убежавшие сюда в сорок пятом; немецкая речь здесь слышится чаще, чем испанская,
живут закрыто, на каждого приезжего смотрят подозрительно... Прекрасно оборудованные аэродромы, самолеты, принадлежащие частным лицам, то и дело совершают полеты в Парагвай, где фашизм является государственной религией...
– Значит, можно считать, что сейчас Парагвай является глав– ной опорной базой бывших гитлеровцев и их «последователей» нео– нацистов?
– Не только Парагвай. В Чили существует колония «Дигнидад», это на границе с Аргентиной: закрытая зона, вход по пропускам, нацистские приветствия. В одной из стран Латинской Америки Павел Гордиенко, один из коллаборантов как Бандеры, так и Власова, создал после войны чисто фашистскую партию. Понятно, на кого опираются наемники ЦРУ, сбежавшие из Никарагуа...
Профашистская партия существовала и на Кубе в 30-х годах, называлась она «АБЦ», получала прямую поддержку из Берлина, от рейхсляйтера Боле, отвечавшего за все нацистские группы в мире...
А если это сопоставить с тем, что вся торговля немецкой литературой ныне в ряде стран Латинской Америки находится в руках фирмы «АБЦ», то здесь есть над чем подумать...
Во всяком случае в сороковых годах, когда США начали холодную войну, когда ЦРУ подобрало всех нацистских разведчиков, когда Рауф и Барбье вкупе со Скорцени сделались суперагентурой ЦРУ, когда Штирлиц, мой герой, был лишен связи с Родиной (с фалангистской Испанией Франко Советский Союз не считал возможным поддерживать дипломатические контакты, большинство стран Латинской Америки в ту пору – по наущению ЦРУ – спровоцировало разрыв отношений с нашей страной) ему было о чем подумать, да и видеть он мог больше других...
– А какова судьба Мюллера, шефа гестапо?
– На одном из маленьких западноберлинских кладбищ много лет назад стояла могилка группенфюрера; приносили цветочки. Однако когда прогрессивные западноберлинские журналисты настояли на вскрытии могилы Мюллера, погибшего, по официальной версии, 1 мая 1945 года, то гроб оказался пустым.
Я как и многие западногерманские и американские журналисты, совершенно убежден в том, что Мюллер ушел.
Косвенные свидетельства, собранные мной сейчас в Латинской Америке, свидетельствуют, что он появлялся там, в частности в Панаме (один из местных крупных политиков, связанный с ЦРУ, имел давние дружеские контакты с СС и СД); удобнее всего рекрутировать на службу ЦРУ такого человека, как Мюллер, было именно в Панаме, в находившейся под контролем США зоне Панамского канала; следы Мюллера мне удалось обнаружить в одном небольшом поселке на берегу Парамы – там он довольно часто гостил у врача – изувера Менгеле, лучшего друга диктатора Стресснера, «гуманиста, борца за гражданские права и демократию».
– Традиционный вопрос: над чем вы сейчас работаете?
– Заканчиваю роман «Экспансия». Работаю с режиссером С. Ара-новичем над многосерийным телефильмом «Противостояние» – это третья часть моего цикла, куда входят «Петровка, 38» и «Огарева, 6».
На Киностудии им. Горького режиссером В. Фокиным закончены съемки десятисерийного фильма «ТАСС уполномочен заявить». Готовлю к публикации повести «Псевдоним» и «Версия-1». Скажете: не слишком ли много сразу?
Стремительный ритм жизни Родины предполагает и писательскую стремительность: работать надо без устали, каждый день, ибо пишем мы не для кого-нибудь, а для самого читающего в мире народа.
– И в заключение... Недавно вышла из печати ваша книга «Лицом к лицу» – о нелегкой, но благородной работе по возвращению на Родину культурных ценностей, вывезенных гитлеровцами, о работе, в которой участвуют многие друзья нашей страны. Будет ли она продолжаться?








