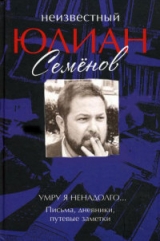
Текст книги "Неизвестный Юлиан Семенов. Умру я ненадолго..."
Автор книги: Ольга Семенова
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 85 страниц)
Ровенских Борис Иванович сразу, вернувшись с совещания, сказал, что в коллективе театра имени Пушкина мою пьесу «Дети отцов» ставить не будут. Не будут, так как это сейчас не нужно. Тема культа личности сейчас перестала волновать народ, как пытался говорить Ровенcких.
По-моему, вот это хамелеонство – не просто в человеке, а в художнике – и есть самый что ни на есть страшный реквизит времен сталинского культа личности, когда из человека пытались сделать лакея «чего изволите-с?», причем лакея не из-за оплаты, а лакея просто так – из-за лакейства.
А как я узнал, в ЦК партии и сейчас отношение к моей пьесе у всех в высшей мере положительное, но часть товарищей считают, что она еще в чем-то недотянута языково. Абсолютно правильно! Я писал ее как незаказанный социальный заказ, когда еще никто об этом не писал, в полемике с Львом Романовичем Шейниным, с его пьесой «Игра без правил», где уже в 1945 г. были всепонимающие чекисты, глубоко ненавидевшие культ личности Сталина и преступника Берия.
Очень мне это тогда показалось неверным и нечестным. Поэтому написал свою пьесу, свою историю – историю 1952—1953 гг.
Сказал про свою историю и сразу споткнулся, потому что вспомнил 1953 год и вспомнил, как меня вызвали в КГБ после того, как Прокуратура опротестовала решение Особого совещания по делу отца.
Помню свою беседу со следователем – полковником Мельниковым. Помню, как после долгой беседы, когда я принес ему бумажку, в которой было сказано, что отец награжден автомобилем не Николаем Ивановичем Бухариным, а Серго Орджоникидзе в 1934 году, – Мельников очень этому обрадовался, потому что «бухаринская машина» была одним из главных пунктов обвинения.
Потом, когда мы с ним кончили говорить, я передал ему яблоки для отца. Мельников заволновался: «Да мне-то ведь нельзя, нельзя яблоки брать – не положено по инструкции».
(Как выяснилось, человек он в органах новый, пришел недавно, раньше был партийным работником.) Но потом – о, сила инерции! – он огляделся по сторонам (скажем честно – опасливо огляделся), сунул в карман несколько яблок, которые я принес: «Ладно, передам».
Помню я, как месяца четыре перед этим, дней через десять после опубликования сообщения МВД о реабилитации «врачей – убийц» – а в день реабилитации врачей я послал письмо Лаврентию Павловичу – меня, в который раз уже, вызвали, но вызвали не в приемную, как вызывали раньше, а вызвали прямо в тюрьму, в Пугачевскую башню в Бутырках. Я был твердо убежден, что это привезли из Владимирского изолятора отца.
У меня отобрали паспорт, отобрали два человека – один в старшинской форме, другой в штатском. А рядом стояла мать и, когда она увидела это, сделалась не то что бледной, а желтой и руки к груди поднесла. Тогда я ее впервые увидел старухой, а ей тогда было сорок пять лет...
Повели меня через двое ворот, ввели в дворик, где – я как сейчас помню – ошалело и весело кричали воробьи на мелких кустарниках, а по асфальтовым дорожкам ходили высокие парни в серых комбинезонах с наганами; как сейчас помню – не ТТ, а именно наганы в кобурах.
Это были шоферы «черных воронов». Я шел вдоль этих кустарничков мимо двух– или трехэтажного здания – сейчас точно не помню – Пугачевской башни. Шедшие со мной двое людей с трудом, навалясь на дверь, на которой висел отомкнутый пудовый замок – знай тюрьму сразу! – отворили скрипучую дверь.
И сразу стало холодно... Меня потряс ослепительный кафельный пол и молоденькие лейтенантики, которые ходили вдоль камер и заглядывали в глазки. А потом меня свели налево. Там кафель кончился и начался паркет. Меня привели к кабинету, открыли дверь и подтолкнули туда.
Я остановился на пороге и увидел в полутьме – шторы были задернуты – за столом седого полковника с колючей щеточкой усов, и, кажется, он был в пенсне а ля Берия. Рядом с ним был большой приемник, и я, как сейчас, помню большой зеленый глаз его, как будто кошачий, остановившийся. Я долго стоял, и полковник не обращал на меня внимания. Потом я кашлянул.
Он сказал:
– Подойдите к столу.
Я подошел к столу. Тогда он поднял глаза и сказал мне:
– Ну вот что. И это ваше заявление мы рассмотрели. Ваш отец – враг. Запомните это раз и навсегда и перестаньте отрывать наших людей вашими клеветническими письмами. Иначе... – он постучал пальцем по стеклу.
И стало мне вдруг так все ясно, так отчужденно безразлично ясно, что я вроде даже засмеялся.
Спросил:
– Можно идти? Полковник повертел мой пропуск, долго не отвечал, а потом сказал:
– Так зарубите это себе на носу. Идите пока что...
И я ушел.
Кстати, не надо было бы Никите Сергеевичу говорить в своем докладе на встрече с писателями о том, что Берия и Маленков были за ликвидацию ГДР. Два эти негодяя сразу же будут окружены ореолом фашиствующей антисемитской мразью в ФРГ. Это точно.
Как неумные люди, направленные на работу в Министерство культуры, могут мешать нашему общему делу, свидетельствует один пример.
Несколько дней тому назад в Министерстве культуры федерации то ли заместитель начальника, то ли начальник отдела театров Елисеев или Евсеев, выступая где-то на встрече с писателями-драматургами – с узким кругом писателей-драматургов, так правильнее, – сказал:
– Ну вот что. К чертовой матери вашу демократию – репертком вводим!
За такие высказывания, по-моему, надо отстранять от работы и выгонять из партии. Это же надругательство над Лениным, который писал, что любая самая демократичная буржуазная демократия в миллион раз менее демократична нашей пролетарской диктатуры. Это ведь абсолютная правда! Так как же смеет чиновник, плохо знающий Ленина, посылать к черту нашу демократию!
При случае я об этом наверняка буду говорить, и говорить очень серьезно. Получается сейчас довольно любопытная и неприятная картина. Покритиковали ряд писателей и художников. Покритиковали того же Васю Аксенова – но это не мешает ЦК отправлять его сейчас в Аргентину.
А мышата – среднее звено, чиновники около литературы, около кино, около театра уже начинают перестраховку, начинаются запреты на фильмы, связанные с культом личности, начинаются гонения на спектакли, в какой-то мере связанные с культом личности.
Если бы шло гонение против плохой литературы – я за это двумя руками, но гонение идет против тем, а не против качества. И гонение это никем не санкционировано. Наоборот, хотят бежать как псы – впереди прогресса. Хотят выслуживаться.
А ведь сами же потом, в беседе за рюмкой водки, будут говорить нам, писателям:
«Вот, ничего нельзя поделать – такая установка, момент не тот. Давай, старик, подождем, – и будут при этом скорбно вздыхать и указывать глазами на потолок: мол, указание сверху». А не было такого указания! Страшное это явление! Подлое и страшное!
Кстати, такой вот человечек, который рядится в тогу панибратствующего товарища писателя, может быть прекрасной темой для трагикомедии. Прекрасная зловещая тема – об этом стоит подумать…
15 марта 1963 года
Лето 1962 года. Живу в Коктебеле. Вкалываю с утра до ночи свои «...При исполнении служебных обязанностей». Пишется радостно и здорово. По вечерам встречаемся с «капеллой» – Женя Малинин, Игорь Безродный и Валька Тур. Забавное явление – Туренок. Это не просто человечек, не просто поэт; это очень большое и серьезное явление в советской литературе.
Познакомился я с ним забавно. Месяца за два перед Коктебелем и за день до моего вылета на Северный полюс я был по делам своей пьесы – первой пьесы – «Правда за девять рублей поштучно», которую я написал просто-таки по приказанию Васи Ливанова, – так вот, когда я был у Тура, Петр Львович мне говорил о своем сыне Вальке.
Я уже слыхал о нем и от других людей, что это – талантливый мальчуган.
В моем представлении он рисовался эдаким вундеркиндом – Аидом – худым, с впалой грудью и чтобы обязательно с очками.
Так вот в Коктебеле, кажется на третий или на четвертый день после моего приезда, когда я плыл рано утром (а я там купался только рано утром, потом завтракал и работал до обеда и после обеда), рядом со мной я увидел лодку, а в лодке я увидал блистательно сложенного атлета с белобры– сым лицом арийского убийцы и с вздернутым носом а ля Павел I.
Атлет внимательно смотрел на меня, вернее – даже не на меня, а на мою бороду, а потом сказал: «Так вы – Юлиан Семенов!» Так мы познакомились с Туренком, которого я и обожаю и высоко ценю.
Кстати о бороде. Мороки она мне доставляла в жизни много. Недавно вообще был очень забавный случай.
Мы с Катей возвращались из Тарусы. В вагон электрички вошел пьяный лейтенант. Он был красив гусарской усталой красотой, с голубыми, навыкате, бараньими глазами, с точной строчечкой усов. Он с трудом влез в вагон со своими удочками.
На реплику одного из сидевших рядом ночных пассажиров, что, мол, слава богу, вагон свободный, иначе бы не влезли, – лейтенант сказал хрипловатым голосом, блудливо улыбаясь:
– Свобода – это осознанная необходимость.
Я засмеялся. Он посмотрел на меня внимательно и сказал:
– У, гадюка, тоже под Юлиана Семенова работаешь!
Тут засмеялась Катя. Лейтенант оскорбился и спросил:
– Что – не слыхали про такого, что ли?
Катя ответила:
– Нет, не слыхали.
И лейтенант долго объяснял нам, что сделал Семенов в литературе и как он к нему относится. Постольку-поскольку он к Семенову относился положительно, то скажу без лишней скромности, не таясь, – мне было приятно его слушать. В конце он все-таки посоветовал мне бороду побрить...
Так вот о Туренке. Сначала он мне показался слишком уж заэле-гантченным, слишком уж спортивно развитым, эдаким современным модным молодым человеком.
Но после двух дней, правильнее сказать —вечеров (вечера мы проводили с восьми до часу в разговорах, а я разговаривать чем дальше, тем меньше умею, просто как-то лучше у меня ложится мысль, если ее пишешь рукой – обдумываешь предварительно) – после этих двух вечеров разговоров я обалдел от того, сколь умен и поразительно талантлив этот двадцатилетний парень.
Талант у него пастернаковский – очень русский, очень высокоинтеллигентный, очень прозорливый. В его таланте нет ничего от желания угодить, вопрошая «чего изволите-с?», но также в его таланте нет ни капли леваческого дешевенького российского якобинства.
В один из дней, когда Туренок ушел в горы – он уходил в горы на полдня и возвращался к обеду, с носом, похожим на перезрелый помидор, – в один из дней ко мне пришел Гиршл Полянкер – писатель из Киева – и сказал:
– Старик, пойдемте, я вас познакомлю с Самуилом Яковлевичем Маршаком.
Боже мой, какой же это чистый и чудесный человек – Маршак! Как же мы не умеем правильно понимать термин «интеллигент»! Как же залапали этот термин у нас!
Зацеловали его пьяными губами, залапали грязными ручищами. А вот если снять на киноленту два часа с Маршаком и прокрутить эту ленту перед учителями обществоведения, то и они, я думаю, сколь ни были бы малоподготовленными, все равно сумеют донести до своих питомцев правильное звучание этого термина, то есть правильное объяснение понятию «интеллигент».
Самуил Яковлевич спросил: «А бывают ли здесь экскурсии, если бывают, то куда?» Я предложил ему съездить на моей машине по Грибоедовской дороге в Атузы, которые сейчас, конечно, называются не Атузами, а колхозом имени Второй пятилетки.
И вот поехали – Самуил Яковлевич, Гиршл Полянкер, Пузиков, главный редактор Гослитиздата и Лева Кондарев.
Самуил Яковлевич очень обрадовался, когда узнал, что я – востоковед. Я читал ему стихи Касем-хана и Рахман-баба. Стихи ему нравились. Потом мы заговорили об английских поэтах, о Волсворде, об его трудной речевой особенности. Маршак рассказал смешную историю о том, как несколько лет тому назад он с сыном приехал в Великобританию, в Лондон.
Их пригласили в гости к какому-то фермеру, который ужасно долго объяснял свой адрес, как добраться до его дома, но так до конца точно объяснить отчего-то не смог – скорее всего в силу своей явно не английской велеречивости. Но Маршак очень хотел к нему попасть, потому что жил он в глубинке, в лесу, один, а всегда очень интересно побывать у человека, который живет один, у такого и речь особая и манера поведения своя.
Так вот Маршак ужасно долго не мог найти тропиночку, которая вела к дому этого старого отшельника. А это путешествие он предпринял на второй день после своего приезда в Лондон, где он раньше никогда не был, а переводил Бернса, только опираясь на свой багаж английского языка, приобретенный им у нас, в России.
И вот навстречу ему попался какой-то англичанин, кажется почтальон. Маршак спросил его: «Уот из зе тайм?», что в переводе на русский язык, вместо того чтобы означать «Сколько времени?», означало – в силу того, что в английском языке самая крохотная мелочь меняет смысловое значение фразы – «Каково время?», правильнее сказать – «Что за время?», на что почтальон скептически ответил, не интересуясь, кто этот вопрос задает, откуда этот странный человек с лицом еврейского ангела, в круглых очках, с маленькими руками: «Зет из вери философикл квешен», что значит: «О, это слишком философский вопрос!»
– Так, – говорит мне Маршак, – я по-настоящему столкнулся с английским юмором и убедился в том, что это – прекрасно.
Я рассказал ему анекдот про то, как мужчина решил провести свой отпуск в Шотландии в пеших прогулках. И мужчина шел из одного селения в другое и в каждой деревне видел десяток детей просто на одно лицо, и в каждой деревне он спрашивал: «Чьи эти дети – такие похожие один на другого?». Ему отвечали: «Это дети почтальона».
Чем больше он таких детей видел, чем дальше он шел, тем больше в нем возникало желание увидеть самого почтальона, который народил десяток одинаковых мальчиков и девочек. Он зашел в почту и спросил: «Скажите, а где тот почтальон, у которого так много детей?»
Ему сказали: «А вон он сидит в углу». Человек увидел махонького, худенького, щупленького мужчину.
– Он?!
– Да.
– Ну как же он стольких мог наплодить?! Он такой же слабый!
– Ну и что же? – Он же ездит на велосипеде.
Маршак очень смеялся и говорил, что это точно, что это английский юмор. Кстати об юморе и анекдотах. Вчера Митя Федоровский принес мне анекдот, который я хочу записать, чтобы он не ушел у меня из памяти.
А анекдот такой:
По лесу стремглав бежит муравей. Навстречу муравью – заяц.
– Куда ты бежишь, муравей?
– Там в чаще слониху изнасиловали, а сейчас всех подозрительных хватают!
Это, может быть, юмор и не английский, а наш, но, по-моему, это – великолепно.
Мы приехали в Атузы, сели на берегу моря. Море в этот час – а было что-то между шестью и семью часами – казалось белым и только вдали лежало ослепительной бритвенной линией. Маршак посмотрел на гору.
Я все время забываю, как она называется, но рельеф ее – точная копия профиля Максимилиана Волошина. Маршак смотрел на гору внимательно, а потом улыбнулся очень застенчиво и сказал:
– Максимилиан Волошин – такая умница, такой талант…
– Он помолчал и добавил еще тише и застенчивее:
– Он был ужасным жуиром.
Поэт Леня Кондарев засмеялся своим громовым смехом и сказал:
– Самуил Яковлевич, а вы слыхали пародию на Михалкова?
Маршак ответил:
– Пародий на него я слыхал много, не знаю – какую вы имеете в виду, но вот вы сказали про Михалкова, и я вспомнил одну его очень смешную шутку: «Гимн написать легко – гимн у нас утвердить трудно».
– Нет, наверно, эту пародию вы не слыхали, – не унимался Кондарев, – я вам прочту.
И он прочел кошмарную пародию, всю составленную из мата.
Начиналась она так: «А у брата тети Нади две жены» и далее следовали такие звенящие непотребства, что даже мне – а я мат очень люблю, считаю его звучным и нужным в речи – эта пародия показалась чудовищной.
Гиршл Полянкер отвернулся. Пузиков стал громко кашлять и говорить о том, что Волошина Гослитиздат готовит к изданию (что-то очень долго он готовит – уже два года готовит, а книги все нет).
А Маршак был как ребенок – растерян, обижен и поставлен в дикое положение. И потом, мне кажется, он не все понял из того, что читал Кондарев. Мне кажется, что ему знаком только школьный мат, который он волей-неволей слыхал в гимназии, а настоящий – писательский, «высокоинтеллигентный» – ему был, то ли к счастью, то ли к несчастью – определять я не решаюсь, – недоступен.
Потом к нам подошел здоровый мужчина – косая сажень в плечах, в тигровой пижаме; с ним две женщины и старик. Мужчина посмотрел на меня и сказал сакраментальную фразу:
– Ну, ну, молодой, а бороду отпустил!
Психология наших людей кажется мне чудовищной. Вот если ты старик, то вот и носи бороду – «нечего суваться»; а если ты молодой – то бросай. Какое-то неуважительное отношение к старости и потребительское – к молодости – «пока можешь – хватай».
Гиршл Полянкер посмотрел на этого гражданина с глубоким презрением. Пузиков вздохнул. Кондарев собирался что-то сказать, дабы сгладить ситуацию, но его опередил Маршак.
Он посмотрел, сожалеюще качая головой, на мужчину и сказал ему:
– Как же вам не стыдно – ведь это наш гость из Кубы, Педро Санга Пансарилья.
Лицо мужчины сделалось от растерянности глупым, как дерево. А потом он сказал: «Фидель, Хрущев», – стал пожимать своей правой рукой левую руку.
– Что ему перевести? – спросил Маршак. – Может быть, вы что-нибудь хотите сказать нашему кубинскому другу?
– Да чего уж там говорить, – сказал мужчина.
Он на секунду задумался, а потом – и черт его знает, откуда это прет, – его понесло:
– Братский кубинский народ, воодушевленный решениями... – и так на пять минут.
И бумаги нет, и слушателей немного, и море рядом! Ну что бы ему просто поговорить, так он – нет, с лозунгами, чтобы все было как положено. Он долго не мог выпутаться из своего приветствия, не зная, как бы его поэлегантнее закончить.
Я багровел от сдерживаемого смеха. Маршак посмотрел на меня с укором и сказал:
– Ай лайк фальсифайкейшн (я люблю фальсификации), – а по том мне шепнул на ухо: – сейчас мы зашли уже слишком далеко, сейчас его нельзя обижать, а если он узнает, что вы – русский, он ужасно обидится.
Мужчина продолжал свое «краткое» выступление. Потом Маршак его перебил и очень галантно, осторожно спросил:
– Вы знаете, вот товарищ кубинец – он тоже журналист и пи сатель. И мы все – писатели. Мне интересно узнать, что сейчас чи тают ваши дети, если они у вас есть.
Это получилось точно и здорово, как у Чехова однажды. Чехов записывал в своем дневнике, а может быть, не он это записывал в своем дневнике, а Горький в своих воспоминаниях о нем – точно я сейчас не помню, как однажды к Чехову пришли дамы и стали щебетать о том, как они возмущены позицией турок по отношению к братской Болгарии.
Чехов очень долго их слушал – этих щебечущих дам, а потом спросил: «А скажите, какой вы любите мармелад – фруктовый или молочный?»
И вот тут-то дамы и стали теми очаровательными и прелестными людьми, какими они были на самом деле. Они стали щебетать про мармелад, про то, как варить варенье, про то, какую зелень класть в бульон. Чехов слушал их, качал головой и смотрел на них с любовью.
Так же вышло и тут. Мужчина начал говорить о Чуковском, о Маршаке, о Михалкове, о Гайдаре. Начал жаловаться, что сейчас мало стали для детишек писать, раньше больше писали. Стал спрашивать:
– Вот вы, небось, писатели? Так скажите там Чуковскому, Мар шаку, пускай больше пишут – заленились!
Есть у нас – это воспитано давно, это стали воспитывать после Ленина – этакое барски-пренебрежительное отношение к труду писателя. Каждый, видите ли, считает себя вправе давать не просто советы, а указания в тоне подтрунивания.
Маяковский находил в себе юмор и злость ответить фининспектору: «Так вот вам мое стило, пожалуйста, пишите сами». Во мне и юмора меньше, и злого, по-видимому, тоже, но мне в ответ на такие замечания: «Пускай там не ленится Маршак, пускай пишет больше» – все-таки хочется сказать:
«Болван ты, братец!»
Маршак посмотрел на своего собеседника и спросил его:
– А вы, простите, кто по специальности? Мне это очень инте ресно бы узнать.
Мужчина ответил:
– Да я замдиректора базы.
Мы с Маршаком переглянулись, и все стало на свои места. И подумал я, что, будь на его месте рабочий человек, то он бы ни в коем случае не посмел (не потому, что он разговаривает с писателями, а потому что он сам – творец, потому, что он сам производит материальные ценности) разговаривать в таком тоне: «пусть не ленится, пусть пишет».
Вообще надо сказать совершенно точно, что этот барски-пренебрежительный тон в разговоре с писателями, с актерами, с художниками усвоили себе обыватели. А рабочий все-таки он никогда не обыватель хотя бы потому, что он производит материальные ценности, а не регистрирует производство.
Потом мы поехали через перевал в Судак. В горах уже лежали черные и быстрые тени. Пузиков показал скалу «Лошадь», которая действительно была похожа на мчащегося во весь опор коня. Мы проехали через шумный, веселый, очень мне милый Судак, мимо Генуэзской крепости – к ее скорбным и молчаливым развалинам.
Маршак вышел из машины. Он остановился на дороге – маленький старый человек, – опираясь на палку, и долго смотрел на зубчатые вершины, и Лева Кондарев даже не стал читать своих новых пародий.
А потом Маршак сказал:
– Вы знаете, я где-то недавно вычитал, что голоса людей не ис чезают, что людские голоса уходят вверх, к оболочке вокруг Земли и конденсируются там навечно, как наскальная живопись. И пред ставьте себе, если вдруг ученые изобретут аппарат, который сможет улавливать эти дорогие голоса. Как тогда многое новое узнается! Как тогда мы станем богаче и мудрее! Я бы очень хотел услышать голоса генуэзцев.
Потом мы возвращались в Коктебель, и уже были сумерки, и только когда мы спускались в долины и неслись мимо виноградников, желтые блики солнечных лучей пронизывали воздух и машину, и полынный горький воздух был вокруг нас и он наполнял машину.
И вдруг Маршак, опершись подбородком на палку, стал читать Пушкина: «Чертог блистал...»
Читал он воодушевляясь, но все тем же тихим голосом, чуть хрипловатым, иногда дополняя слова очень сдержанным, как бы стыдливым движением руки. Читал он, закрыв глаза, и в профиль был очень похож на пародии на себя. Читал он совершенно изумительно – так, как не прочесть Пушкина никакому мастеру художественного слова.
Вдруг замолчав, он открыл глаза, посмотрел на меня, и я увидел в его старческих глазах слезы.
– Так писать никому больше не дано, – сказал Маршак, – даже и непонятно, как можно так писать...
Так мы ездили часа четыре с половиной кряду. Маршак оживился.
Чесучовый пиджак – длинный, чуть не до колен – на нем топорщился. Он часто смеялся, почти неслышно, внутренне как-то. И было в нем так много доброты, разума и спокойствия, что не полюбить его было нельзя.
Когда мы проводили его домой, Гиршл сказал мне:
– Вы знаете, ведь у него – рак...
В 1942 году зимой, вернувшись из Подмосковья, с передовой, Евгений Петров захворал чем-то очень тяжелым, и его, чтобы легче было за ним ухаживать, из дома отправили в Кремлевку. И вот тогда-то и осуществилась мечта Бориса Ласкина познакомиться с ним; иначе то он был на фронте, то сидел в редакции, то уезжал за границу.
Ласкина привели к Петрову. Он лежал, заваленный со всех сторон гранками. На столике стоял немецкий трофейный коньяк, и лежали немецкие трофейные сигареты.
Петрова познакомили с Ласкиным, и Петров сказал Ласкину:
– Пожалуйста, курите трофейные сигареты.
– Спасибо, – ответил Ласкин, – я не курю.
– Тогда выпейте немножечко трофейного коньяка. Он вкусный.
– Спасибо, – ответил Ласкин, по-прежнему влюбленно разглядывая Петрова, – но я не пью.
Петров внимательно посмотрел на него и спросил:
– Скажите-ка, а вы женаты?
– Нет.
Тогда Евгений Петров подтянулся на локтях и сказал:
– Товарищи, встаньте! Среди нас – живой ангел.
Помню, как в 1957 году меня привел к Федору Ивановичу Панферову Михалков. Помню, что там в это время сидел П.Г. Москатов, который тогда являлся председателем Ревизионной комиссии ЦК партии. Мне эта встреча была очень интересной, потому что Москатов работал начальником у моей матери в двадцатых годах, когда она была комсомолкой, депутатом Моссовета.
И мать ходила к нему в 1952 г. по поводу арестованного отца. Москатов выслушал ее и сказал, что он во всем разберется. Он вызывал, действительно, отцовского следователя (а, может быть, не вызывал, а звонил ему по телефону) и сказал матери, что он, Москатов, убедился в том, что отец мой виновен.
Так вот, сейчас этот Москатов сидел против меня, а я, уже три года обуреваемый жаждой писательства и исписавший огромное количество ненапечатанных повестей и рассказов – очень слабых, ученических, – пришел к Панферову со своей первой серьезной вещью – с циклом рассказов «Будни и праздники» о железной дороге Абакан—Тайшет.
Писал я эти рассказы под явным всецелым влиянием Бабеля и Хемингуэя и думал показать Федору Ивановичу. Он тогда уже был очень болен, с желтым лицом, иссеченным глубокими, видимыми, осязаемыми черными морщинами.
Волосы пегие курчавые, хранившие в себе какой то задор двадцатых комсомольских годов – так, во всяком случае, мне тогда казалось.
Когда мы пришли, С.В. продолжал разговор с Москатовым и Панферовым. Я сидел в сторонке, наблюдая их. Москатов говорил много и страстно о XX съезде, говорил как король из сказки Шварца, – грубовато, по-мужицки просто, с лубочным мужицким юмором.
Потом он стал говорить о том, каким должен быть молодой человек, каким он помнит себя всю жизнь. Панферов слушал его, закуривая одну папиросу следом за другой, опустив глаза, тяжело посапывая.
А Михалков, не удержавшись, спросил:
– Петр Григорьевич, а у тебя спина не чешется?
Тот удивился: «Почему?»
– Ну, судя по всему, у тебя крылышки должны прорезаться, как у ангелочка.
Панферов на секунду перестал сопеть, быстро взглянул на Москатова. Москатов побагровел – и засмеялся. И Панферов засмеялся, и Михалков засмеялся и – по Ильфу и Петрову – все засмеялись.
Так вот – крылышек у Москатова, конечно, не было, потому что через три года после описываемых событий, он был исключен из партии за жульничество и махинаторство – трагичный и позорный конец председателя Ревизионной комиссии ЦК!
Когда Москатов ушел, Панферов достал из шкафа водку, вино, коньяк и предложил выпить. Сам он, уже истощенный болезнью, не пил, хотя за два-три года перед этим страдал от жесточайших запоев, когда от него убегала Коптяева, и мог к нему входить только один шофер, чтобы принести хлеба с колбасой или вытереть пол и столы, загаженные сверх меры.
Говорил Панферов мучительно точно, словно в нем в самом, сидело два Панферовых, каждый из которых успевал быстренько поспорить и обсудить ту фразу, которую один – большой – Панферов должен был сказать. Память – дрянная штука.
Я сейчас вряд ли вспомню то, о чем говорилось. Я помню, как говорилось. Помню я и пьесу, которую Панферов дал Михалкову, пьесу, в которой уже тогда, в 1957 году, была целая картина посвящена беседе секретаря Н-ского обкома с безымянным секретарем ЦК.
Шел там разговор о нефти и – попутно – о людских судьбах. Пьеса была, очевидно, слабая, слабее «прозаического» Панферова.
Хорошо Панферов рассказывал. Не было выпячивания, когда он рассказывал что-то о себе. Он умел о себе говорить с юмором. Я помню, как он рассказывал о себе, мальчишке, в Вольске в 1917 или 1920 году – точно год не помню. Он тогда смешно сказал, что у него были пружинистые волосы – такие они были густые и шевелюрные.
На меня он не смотрел. На С.В. смотрел тоже нечасто. Чаще всего он поглядывал на руки, на свои колени, в окно. Когда я ему оставил рассказы, он взял листы бумаги в руки, профессиональным жестом редактора посмотрел на последнюю страницу и сказал:
– Хорошо, завтра-послезавтра прочитаю.
Больше я с Панферовым не виделся. Рассказы мне вернули, Панферову они в общем понравились, но, как мне рассказывал Андрон, который был потом у него с отцом, Панферов, морща лицо, сказал:
– Талантлив, талантлив, но фокусы, а я не люблю, когда фокусы.
Правда, после этого из «Октября», как только там собирали молодых писателей, ко мне звонили и требовали, чтобы я там был, лично от Федора Ивановича, хотя я тогда еще не печатал ни одной вещи.
А эти свои «Будни и праздники» я, получив от ворот поворот у Панферова, забросил.
Потом, как-то случайно, памятуя старое знакомство с Борисом Сучковым, знакомство трагичное – их арестовали вместе с отцом, одного за другим, сначала Сучкова, потом отца – решил отнести рассказы в «Знамя».
И там Вадим Кожевников сказал мне:
– Такие рассказы я готов печатать через номер – только несите.
Когда Панферов заболел приступом раковой болезни в последний раз, он долго лежал в Кремлевке, и в общем-то все считали, что не выцарапается он. Организм у него был мужицкий, архикрепчайший.
И вот сейчас, вернувшись к нему, я сразу вспомнил историю, которую он рассказывал:
Ехали они с Коптяевой по Волге на пароходе, и в его люксовой каюте обслуживала его женщина – повар из ресторана пароходного.
Она часто приносила сама, а не официантка, и манную кашу, и рисовую молочную кашу для Федора Ивановича. И как-то раз она задержалась в каюте. Панферов начал обедать. Она остановилась у двери и спросила Коптяеву:
– А что у Федора Ивановича болит-то?
Коптяева ответила:
– Да вот видите, как он худеет. Желудок у него болен, желудок...
– И не пьет?
– Да нет, куда уж!
Повариха подперла щеку кулаком, – рассказывает Панферов, – и мечтательно сказала:
– Эх, моему бы супостату такую болезнь! А то ведь спасу нет – жрет водку с утра до ночи.
Три приступа раковой болезни Панферов, наперекор всем предсказаниям врачей, перемог, сломал – и выжил, а последний приступ, самый тяжелый, длился чуть ли не два месяца. Был он без сознания.
В Москве говорили, что вот-вот все кончится.
И вдруг вечером в нескольких домах его друзей – писателей раздался телефонный звонок, и Панферов говорил каждому:
– Заломал я ее, проклятую! И на этот раз выцарапался. Чувствую себя прекрасно. Дня через три выпишусь, пойду в журнал – начну работать снова.
Говоря так, он шумно смеялся, говорил людям какие-то приятные, хорошие слова, а через два часа ночью умер.
Валя Тур был у меня на днях с очень талантливым молодым писателем и сценаристом – Пашей Фином. Фин читал нам свой рассказ, – весь построенный по принципу новой литературы, которая берет свой исток в кинематографии: сначала писатель прокручивает перед глазами сценарий, а потом снимает фильм и уже потом пишет по этому фильму рассказ.
Потом у нас был долгий разговор с Туренком о молодой литературе и молодой поэзии. Он высказал совершенно правильную, точную мысль – о среднем уровне интеллектуальной прозы, то есть средний уровень – это в общем талантливо, это – все на своих местах; это – и раздумья, и точно отмеренная доза нервозности, и телеграфность стиля, и недомолвки, и недоговоренности.








