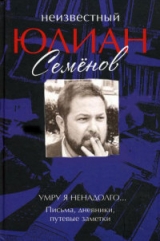
Текст книги "Неизвестный Юлиан Семенов. Умру я ненадолго..."
Автор книги: Ольга Семенова
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 52 (всего у книги 85 страниц)
– А ты по ком страдаешь, убогонький?
– По России, – ответил полковник запаса. – По России, бабка, ети ее мать...
Нас запустили в ворота. Охранник сказал:
– Быстро, быстро, граждане, не задерживайтесь во дворе!
Мы пошли по асфальтовой дорожке вдоль линии колючей проволоки, протянутой по внутренней стороне забора, мимо окон, забранных намордниками, чувствуя на своих спинах глаза охранников, стоявших с автоматами на вышке.
Запускали в тюрьму десятками. Сейчас шли семь старух, русая красавица в открытом сарафане и мы со Швецом.
В приемной камере, – в отличие от столичных Бутырок, – стоял тяжелый запах карболовки и хозяйственного мыла. Прямо напротив маленькой входной двери было окошко, а налево железная дверь, запертая на громадный висячий замок. Старухи, осторожно отталкивая друг друга острыми локтями, сразу же выстроили очередь.
Окошко открылось. В квадратном вырезе, освещенном низко висящей лампой, я увидел две большие руки, лежавшие на списках, нацарапанных чернильным карандашом.
Больше в окошке ничего не было видно: две руки и списки.
Бабка, стоявшая в очереди первой, быстро прошамкала в окошко:
– Передача для Сургучевых, Павла Васильевича, Михаила Васильевича и Федюньки.
– Сургучевы? – тихо переспросили из окна.
– Да, Сургучевы.
– Какая статья?
– Пятьдесят восьмая, десятый пункт и еще какой-то, – быстро ответила бабка. – Разговаривали они, батюшка, по пьяному делу, разговаривали.
Окно захлопнулось. Стало тихо. Только муха гудела вокруг маленькой лампочки, свисавшей с потолка на кривом шнуре. Я обернулся на Швеца. Он был бледен, и сейчас, в полутьме, стали особенно заметны глубокие старческие морщины на его желтоватых висках. Русая красавица достала маленькое зеркальце и, облизнув припухлые губы кончиком острого языка, принялась рассматривать свое лицо, – то хмуря брови, то, наоборот, чуть улыбаясь.
– Пониже поглядите, – сказал я.
Женщина опустила зеркальце, увидала насосанный синяк на шее, озабоченно разглядела его, поджала губы и покачала головой.
– От гад, – вздохнула она грустно, – гадюка проклятая...
Окошко открылось; голос оттуда донесся глухо:
– Сургучевы выбыли на этап.
– Да что ты, батюшка, – оживилась старуха. – Я ж сегодня ночью этап выстояла: не было Сургучевых.
– Повторяю, они выбыли на этап.
– Ой, батюшка, – заговорила старуха быстро-быстро, – я ж лепешечек им напекла, яиц наварила, прямо с-под курочки. Вот узелок, он маленький, батюшка, вы ж примите для них, Федюнька у нас легочный, маленький он у нас, вы уж похлопочите пожалуйста...
– Следующий, – сказал голос из окна.
– Батюшка, – тонко заплакала старуха, – лепешечки-то куды? Куды ж лепешечки на масле? И яички с-под курочки?
– Следующий, – снова ответил голос из окна.
Русая красавица задумчиво сказала:
– Вот сволочь, а? Мать его рожала или сноха?
Швец начал откашливаться, будто в горло ему попала рыбья кость. Но вслух никто ничего не говорил: каждый ждал своей очереди, в глубине души понимая, что получит такой же отказ, однако человек – такой организм, который во всех перипетиях жизни ждет. Бог его знает чего, а – ждет, даже если и сам уверен, что ждать-то, в сущности, уже нечего.
– Батюшка, – дрожащим голосом сказала старуха, – что ж делать мне? Я ж лепешки не сжую, у меня и зубов нет, десны только тесто протягивают, а вкуса во внутрь не дают...
Продолжая говорить что-то быстрое и несуразное, бабка достала из-за пазухи желтую тридцатку и, комкая ее в потной ладони, сунула в окно.
Тридцатка вылетела оттуда на пол, и в окне появилось лицо молоденького паренька в форме младшего лейтенанта:
– Да что вы, мамаша?! – жалобно крикнул он. – С ума свернули?! Заберите свои деньги и станьте в сторонку, пока другие не пройдут.
Бабка, жалобно причитая, спрятала тридцатку, отошла к окну и там стала мотать головой, словно лошадь, замученная оводами. Плакала она беззвучно, не утирая слез, только часто-часто хлюпала покрасневшим носом.
– Следующий! – сказал младший лейтенант.
Полковник Швец, стоявший под оконцем, выкрикнул с пола:
– Константин Иванович Швец, тридцать третьего года рождения, осужден ОСО на десять лет!
Младший лейтенант рассерженно сказал:
– Что за шутки? Заявитель, покажитесь!
– Не могу!
– Не можете, так покиньте помещение!
– Мальчишка! – крикнул Швец и, резко откинув потную голову, зажмурился.
– Что?!
– То самое. Молокосос!
Младший лейтенант пристукнул кулаками по спискам и стремительно высунулся из окошка. Он увидел меня и решил, по-видимому, что это я с ним так говорил.
– Вниз посмотри! – исступленно прокричал полковник. – На меня смотри! Младший лейтенант недоуменно посмотрел вниз, увидел Швеца на платформе с подшипниками, в лице его что-то на мгновение дрогнуло, а потом замерло, будто захолодело.
В камере было тихо, а муха вокруг лампочки жужжала громко, словно трансформатор.
Младший лейтенант спрятался в свое оконце и сказал:
– Следующий!
– Швец, Константин Иванович, тридцать третьего года рождения, осужден ОСО на десять лет!
– Выбыл на этап.
– Когда?
– Вчера.
– Куда?
– По месту отбытия наказания.
Швец попросил:
– А ну, подними меня.
Я уцепил его под мышки и поднял к окну. Выставив колено, я опустил на него платформочку, Швец уцепился своими громадными, как у всех безногих, ручищами за деревянное оконце и сказал:
– Ну-ка, лейтенант, посмотри мне в глаза.
– А в чем дело? – тихо осведомился младший лейтенант. – Дела нет никакого. Просто посмотри мне в глаза. Вот так. Только не мигай, сынок. Тебе не совестно, а? Как же тебе не совестно, сынок?!
– И Швец шепнул мне: – Опускай!
Я опустил его на пол. Швец отъехал к старухе, которая по-прежнему плакала возле окна, и начал громко сморкаться в большой полотняный платок.
– Следующий, – тихо позвали из окна.
Подошел я и, передохнув, сказал:
– Тут у вас в лазарете мой отец.
– Фамилия?
Я назвал.
Младший лейтенант посмотрел на меня огромными глазами святого. Он долго смотрел на меня, – почти столько же, как Швец – на него.
– Вам нельзя с ним видеться. И передачи тоже нельзя, – сказал он наконец. – Только по прибытии к месту наказания...
Он по-прежнему смотрел на меня своими огромными глазами, в которых было отчаяние.
– А записку? – спросил я. – Просто, чтоб он знал.
Младший лейтенант молча покачал головой. Швец из угла выкрикнул:
– Какого черта ты унижаешься перед этим мракобесом?!
После долгой паузы младший лейтенант ответил:
– Я не мракобес... Я службу несу.
Он сказал это тихо-тихо, почти беззвучно.
Я достал листок, написал карандашом: «Я здесь» – и протянул младшему лейтенанту.
Тот проглядел записку со всех сторон, а потом закрыл оконце. Я услыхал шаги по кафельному полу. Где-то лязгнула железная дверь, и стало по-особому тихо. Все эти десять минут, что мы провели в приемной камере, было то очень громко, то ужасно тихо: до звона в ушах. Только кто начинал говорить, – все ухало, сотрясалось вокруг, а как ждали ответа из окошка, – становилось мучительно, предсмертно тихо, даже уши закладывало.
Я ждал ответа, опершись спиной о холодную стену. Вдруг молчащую громадину тюрьмы разрезал высокий, кричащий плач. Никто еще ничего толком не понял, а меня прижало к подоконнику. Я почувствовал себя крохотным, руки у меня заледенели и к горлу подступила тошнота.
– Ишь, балует, словно ребеночек воет, – сказала русая красавица.
Я бросился к двери, через которую нас сюда впустили, отбросил щеколду и закричал:
– Старик, я тут!
Плач прервался, и я услышал страшный, совсем незнакомый мне, но такой родной отцовский голос:
– Пустите, не затыкайте рот! Сын пришел! Пустите же!
– Папа!
Отец глухо завыл.
Я бросился в тюремный двор.
– Назад! – крикнул с вышки охранник.
Я почувствовал, как кто-то мягко схватил меня сзади за шею и больно, тисками, за ноги. Я вырывался и орал что-то, а отец выл в камере.
– Да что ты?! Да погоди! – слышал я снизу сопение Швеца, который держал меня за ноги.
– Миленький, миленький, успокойся, – шептала русая красавица, повиснув у меня на шее. – Ну, золотенький мой, ну маленький, успокойся, – твердила она и вся вздрагивала, словно от ударов.
– Па-па! – кричал я что было сил, потому что меня уже почти затащили в камеру Швец, женщина и две старухи с сильными и длинными руками. И в это время тюрьма загрохотала, завопила, заулюлюкала.
Слышно было, как в камерах стучали чем-то деревянным по стенам, топали ногами и вопили визгливыми, длинными голосами:
– Дайте свиданку! Дайте им свиданку, псы! Старика пустите, пустите его, свиданку дайте!
Я увидел, как на сторожевую вышку выскочили еще три охранника, щелкнули затворы автоматов, услышал быстрые команды, на Волге начали басить баржи, заглушавшие вопль тюрьмы, – и меня затолкнули в камеру.
Швец упал возле двери, тяжело дыша; в легких у него тонко свистело, и видно было, как возле кадыка пульсировала артерия.
– Там и мой кричал, – шепнул он. – Константин. Я его голос узнал.
Прибежал младший лейтенант, распахнул свое оконце и крикнул мне:
– Ну?! Вот твоя записочка! Он сознание потерял, а мне отвечай?! Все вы только об себе думаете, совести в вас ни на грош!
– Это он прав, – тихо согласился полковник Швец. – Совести в нас ни на грош. Скоты и есть скоты, только тешимся.
– Разговорчики! Кто получил справку – очистить помещение! – приказал младший лейтенант.
В комнату к нему кто-то зашел, потому что младший лейтенант вскочил со своего места и вытянулся.
В оконце показалась седая голова капитана со шрамом через весь лоб.
– Поди сюда, – сказал он мне.
Я подошел.
– Иди завтра к подполковнику Малову в областное управление. Я ничем помочь не могу, у твоего батьки запрещение на свиданку.
– Как он сейчас?
– А ты что, не слыхал? – вздохнул седой капитан.
– Швец Константин, тридцать третьего года рождения, осужден особым совещанием, – начал выкрикивать с пола безногий полковник.
– Знаю, знаю вашего Константина, – ответил капитан, – он в карцере за нарушение режима.
– Что он сделал? – спросил Швец.
– Да так, – ответил капитан и посмотрел в глаза Швецу, – ничего особенного, только строптив, не сломался б...
Швец просиял лицом и полез за сигаретами в нагрудный карман.
– Ничего, – сказал он, – не сломается.
И как-то странно подмигнул капитану, а тот так же странно ответил ему: ничего в его лице не дрогнуло, а все равно ответил, и не просто так, а по-человечески, с болью.
– Продолжайте работу, товарищ Сургучев, – сказал капитан младшему лейтенанту и вышел.
Старуха с лепешками, мать троих Сургучевых, услышав фамилию младшего лейтенанта, стала медленно приближаться к окну.
Она утерла ладонью слезы с коричневых, морщинистых щек и спросила:
– А ты не Гришки ли сын, Сургучев? Ты не Гришки ли сын, а? С Колодиш?
Младший лейтенант внимательно и с ужасом посмотрел на старуху.
– Кто следующий, граждане? – сказал он скороговоркой – Вопросы прошу задавать по существу
– Гришкин, – уверенно сказала бабка. – И нос, как его, – с горбой, и чуб с крутью Господи, господи, брат на брата, и отец на сына, толь небо пока не раскололось, когда ж? Когда, господи?!
И, словно слепая, бабка пошла из камеры вон. Следом за ней поехал на жужжалках Швец, а за ним я. В тюрьме было тихо, потому что разносили ужин.
К НАЧАЛУ КНИГИ
ЧАСТЬ 2. Повести и Пьесы
ПОВЕСТИ
КОММЕНТАРИЙ К СКОРЦЕНИ
ТРИ ПЕРЕВОДА ИЗ ОМАРА КАБЕСАСА С КОММЕНТАРИЯМИ
БАРОН
РАЗОБЛАЧЕНИЕ (повесть в манере ТВ)
ПЕРЕСЕЧЕНИЯ Маленькая повесть
ПЬЕСЫ
ДВА ЛИЦА ПЬЕРА ОГЮСТА ДЕ БОМАРШЕ (Комедия)
ДЕТИ ОТЦОВ (Драма в трех действиях)
ПРОЦЕСС-38
КОММЕНТАРИЙ К СКОРЦЕНИ
...Несколько лет назад радио «Свобода» передала комментарии Анатолия Гладилина, в котором он, – в очередной раз, – обрушился на меня: мол, Юлиан Семенов встречался в Мадриде с освободителем Муссолини штандартенфюрером СС Отто Скорцени по заданию КГБ; «два аса разведок обменивались информацией, мне это известно доподлинно», – и все в таком роде.
Можно не любить человека, бороться против него – это по правилам, я приемлю это; не принимал и не приму стиль «коммунальной кухни» – темную злобу, бездоказательность, стукаческую подметность.
И никакие не инструкторы ЦРУ писали эти и подобные комментарии бедному Гладилину, – просто-напросто он уехал от нас таким: несчастное дитя доносительства и желания утвердить себя, танцуя на безответном противнике; разве мало подобного рода полемической «стилистики» в том же «Нашем современнике» и по сей день?
Я не стал унижать себя объяснением с Гладилиным, но сейчас решил написать эту главу из «ненаписанных романов» потому, что слишком часто получаю записки на читательских встречах с просьбой рассказать о ночной беседе с председателем «Антибольшевистского блока народов» Скорцени, – с одной стороны, и с другой, оттого, что обязан рассказать о трагической судьбе моего покойного испанского друга Хуана Гарригеса-Волкера, которому я обязан встречей с любимцем фюрера.
Нет нужды объяснять, как мне было интересно встретиться со Скорцени, который ни разу не принял ни одного журналиста, – даже из самых правых изданий: свидетель гитлеризма, патриот идеи.
Тем более, дело происходило в Испании, во времена франкизма, традиционно дружеского к Гитлеру, – впрочем, франкизм той поры (1974 г.) уже был припудрен туризмом, правом на выезд из страны и возможностью аккуратно критиковать определенные недостатки Системы, не поднимаясь, понятно, выше уровня заместителей министров; если речь шла о члене кабинета, дело решалось не в цензуре даже, а в идеологическом отделе «Министерства Партии», так стало называться ЦК Фаланги.
(Горько: в кабинетике редактора по отделу литературы Мэри Озеровой, в старой катаевской «Юности» на улице Боровского, на стене был барельеф, – наподобие казненных декабристов, – «создатели» прозы журнала: первый – Гладилин, он раньше всех нас опубликовал свою «Хронику времен», затем Толя Кузнецов, погибший в Лондоне, его «Продолжение легенды» было настоящей прозой; следом шел Вася Аксенов – «Коллеги», потом я – «При исполнении служебных обязанностей» – с тех пор не переиздавалась ни разу – Булат Окуджава и Борис Балтер... Иных уж нет, а те далече: Булат и я – в Москве, Аксенов в Вашингтоне, Гладилин в Париже; Кузнецова и Балтера нет в живых.)
...Именно Хуан Гарригес познакомил меня с Сиснейросом, – молодым человеком, в прошлом рабочим, – «ответственным секретарем ЦК Фаланги», подчеркнуто скромным, молчаливым, с огромными, вдумчивыми глазами; слушая, он, казалось, вбирал в себя каждое слово, как бы обсматривая его перед тем, как заложить, – раз и навсегда, – в потаенные сейфы памяти.
Встречались мы пару раз в «Клубе финансистов», принадлежавшем клану Гарригесов. (Отец, Дон Антонио, был послом Франко в CШA, потом его перевели в Ватикан, а затем уволили в отставку – слишком либерален; был женат на американке, миссис Волкер, заражен духом линкольновского вольнодумства; старший сын женат на дочери графа де Мотрико, – тоже стоял в оппозиции к Франко; средний – связан с бизнесом CШA, представляет интересы ИТТ и ряда других концернов.)
Несмотря на то что Сиснейрос знал, кому принадлежит «Клуб финансистов», – чужих сюда не пускают, – тем не менее разговаривать остерегался, видимо, имел информацию о том, что столики здесь каким-то образом, – несмотря на «собственную» охрану, – прослушиваются людьми из Пуэрта Дель Соль, небольшого средневекового здания в центре Мадрида, где помещалась тайная полиция Франко.
Лишь однажды Сиснейрос приоткрылся: когда мы вышли из клуба, он коротко бросил:
– Сейчас наша задача состоит в том, чтобы привнести социализм в ряды фалангистов. Да, очень рискованно, однако в этом я вижу единственный выход, в противном случае нас ждет новая гражданская война...
(Сейчас я все более и более задумываюсь над словами тех, которые во время дискуссии о нашем трагическом прошлом утверждали, что, несмотря на ужас сталинского террора, в нашей стране тем не менее построили социализм.)
Ой ли? Если Сталин уничтожил коммунистов в шесть раз больше, чем Гитлер, Муссолини, Франко, Пиночет, Салазар, Чан-кайши и Стресснер, вместе взятые, то о каком социализме может идти речь? Социализм без коммунистов-ленинцев? Социализм, который определяли горлопаны, пришедшие на смену убитым партийцам? Рабочим, интеллектуалам, справным мужикам?
Мы же не посмеем повторять следом за Пиночетом, что, несмотря на путч, учиненный бывшим начальником генерального штаба Сальвадором Альенде, несмотря на казни коммунистов, социалистов и «миристов», в Чили продолжало существовать «Народное Единство»?!
Почему же мы ничтоже сумняшеся выписываем себе индульгенцию на праведность: «Да, Сталин перестрелял всех ленинцев, надругался над ленинским кооперативным планом и нэпом, превратил крестьян в крепостных, замучил лучших ученых, погубил всех героев Гражданской войны, построил концлагерей в сорок раз больше, чем Гитлер, превратил народ в безмолвное и безликое сообщество следящих друг за другом особей, но при этом мы построили социализм!»
1937 год и «социализм» – явления друг друга взаимоисключающие. Пока мы не скажем это открыто и честно, идти дальше будет трудно.
Заслуга Горбачева в том и состоит, что он работал в условиях подполья, ибо если мы будем и брежневское безвременье определять «социализмом», то снова останемся мелкими лгунами, – людьми, не способными на реальную борьбу за обновление.
Беда в том, что мы до сих пор не отменили антисоциалистических (по сути и форме) сталинских и брежневских законов, постановлений, уложений, разъяснений, которые были привнесены еще в тридцатых годах, и оказались угодными тем, кого Сталин привел с собой к властвованию, а привел он людей с рабской психологией.
Квасные патриоты, которые никак не хотят связывать трагедию сталинизма с отсутствием в дореволюционной России демократических традиций, оказывают медвежью услугу, призывая народ искать корень зла вовне, а не внутри.
Если мы снова начнем кричать, что «Россия – родина слонов», слоны у нас все равно не появятся, климат не тот, а вот тень на плетень наведем. Стоит ли? Если не на словах, а на деле думать о будущем (не своем, мы – проигранное поколение, мы в свое время дали раздавить себя катком), о тех, кто идет следом, кому сейчас двадцать, надо говорить Правду.
Если мы привычно начнем винить прибалтов в «национализме», исключив из поля видения такие проблемы, как попытку насильственного превращения Таллинна в русский город, как московские приказы, вынудившие цветущие республики решать «продовольственную проблему», которой у них не было, мы национальный вопрос не решим: опыты Сталина с насильственным выселением целых народов являются плохой копией с гитлеровского «окончательного решения еврейского вопроса» или «уничтожения сорока процентов славянских недочеловеков»; мир теперь стал слишком маленьким; цивилизованное человечество, наученное опытами Гитлера и Сталина, не позволит повторения государственного зверства, хватит, люди уж стояли на грани тотального уничтожения от рук маньяков и послушных им орд...
...Я не смею снимать с себя вину за то, какой ужас творился в стране в конце сороковых, начале пятидесятых. Я тогда учился в Институте востоковедения и вплоть до ареста отца работал лектором МГК ВЛКСМ. Помню, как однажды меня отправили выступать в рабочие общежития Орехова-Зуева. Тема моей лекции была в ту пору типическая: о том, как капиталисты Запада угнетают трудящихся.
Материалы об этом были обширные, классифицированы и подобраны вполне искусно, оперировать ими было одно удовольствие. Поскольку на Западе никто из нас не был, на лекциях мы заливались соловьями.
Там, в Орехове, после того как я кончил просвещать стариков и детишек, поклонился аплодисментам и предложил задавать вопросы, поднялся беззубый старик в ватнике и, комкая шапку в огромных с синими жилами на измученных работой руках, прокричал:
– Спасибо товарищу Сталину за нашу свободную и счастливую жизнь! Ни в одной стране мира рабочий человек не живет так хоро шо, как на Родине победившего социализма!
Старики и дети снова зааплодировали; вопросов не задали, стали быстро расходиться...
Я попросил деда показать его квартиру.
Он с радостью согласился, повел меня по тюремному коридору общежития, остановился возле покосившейся двери, отпер ее (замков было три), пропустил первым:
– Заходи, товарищ лектор, гостем будешь...
Комната была узенькая, как пенал, одна стена – фанерная, оконце под потолком, маленький кухонный стол, покрытый клеенкой, четыре табуретки, две раскладушки у стены, койка с металлическим шарами, возле двери – керосинка и умывальник. Холодильников тогда не было – роскошь, телевизоров тоже. Над койкой висел портрет Вождя, вырезанный из журнала.
– Вы тут давно живете? – спросил я.
– Так ведь уж давно, – живо откликнулся дедок. – С тридцать второго... Раньше-то в деревне жил, – ни водопровода тебе, ни электричества с радиом, – он кивнул на картонную лепешку репродуктора (приемники тогда тоже были в редкость, все больше трофейные, но слушать их боялись, тех, кто нарывался на «Голоса», сажали по статье 58—10 – до десяти лет лагерей, «антисоветская пропаганда»), – ни, обратно, бакалейной лавки, – бабка сама хлебы пекла, спину гнула от зари до зари, а теперь счастье настало, никаких забот рабочему человеку, только трудись на благо Родины!
– А сколько получаете?
– И-и-и, милый, хватает! Семьсот двадцать чистыми, – хоть и на заем отдаю две зарплаты со всей моей добровольной радостью!
(Бутылка водки с «черной головкой» стоила тогда девятнадцать сорок, туфли – двести тридцать, пальто – тысячу пятьсот, «шифоньеров» в продаже не было, хотя машину «ЗИM» выбросили в продажу – всего, кстати, за сорок тысяч, следовательно, дедок мог набрать на авто за пятьдесят месяцев, четыре года, но при условии, что ни пить, ни есть не будет и обувку новую не приобретет... Знал товарищ Сталин, чем ублажить усталость рабочего человека: чекушку можно было хоть каждый день принять, а как ее засосешь – так небо в алмазах показывают...)
От деда я вышел с ощущением потаенного ужаса: шесть человек в семиметровой комнатенке, одна уборная на этаж (не менее как на двести человек), строили барак еще при царе, а при Сталине квадратные комнаты перегородили в узкие пеналы, и при этом старик искренне говорил о счастье...
Когда тебя, студента второго курса, принимают за твои лекции в члены-соревнователи общества «Знание», платят за час молотьбы языком пятьдесят рублей (по-нонешнему пять, а тогда – две бутылки с закуской), недопустимо-крамольная мысль про то, как ужасно живут трудящиеся в «стране победившего счастья» уступает место иной, отъединяющей тебя от людей, ставящей в положение верховенства, приобщенности к элите, – притча о тридцати сребрениках никогда не умрет из-за людского несовершенства, рожденного честолюбивой корыстью.
Нас тогда, видимо, не столько обманывали, сколько покупали – умело и расчетливо. Такова правда, и надобно ее сказать себе открыто и честно, хоть и мучительно это.
Куда как легче защищать себя, оправдывая во всем Сталина; нет, увы, – все мы одним миром мазаны.
...Словом, испанская эпопея, – я попал в Мадрид сразу после джунглей военного Вьетнама, в семидесятом, попал благодаря друзьям незабвенного Романа Кармена, – была попросту необходима мне, ибо я обязан был, не мог, не имел права не увидеть живой функционирующий фашизм испанского генералиссимуса, «лучшего друга детей каудильо Франко», давшего приют нацистскому преступнику Отто Скорцени...
Начал я к нему подкрадываться во время моей первой поездки в Мадрид: покойный ныне режиссер Антонио Альварес, ученик Кар-мена, свел меня с генерал-полковником Молина, последним военным атташе Франко в Берлине, при ставке фюрера.
Встречу генерал-полковник назначил в самом фешенебельном отеле; Антонио посмеялся – там чашка кофе дороже бутылки вина в лавке; приехали мы загодя, чтобы осмотреться.
Генерал опоздал всего на три минуты (вообще-то испанцы тогда умели опаздывать, как и мы – на полчаса, а то и больше, только-только втягивались в европейский бизнес, который прощает все, кроме опозданий, время – деньги); маленький, скромно одетый, с розеткой высшего франкистского ордена в лацкане пиджака, он выслушал мою просьбу и сразу же ответил:
– Скорцени – мой старый и добрый товарищ. Я не вижу ника ких трудностей, встречу гарантирую. Но – давайте начистоту: чем вы сможете отплатить мне за эту услугу?
Я не понял его.
– Все очень просто, – пояснил генерал-полковник, – пенсия у меня достаточно маленькая, нужны деньги, в Испании сейчас дефи цит на асбест, помогите мне заключить контракт с вашими фирмами, производящими эту штуковину, сделка вполне взаимовыгодна.
В Испании тогда не было нашего торгпредства, сидел представитель Черноморского пароходства Виктор Дырченко и его заместитель Сергей Богомолов, ставший, ясное дело, нашим первым послом, – после смерти Франко.
Тем не менее отвечать старику отказом было неразумно, я сказал, что попробую разузнать, что могу сделать, и начал расспрашивать о том, как он провел свои последние дни в Берлине.
Антоша заказал кофе, генерал оживился, забросил ножку на ножку (они у него были масенькие, как у ребеночка) и начал:
– Самое сильное впечатление у меня осталось от завтрака у гене рала Андрея Власова в Вюнсдорфе, под Берлином... Это была сере дина апреля сорок пятого... По-моему, именно в этот день маршал Жуков прорвал оборону и покатил к столице рейха...
Знаете, что меня покорило во Власове? Абсолютная четкость формулировок! Настоящий кадровый военный: «Война проиграна из-за идиотизма немцев, которые не дали моим частям оружия! Только мы имели возможность остановить Сталина! Я – его ученик, я умею читать его ходы, война – это увеличенные до гигантских размеров шахматы... А Гитлер думал, как слепой фанатик: “славянам нельзя верить”»...
Тут один из офицеров вермахта, знавший русский, сделал генералу резкое замечание; Власов напрягся, потом откинул голову, – обликом был похож на сельского учителя, – и рубяще произнес: «Вон из-за стола! Чтоб духу вашего здесь не было!» И понудил немецких офицеров уйти! Да, да, прогнал!
Я спросил, что подавали к завтраку.
– Еда была очень русская, – ответил генерал-полковник. – Блины, на которые надо было класть топленое масло с рублеными яйцами и чуть подваренным луком, водка, конечно, хотя Власов пил мало... Вообще в доме был истинно русский запах, врезалось в память...
– Что значит «истинно русский запах»? – поинтересовался я.
– На это трудно ответить. – Подняв на меня уставшие, чуть слезящиеся, но совершенно непроницаемые глаза, генерал сделал крошечный глоток кофе. – Какая-то теплота, полнейшее спокойствие и странное ощущение, что пронесет, – оно, это ощущение, было сокрыто именно в запахе, определявшем суть дома Власова... Я не умею объяснить это иначе...
Язык генерала, как объяснил мне потом Антоша Альварес, был изысканно кастильским.
– Как выглядел дом Власова, генерал?
– Два льва у парадного подъезда, – ответил Молина. – морды на сложенных лапах, гривасты, но вполне миролюбивы...
(Я нашел этот дом в Вюнсдорфе. Принюхивался; запахи были немецкими: торфяные брикеты и уют старой деревянной лестницы.)
...Я уже писал однажды, что рассказывал мне о Власове его старый знакомец Роман Кармен. Однако, видимо, стоит повторить. О нем, об «Андрее», о генерал-лейтенанте Власове, серебряноголовый, голубоглазый, предельно элегантный Кармен рассказывал мне несколько раз, – особенно во время его сражения против начальника политуправления Советской Армии Епишева, равно удобного для Л.П. Берия (он был его заместителем) и А.А. Гречко, которому солдаты, превращенные в средневековых рабов, воздвигали охотничьи дворцы, таская мраморные плиты на спинах, – по горным тропам.
На Епишеве лежит прямая ответственность за преждевременный уход Кармена: «Он смеет говорить, что я делаю мою “Неизвестную войну” в угоду американским империалистам, – чуть не плакал Кармен, – этот слюнявый безграмотный боров!»
(Лучше Лермонтова не отчеканишь, – проецируя право начальников всех рангов, во все времена российской истории выносить безграмотные приговоры искусству, – «но есть, есть Божий суд, наперсники разврата...»)
Так вот, Кармен познакомился с Власовым до войны; если мне не изменяет память, либо в Китае, где «Андрей» был военным советником, отправленным с мандатом, подписанным вождем, либо сразу после трагедии в Испании.
И Кармен был последним из наших, кто видел Власова перед его пленением под Волховом.
Я знал подробности этой последней встречи от двух членов ВКП(б) – фронтового кинооператора и генерала, главкома Ударной Армии, одного из любимцев «гениального стратега и полководца».
Именно поэтому я и задал генералу Молина вопрос:
– Скажите, Власов был принципиальным человеком?
– Бесспорно... Это был убежденный борец против сталинского деспотизма, рыцарь идеи – нравится она вам или нет...
(А вот рассказ Кармена: «Я ночевал у него в землянке; перекусили при свете керосинового фонаря чем бог послал, выпили бутылку водки; как рефрен, Власов повторял все время: «Римуля, не паникуй, пока с нами товарищ Сталин, ничего не страшно, свернем шею Гитлеру, только верь Иосифу Виссарионовичу, как отцу верь, в нем – спасение России, в нем – надежда и счастье наше...)
А спустя несколько месяцев он возглавил русское фашистское движение...
...Лиля Юрьевна Брик вспоминала во время прогулок по никологорской дороге, что за полгода перед арестом группы высших советских военачальников во главе с Тухачевским, к ее мужу, командиру «Червонного казачества» Виталию Марковичу Примакову, передислоцированному тогда на ЛенВО, чуть не каждый день приходили ближайшие помощники, приезжали люди от Уборевича и Блюхера.
– Допускаете мысль, что они готовили смещение Сталина?
– А почему не допустить?
Такую же мысль высказывал и Орлов, резидент НКВД в Испании, старый дзержинец, ставший, как и герой Октября Раскольников, невозвращенцем; не выдал ни одного из своих товарищей по борьбе, а ему было кого выдать, – значит, ушел по идейным соображениям, не мог более позволить себе служить слепым орудием в руках злейшего антикоммуниста Сталина.
И Раскольников, посол СССР, никого не предал, а знал, – как посол, – многое. Он просто обвинил Сталина в фашистском термидоре, – поступил как высокоидейный человек, а не изменник.
Увы, заговора против Сталина наши военные, – во главе с маршалом Тухачевским, – не готовили.
Фельдмаршалы Роммель и Вицлебен, – когда поняли, что Гитлер ведет страну в пропасть, – приняли участие в подготовке переворота, и пора нам наконец пересмотреть свое отношение к «заговору 20 июля», это был не заговор, а движение тех, кто прозрел, а прозрев, нашел в себе мужество действовать.








