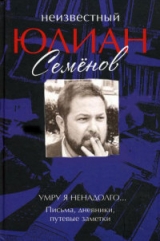
Текст книги "Неизвестный Юлиан Семенов. Умру я ненадолго..."
Автор книги: Ольга Семенова
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 85 страниц)
Но постольку-поскольку это уже стало средним уровнем, постольку-поскольку за последние пять-шесть лет молодое поколение, поколение тех людей, которые близки к творчеству, могло впитать очень многое и через кинематографию новую и через литературу и старую и новую, но ранее неизвестную в нашей стране, то есть напитались они много, восприимчивости у них много, как вообще институт восприимчивости в наши годы, когда все висит где-то на волоске,– но, восприняв, напитавшись новым, вся эта плеяда молодых людей искусства взошла на новую ступеньку, но взошла вся, в массе своей, и получилась талантливая, но средненькая одинаковость, а если одинаковость, то уже – не талантливая.
В этом я с Туренком согласен. Нельзя быть пророком в наши дни вообще, а в сфере искусств особенно.
Вчера я возвращался по глубокому снегу, с трудом продираясь сквозь чащу, из 17-го квадрата охотхозяйства к шоссе. И мы шли, растянувшись цепочкой, один за другим, и ноги у нас были мокрые. А лес был гениален, лес был могуч, молчалив, сине-бел, и на сине-белом снегу были большие следы лосей, маленькие треугольнички заячьих следов, ямки, куда зарывались тетерева.
А над всем этим было солнце, разрезанное черным облаком. И от солнца в землю упирался желто-розовый столб.
И мой товарищ —подполковник Саша Беляев, обернувшись на всю эту извечную и первозданную красоту, замер и долго стоял, не двигаясь. А потом, подмигнув мне осторожно левым глазом, сказал:
– Старина, а ведь это против абстракционистов…
4 апреля 1963 года
Много снега, как в январе. Прилетели воробьи, елозят по снегу – жрать им нечего. Бедняжки – сбились в кучу, как люди – носятся с дерева на дерево или тонут в снегу. Ужас, как больно смотреть на это.
Что-то грядет – погода уж больно затянулась холодная. Все недовольны, все ждут тепла, лета...
…Когда Горький в 1928 году приехал на Соловки, его зэки спрашивали:
– А.М. на сколько? На 8 или на 10?
Был с Юрием Нагибиным в Переславле. Ловили плотву. Очень там хотелось мне написать о том, как по Плещееву озеру несло лед, как его ломало и он звенел – особенным, весенним звоном, как неслись по реке льдины и терли лодку, как мы протаскивали лодку через лед, а рядом с нами было два старика, которые все время ругались.
Старики ругали мальчика – толстого, рыженького за то, что он ловил не по правилам, но удачливее их в 1000 раз.
Этот рассказ напишу и посвящу Нагибину. Я его спросил, и он ответил, что очень мне благодарен.
9 апреля 1963 года
Дней двадцать тому назад я вез из Тарусы переводчицу Голышеву и ее мужа Оттена. Говорили о том, кто что делает, и я рассказал смысл своего будущего романа о 1922 годе.
Оттен спросил меня, знаю ли я что-либо о Вячеславе Иванове: а может быть, он сказал – Всеволод, я сейчас точно не помню. Я решил, что он спрашивает меня о нашем старике Иванове из Союза.
– Нет, – сказал Оттен, – я имею в виду Иванова, который пи сал за границей детективные романы, в которых описывались чеки стские лазутчики за границей и борьба с ними.
Этот самый Иванов эмигрировал из России в 1922 г. – из Владивостока в Харбин и Шанхай. Там он организовал антисоветское общество журналистов и писателей, которые, захлебываясь от злости, штамповали густопсовую злобствующую антисоветчину.
Иванов был, как говорится, идейным вождем этого издания, имя его было широко известно среди эмигрантов не только на Востоке, но и на Западе.
В 1945 г. он, так же как и атаман Семенов, остался в Харбине, но только, когда вошли части Красной армии, атамана Семенова тут же расстреляли, а Иванова посадили на самолет, привезли в Москву, наградили орденом Ленина и назначили заместителем главного редактора газеты, кажется, – говорил Оттен, – «Тихоокеанская звезда».
Он и по сей день работает на Дальнем Востоке, и, конечно, мне к нему надо будет обязательно съездить перед тем, как вплотную садиться за роман.
Оттен и Голышева – люди очень милые, своеобразные, остромыслящие. Не помню, кто рассказывал мне историю. Вымысел это или правда, можно будет установить только в музее Ленина. История эта такова.
В 1918 году в газете «Северная коммуна» были напечатаны четыре литературных портрета о вождях Октябрьской революции – Ленине, Троцком, Каменеве и Зиновьеве. Кажется, в ту же годовщину город Гатчина был переименован в город Троцк.
И вот статья о Троцком начиналась так: «Когда мы говорим – Октябрь, мы думаем – Троцкий. Когда мы говорим – Троцкий, мы подразумеваем – Октябрь».
Можно было подумать, что это начало написано кем-нибудь из околотроцкистской своры. Однако, как рассказывали мне, статья эта принадлежала перу Сталина. Говорят, что во времена культа за хранение этой газеты следовал не просто арест.
Мне хочется записать несколько строчек о человеке, которого я очень искренне люблю, по-настоящему уважаю, – о Борисе Полевом.
Первый раз с Борисом Николаевичем я увиделся в 1956 г. в «Огоньке», в международном отделе, в день, когда оформлял последние документы перед вылетом в Афганистан.
Я тогда невообразимо торопился, нервничал и, по-видимому, светился радостью по поводу предстоящей загранкомандировки – первой в жизни. Полевой сидел в уголке на стуле, нога за ногу, как всегда, улыбчиво поглядывал на людей и совсем уж улыбчиво, причем смешанно: доброта с иронической ухмылочкой.
И когда тогдашний зам. редактора международного отдела Лев Николаевич Чернявский спросил: «Ну а сколько же мне писать – сколько ты зарабатываешь? Ты же ничего не зарабатываешь постоянно», я засмущался и не знал, что ответить.
Полевой сказал: «Ну да, господи! Напишите, что получает 2400». Мне захотелось подпрыгнуть и щелкнуть в воздухе пятками от счастья, но я этого не сделал, а сказал Чернявскому: «По-моему, это – прекрасная сумма».
Потом я встретился с Полевым на аэродроме – куда-то улетали он и я. Я с ним поздоровался, он быстро кивнул, побежал дальше.
Но что самое любопытное – сейчас я вспоминаю первое знакомство, а первое знакомство состоялось в 1947 или 1948 году в библиотеке имени Сталина на читательской конференции, посвященной «Повести о настоящем человеке». На эту конференцию приехал Борис Николаевич.
Причем я помню: отец дал машину – маленький вишневый БМВ, и мы поехали за Полевым в «Правду». И я – молодой барчук – сидя в машине рядом с шофером, хвастал Полевому о том, как я жил в Германии в 1945 г. Он тогда, как я сейчас припоминаю, очень весело, с каким-то забавным недоумением, смотрел на меня, кивал головой и улыбался. Вот ведь любопытно – всегда этот человек ассоциируется у меня с улыбкой. А потом, в зале, я взял слово и стал выступать, причем выступал, как я сейчас вспоминаю, неприлично, скучно и ему знакомо.
Правда, наши матроны ахали и восхищались мною, но я-то почти слово в слово повторял критическую статью о Полевом, которая была напечатана то ли в «Знамени», то ли в «Новом мире», то ли еще в каком-то толстом журнале. Наивная, святая простота!
Я тогда не предполагал (я тогда мечтал быть или внешнеторговым купцом или киноактером), что буду сам грешить литературой, а когда грешат литературой – особенно вначале еще – очень внимательно приглядываются к прессе. Значит, Полевой чувствовал, что выступает не читатель, а выступает тот самый выступа-тель, которого как жеребца готовят перед пробежкой, – учитель литературы, комкающий в уголке платочек от нервного возбуждения, и библиотекарша с холодными от волнения руками.
Помню, я тогда сказал Полевому: «Вот, Борис Николаевич, у Вас в “Повести” серьезная ошибка. Там написано, что Мересьев полз по зимнему лесу и слушал, как куковала кукушка, а на самом деле кукушка зимой не кукует».
Это я, конечно, вычитал в критической статье. Мои слушатели захлопали, а Полевой все с той же доброй, спокойной улыбкой смотрел на меня и кивал головой...
Потом – его прекрасное выступление в печати против лактионовского замазывания в живописи, против ларионовской картины, когда в новую комнату вселяется советская семья и первой входит девочка, неся в руках портрет Сталина. Он очень честно выступал в это время, без визга и крика, а по-настоящему партийно, продуманно.
И когда я перед началом ХХII съезда принес в «Юность» свою повесть «...При исполнении служебных обязанностей», а ее только перед этим отвергли в «Знамени» (Софья Дмитриевна Разумовская – обаятельная женщина по прозвищу «Тотоша», она жена Даниила Данина – говорила мне, что «в Вашей повести меня больше всего отвратила Женя, которая то и дело шампунем моет волосы как баронесса Делямур». Почему она только это увидела в повести или, вернее, не увидела, а захотела увидеть – я понять так и не могу) – и не только в «Знамени»; на эту повесть расторгли договор в студии «Мосфильм» как раз перед открытием XXII съезда, потому что в Москве носились обывательские разговорчики о том, что съезд будет «объединительным» и что в ЦК снова войдут Молотов, Каганович и Маленков.
И вот в «Юности» повесть всем очень понравилась, пошла от Мери Озеровой к Сергею Преображенскому. Преображенский высказался «за», Розов – «за», Прилежаев – «за», Носов почему-то «против».
Словом, повесть загнали в набор. Номинально редактором тогда числился Катаев, хотя он уже – после эпизода со «Звездным билетом» – в редакции не появлялся. Дискутировались кандидатуры нового редактора.
Дискутировались кандидатуры Михалкова, как это ни странно – Баруздина и Полевого. В «Юности» шумели, если придет Сережа, то наверняка Алексин станет заместителем главного редактора.
Алексин – это михалковский лунник. Назначили Полевого, и Полевой тут же попросил дать ему гранки первого и второго номеров, то есть тех номеров, где начиналась моя повесть. Через три дня ко мне позвонила Мери и попросила приехать к Борису Николаевичу.
Когда я вошел, Борис Николаевич, улыбчивый и нежный, поднялся, обнял меня и расцеловал. И было это до того приятно, добро, человечно, до того по-настоящему наше, что меня чуть в слезу не потянуло.
Человек он тонкий, он это почувствовал, и у него глаза заблестели. Говорил он тогда очень хорошие и добрые слова, очень спокойно. Сделал великолепные замечания.
У меня там было, что Струмилин перед вылетом и посадкой одевал лайковые перчатки. Полевой смеется: «Мне раз пришлось одевать лайковые перчатки, когда я шел на прием к английской королеве, но они такие тонкие, что их практически только раз и можно одевать, а потом россиянин с его грубой рукой наверняка разорвет.
Так что, что касается лайковых перчаток, тут ты, борода, загнул». То же самое он сказал очень точное замечание человека, который много времени провел с летчиками, о том, что летуны не говорят слово «кашне», а говорят «шарф» в зимний период, потому что кашне – это беленькая шелковая полосочка, которая подкладывается под летнюю форму, под летнее пальто реглан. Такая точность в мелочи дает достоверность в большом. За это я был ему глубоко благодарен.
Когда выбросили в цензуре три страницы, связанные с «Синей тетрадью» Казакевича и с разговором о Ленине в 1918 г. и о Зиновьеве в том же году, – Борис Николаевич заботливо, вот уж точнее не скажешь – как отец, вписывал заново, сидя рядом со мной, строчки, которые бы прошли точно. Сказал он тогда мне очень хорошую фразу: «Зачем Вам нужно, чтобы визжали всякого рода фрондеры и с той и с другой стороны?!»
Когда он меня попросил зайти, чтобы поговорить о моей следующей вещи, я ему рассказал задумку про «Петровку, 38». Он меня очень тактично, без всякого нажима отговаривал. Он мне говорил: «Не нужно это Вам, борода! Давайте что-нибудь погенеральнее».
Тогда мне очень хотелось сделать МУРовскую тему, и он меня не уговорил. Но опять-таки – товарищество и мудрое добро этого человека: когда он понял, что он меня не уговорил, он сказал: «Ну что же. Ну, в общем-то, если хочется, надо решить. Давайте, давайте. Будем печатать, если получится».
«Петровку, 38» они не напечатали, потому что, как мне объяснила Мери, у них был моральный долг перед Аркадием Адамовым: они за год перед этим напечатали его плохой детектив «Последний бизнес», и сейчас они хотели реабилитировать и себя и его и начали вместо моей повести печатать его повесть «Таможенный досмотр».
В мои трудные дни, зимой, Борис Николаевич позвонил и попросил меня прийти к нему, и я бежал к нему в перерыве между разговорами с Русланом Бадаевым.
И там – это было дня через три после первой встречи на Ленинских горах – он сказал мне: «Плюньте на все и давайте-ка выполняйте мой социальный заказ. Мне нужны хорошие рассказы про рабочих парней. Сколько тебе нужно сроку?» – спросил он. «Неделя», – ответил я. «Ну, так уж неделя, – сказал он, – даю две недели». Давно я не писал с такой радостью!
Сел и сдал цикл рассказов «Товарищи по палатке». Тогда же, в свои тяжелые дни, я написал дней за пять пьесу «Иди и не бойся».
Рассказы Полевому очень понравились. Они идут в пятом номере «Юности». Вернее сейчас сказать – должны идти, поплевать через плечо и постучать о дерево. И после этого Борис Николаевич сказал: «Ни о чем не думайте, летите от нас в командировку в Абакан-Тайшет и не торопитесь».
Дали мне денег, много денег из своего скудного фи– нансового пайка. Причем когда заведующий редакцией Суслов сказал Борису Николаевичу, что Юлиан забирает у нас много денег – 2800, Полевой ему ответил: «Миленький, писатель как женщина – ему за удовольствие платить надо. Вам рассказы удовольствие?». Суслов вздохнул и ответил: «Удовольствие». – «Ну вот и платите!».
И вот сейчас, на пленуме РСФСР, было единственное выступление, которое содержало в себе запал партийности и честности, и единственным человеком, который сошел о трибуны без аплодисментов, в гробовой тишине зала, был Борис Николаевич. Его выступление резко разнилось от всего тона пленума. Он говорил спокойно и честно.
Он говорил, что ошибки Аксенова искусственно раздуваются и что не он виноват в этой скандальной известности, а критика, которая визжит по поводу каждой его самой маленькой ошибки.
Он говорил, что критика не замечает того хорошего, что печатает «Юность», а набрасывается только на брусничку. Это пришлось явно не ко двору. Но Полевой сделал по-настоящему доброе и честное дело. За это ему честь и хвала, и уважение!
Второй мой главный редактор, с которым я в общем-то начинал печататься в большой литературе, это – Вадим Кожевников. Летом 1958 г., правильнее сказать – в сентябре, я передал Сучкову цикл рассказов о геологе Рябинине.
Рассказы всем понравились и ждали мнения Кожевникова. Числа 5 сентября я помню, гуляя, шел с Николиной Горы в Успенское. И было пронзительно чисто в небе, и деревья стали желтеть, и Москва-река, обмелев, ощерилась бурыми песчаными отмелями, и тишина была вокруг – осенняя, остатняя тишина.
Пришел я в Успенское, заказал телефонный разговор с Москвой и услышал голос Уварова. Он сказал мне: «Плохо дело, Юлиан, – главный редактор забодал рассказы».
Тогда я относился к этому просто, потому что больше жил в журналистике, нежели в литературе, и отнесся к этому сообщению спокойно, сказав: «Ну, я так и думал». Уваров засмеялся своим громобойным смехом и сказал: «Давайте приезжайте. Редактор – “за”».
Кожевников меня поразил лицом американского боксера, гром-коголосостью и неумением слушать собеседника. Причем я это говорю не в упрек ему, я Кожевникова очень люблю, считаю его очень талантливым человеком, очень и по-настоящему. Просто он, как истинный писатель, причем писатель характерный, где герои – сильные люди своего стержня, – он слушает себя и в себе героев своих, как мать слышит удар ногой ребенка под сердцем. Он – Вадим – и говорит поэтому о себе и для себя.
Когда Кожевников меня увидел, он тряхнул руку сильно и быстро и сказал: «Такие рассказы я готов печатать, если будете приносить, через номер». И он говорил правду, потому что «Знамя» начиная с 1958 г. печатало меня по два – по три раза в году, если не больше, а для толстого журнала это весьма дерзко.
Вадим сказал мне тоже очень точную фразу. Он мне тогда сказал, что, мол, «когда у Вас шофер Гостев проваливается в прорубь и если тридцатиградусный мороз, то он, ежели на ветру потом простоит 15 минут, так или иначе “сыграет в ящик”, и что если одежда на нем успеет замерзнуть, так она не трещать будет, как у Вас написано, а при каждом шаге ломаться будет, как хрупкий ледок».
Он же – Кожевников – помог мне с командировкой на рыбацкие суда в Исландию и Гренландию. С ним, с Борисом Слуцким, 297Николаем Чуковским и Виктором Борисовичем Шкловским (Шкловский к нам приехал только в один город – в Минск) ездили выступать по телевидению в Гомель, в Минск и в Ригу.
Помню, мы как-то ходили с Вадимом по маленьким улочкам, и он мне рассказывал, как он был здесь, в Риге, чуть ли не в 1927 или в 1926 году с командой боксеров – первое впечатление меня не обмануло: я сам, как бывший боксер, увидел в нем тоже боксера, только более высокой квалификации.
Рассказывал он, как их возили в автобусе, никуда не отпуская. Рассказывал он мне потом прекрасную историю и о том, как он был в Турции, и о том, как он был в Константинополе, и о том, как он потом, в 1945 г., был в Италии, выполняя роль не только журналиста, но и крупного военного разведчика.
Рассказывал о том, как ему было трудно и интересно работать в Китае, где он занимал ответственнейший пост заместителя политического представителя в Китае.
Сталин Кожевникова очень любил и прислал ему, после того как Вадим напечатал свою повесть «Март – апрель», в конверте десять тысяч рублей.
Это считалось, как у Николая I Пушкину, – перстнем. Тогда в мае, в 1960 г., еще за два года перед ХХII съездом, в ресторане в Риге под джаз разыгрался крупный спор о Сталине. Мне понравилась равно принципиальность и Слуцкого и Кожевникова. Мы с Чуковским были «болотом», так сказать, «третьей силой».
Забегая вперед, могу сказать, что никогда не забуду ликующего, восторженного и чисто фанатичного лица Бориса Слуцкого, которого я встретил после ХХII съезда в ЦДЛ, когда он мне говорил: «Ну, Юлиан, видите, кто был прав, а кто неправ!»
Спор был о том, в чем виноват Сталин и виноват ли он вообще. Спор был о том, какую роль сыграл Сталин в войне и сыграл ли он ее.
На последнем пленуме Кожевников участия не принимал, потому что очень быстро улетел в Каир вместе с Борей Ивановым из «Огонька».
Вообще, если внимательно приглядеться к двум последним пленумам, а особенно к пленуму РСФСР, то здесь будет видно, кто в нем участия не принимал, – ни Паустовский, ни Симонов, ни Чуковский, ни Маршак, ни Бакланов, ни Бондарев, ни Каверин, ни Берггольц, ни Гранин, ни Панова, ни Смеляков, ни Винокуров, никто из молодых.
Если взять перечень выступавших из газеты, то я, хоть и живу уже в литературной среде вплотную четыре года, – за исключением двух-трех, никого не знаю. Что это за люди, какое они имеют право говорить от имени литературы, какое они имеют право давать советы, указания и рекомендации!?
Не выступал и Михаил Александрович Шолохов, не выступал и Твардовский, не выступал Овечкин, не выступал Арбузов, Розов, Володин, Алешин...
Я не знаю, прошло ли это замеченным или незамеченным, но если сейчас товарищ Криушенко из Главлита будет продолжать тянуть свою политику, то – боюсь – многое станет очень ощутимым.
Сейчас советского человека нельзя кормить схемами. Если сейчас появятся произведения, состоящие из схем, из идеальных героев, из конфликтов хорошего с отличным, то как же читатель будет относиться к «Одному дню Ивана Денисовича», к «Живым и мертвым», к «Большой руде», то есть к произведениям серьезным, проникающим в душу человеческую!?
Замалчивать эти произведения уже нельзя, объяснять, что это – частные ошибки, смехотворно. Боюсь, что если сейчас победить пустословие в литературе, то некого будет винить в нигилизме некоторой части молодежи.
Нас прижмут – кого же тогда винить в веяниях нигилизма, а он будет, потому что самая главная и самая неприятная ошибка заключается в замалчивании.
Нельзя быть страусом, а тем более нельзя быть страусом с друзьями, с которыми должно говорить открыто: они тогда все лучше поймут, нежели, глядя в глаза человеку, лгать ему, будучи уверенным, что лжешь для его же пользы. Это значит не уважать собеседника и – где-то – самого себя...
Вспоминаю Вилю Смирнова, который был заместителем секретаря партийной организации у московских писателей. Человек с огромной близорукостью, в толстых очках, с именем, составленным из трех прекрасных букв ВИЛ (Владимир Ильич Ленин), окончивший Международный институт, работавший ТАССовским корреспондентом в Албании. Он пришел к нам после того, как был инструктором Фрунзенского райкома, по назначению из МГК.
Сходился он с людьми легко и хорошо, но дальше больше – я замечал в нем одну страшную черточку нетворческих людей, которые живут среди людей творческих.
Ему очень хотелось – так же как Юрке Казакову, когда он приезжает из Тарусы в Москву, – сидеть часа четыре или пять в ресторане, пить кофе и водку, говорить громким голосом о том, о чем считаешь должным говорить.
Ему хотелось сидеть в нашем большом холле и, как Тольке Гладилину, рассказывать что-то скабрезное и слушать такое же. Словом, ему хотелось того видного в творческом работнике, что кажется со стороны очень заманчивым.
А ведь это видно – это как видная часть айсберга: ослепительно красиво и мощно, но, по сути дела, является крохотной частичкой подводной громадины: сидел-то ведь айсберг своей невидной частью. Так же и в нашем деле. Можно два дня смеяться и трепаться и сидеть в ЦДЛ, а потом два месяца, не разгибая спины, по десять – двенадцать часов проводить за столом.
И вот когда я смотрел на Виля, – а я с ним в общем-то был в добрых отношениях, – я тревожно ощущал, что он на пороге какой– то беды. Какая, откуда она может грянуть, – я понятия не имел. Но, тем не менее, это чувство было во мне точным, как ощущение ужаса во сне.
И я оказался прав. Дней за шесть перед событиями, о которых сейчас я буду писать, он завел меня к себе в кабинет и, глядя на меня из-под очков жалкими глазами, спросил, не смогу ли я одолжить ему денег, потому что он прожег себе плащ и сейчас ему приходится ходить в демисезонном пальто.
Я ему дал 50 рублей, а еще 50 рублей попросил подождать дней пять. Но он мне стал звонить через два дня, жаловался, что он зашился с ремонтом квартиры и т.д. и т.д.
Я ему привез еще 40 рублей (с деньгами у меня у самого было туго), а через три дня узнал, что Вил снят с должности заместителя, потому что приехала партийная комиссия райкома и выяснила, что он систематически растрачивал партийную кассу, он брал у людей партийный взнос с тысячи рублей, а в ведомость записывал, что брал не с тысячи, а со ста.
Когда я узнал это, мне стало страшно, как вообще-то бывает страшно узнать о подлости близкого человека. Но я сразу вспомнил его лицо, когда он просил у меня 50 рублей, небритое, отечное, зеленоватого оттенка, оно все плясало, и глаза его были жалкими, и руки с черными ногтями, и обшарпанные брюки, и давно не глаженный пиджак, и синяя рубашка – давно нестиранная и с дурным запахом.
А еще я вспомнил, глядя на него, его слепую – почти на 80 процентов – жену, которая, как мне рассказывали, хорошо дралась на фронте, особа эмансипированная, изящная, очень чистенькая, которая совершенно не походила на жену вот этого – тогда уже почти совсем опустившегося человека.
Вил говорил, что она сама не может переходить дорогу и что он переводит ее через дорогу, когда она уезжает на работу, и что он сам готовит еду и сам стирает белье. А вообще-то про это не нужно рассказывать мужчине, про это мужчине нужно скрывать, помня Горького, что не каждая правда нужна человеку, есть правда, которая унижает.
Мне рассказывали, что когда дочь Марины Цветаевой, которая после самоубийства матери в 1942 г. была арестована по ложному доносу, увидала книжку «Записки коменданта Московского Кремля» Малькова с литературной записью А.Я. Свердлова, она очень удивилась, потому что А.Я. Свердлов был ее следователем.
Ее спро– сили – каким он был следователем: плохим или хорошим? Она ответила: «Он был демократом, он никогда не вызывал людей, чтобы меня били, он всегда меня бил сам».
Говорят – не надо вспоминать это, не надо трогать старые раны. Тогда нужно вообще забыть термины «старые раны», «сердечная боль». Как же не вспоминать про это, когда это – в сердце у каждого?!
Коля Асанов рассказывал мне (он – автор последней повести в «Юности» – «Янтарное море»), как в 1931 г., когда его арестовали в первый раз, его привели на допрос в 4 часа утра к начальнику секретно-политического отдела ГПУ Марианне Герасимовой, родной сестре критика Валерия Герасимова и двоюродной сестре Сергея Аполлинариевича Герасимова – режиссера, и как эта красивейшая женщина в бальном платье с декольте, стаскивая бальные перчатки до локтя с рук, открыла окно, а за окном была прекрасная рассветающая Москва, и голуби ворковали под окном, и солнца еще не было, но оно чувствовалось, как она спросила у Асанова, почему он молчит, а он сказал, что ему нечего говорить, потому что он ни в чем не виноват, он – верный сын Родины, и как она, пройдясь по кабинету, мило улыбаясь, закурила «Казбек», а потом стукнула кулаком по столу и сказала: «Ну, вот что, Асанов, ты кончай нитки мотать…» – и дальше она произнесла грязное мужицкое ругательство. И – как рассказывал мне Асанов, – он тогда впервые в жизни упал в обморок.
Когда я спрашивал, какой была Марианна Герасимова в жизни, мне говорили, что она была обаятельной, нежной и милой. Она была первой женой Либединского, готовила домашнее варенье и, когда рассказывали хоть в какой-то мере фривольный анекдот, очень сердилась и выходила из комнаты. В 1936 г. она повесилась в своем кабинете...
Когда я сейчас хожу по улицам, меня не оставляет ощущение такое, какое бывает в мае месяце в Коктебеле, если входишь в море: солнце теплое, а море холодное, и как-то реально ощущаешь, как солнце пытается пробить толщу холодной воды и сделать море прекрасным и теплым.
И вот нечто аналогичное я ощущаю сейчас с воздухом. Когда идешь и, если даже нет ветра, все равно рассекаешь воздух, – он осязаем и он холоден. А если остановишься, поднимешь лицо к солнцу, так оно станет быстро теплым и даже может согреть.
Ощущается какое-то тяжелое единоборство жаркого апрельского солнца с промерзшим чистым воздухом, который не по-апрельски холоден, а холоден по-февральски.
И поскольку весна так затянулась, уже лето голубых, серых, несказанно прекрасных ночей, когда можно ходить без пальто, когда цветут деревья и когда по ночам во дворе, в открытую балконную дверь, слышны тихие песни и гитара, – все это кажется возможным чудом, а не той круговоротной закономерностью, которая математична в своей неотвратимости. Каждое утро подскакиваешь к окну, смотришь на градусник и ждешь чуда...
В этом году ни один человек из нашего писательско-актерско-режиссерско-музыкантского мира не разыгрывал друг друга с первоапрельской шуткой – умы были заняты другим. Правда, один розыгрыш все-таки был.
Кто-то разыграл заместителя Караганова в издательстве «Искусство» – некоего Буриана. Позвонили к нему, сказали, что это из Министерства культуры: «Понимаете, издали во Владивостоке тиражом в 100 тысяч экземпляров книгу Турбина “Товарищ время и товарищ искусство” и сослались, что это с матриц вашего издательства». Говорят с Бурианом чуть обморок не случился. И это еще в нашей сегодняшней ситуации.
Возмущает меня организация, которая тактично называется Главлит. Как было дело с пьесой «Дети отцов»? Они, запретив пьесу, все свалили на Главпур. Так и с пьесой «Иди и не бойся»: они, запретив ее, врут Александру Петровичу Левинскому, начальнику Управления театров, что они ее не запрещают, а дают поправки.
А когда сейчас в «Юности», в четвертом номере, у меня шла ссылка на то, что в Театре юного зрителя репетируют «Иди и не бойся», Главлит упоминание об этой пьесе снял, потому что пьеса эта запрещена.
Поразительно вот что: почему цензору Криушенко доверяют больше, чем писателю Семенову, директору театра Мариенгофу, главному режиссеру театра Голубовскому и тридцати восьми актерам, среди которых двенадцать коммунистов, а два – старики коммунисты?!
Ведь писатель – он не просто писатель, он – член Союза советских писателей! Это больно даже спрашивать самого себя, не говоря уже том, как больно на это отвечать. Словом, поживем, посмотрим...
20 апреля 1963 года
Молодежная суббота в ТЮЗЕ. Симонов читал стихи. Убежал после выступления – в Политехнический. Вернулся уже после окончания.
– Ну как? – спрашиваю.
– Был 15 минут, а все равно успели воткнуть вопрос о Евтушенко.
Потом мы обсуждали субботу. Говорили, что жаль, что С. был всего час.
(Мих. Мих. просил его выступить на 50 мин. Ровно – минута в минуту он и выступил.)
– Я мог бы занять площадку на 3 часа. А все-таки хорошо я ввер нул про то, что теперешняя молодежь – так же как и мы – пойдет драться... Зря мы нападали на нее. Мы ведь в свое время тоже были хорошие гуси.
На этой фразе, в кожаной тужурке, с английской трубкой, веселый, он ушел.
22 мая 1963 года
Вчера, 21 мая, мы были в гостях у Юли и Льва Петровых в Барвихе. К ним пришел в гости маршал Тимошенко. Красив, статен, румян. Много пьет. Рассказывал о Сталине.
«Тот называл меня мужиком. Я был единственным, кто умел говорить тосты без политики, а про природу, дружбу, любовь». (Кстати, первый тост, который он произнес сейчас, был тост за Н.С.)
Во время просмотров кинофильмов, когда бывали приглашаемы иностранцы, Власик сажал Тимошенко сзади Сталина, чтобы тот прикрывал его спину своим громадным торсом. Тимошенко: «Очень Сталин Гитлера боялся, прямо как огня боялся. Когда Жуков однажды вместе со мной был у него на докладе и говорил о необходимости перенести границу вперед, сделать укрепления по новой границе, выдвинуть агентуру, Сталин на Жукова накричал, и тот, заплакав, выбежал из кабинета.
Агент из немецкого посольства, заручившись согласием на политубежище через начальника ГРУ Голикова, за некоторое время перед началом войны рассказывал точно, когда все начнется. Я доложил об этом Сталину. Тот сказал – пусть Берия разберется.
А мы не могли отдавать Берия своего агента, они бы его уничтожили, потому что министр ГБ Меркулов всегда давал ложные сведения Сталину, успокаивал его, т.к. чувствовал, что Сталин хочет успокоения.
Три дня перед началом войны мы не спали и сидели в НКО. Первым ко мне позвонил Севастополь – началось. Я поехал к Сталину.
Он сидел с Молотовым в бомбоубежище под Кремлем. От страха, когда я ему доложил, он обделался. И стоял ужасный запах в бомбоубежище. У него был начальник кадров армии Щаденко – сволочь и дурак. А он на него опирался. Я был против ареста Блюхера.








