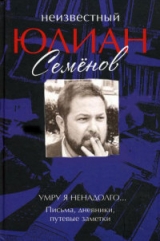
Текст книги "Неизвестный Юлиан Семенов. Умру я ненадолго..."
Автор книги: Ольга Семенова
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 40 (всего у книги 85 страниц)
Представьте себе мое потрясение, да что там потрясение, – шок, когда главный оппонент – заведующий кафедрой Литературного института имени Горького, доктор филологических наук, профессор, ровно за сутки до означенного срока сдачи вдруг отказывается от защиты, если не будут изменены некоторые формулировки и выводы, напрямую касавшиеся Юлиана Семенова.
Справедливости ради надо отметить, что диссертацию он одобрил, но... у него были профессионально-дружеские связи с некоей группой не особливо удачливых писателей и журналистов, которые, кто тайно, кто явно, стремились усложнить жизнь Юлиану Семенову.
Они использовали в качестве рычагов давления и влияния ложь, клевету, слухи, домыслы, вымыслы, а то и прямые запреты, если имели на это возможность.
Мой оппонент не мог противостоять жесточайшему давлению, которое оказывали на него эти люди.
К счастью, он оказался не настолько коварным, чтобы вынести смертный приговор моей диссертации прямо на защите, но весьма малодушным, ибо о своих претензиях заявил только за сутки, хотя работа находилась в его распоряжении полгода.
Авторитет Алексея Васильевича, полное доверие ему как научному руководителю, ученому помогли нам найти удивительного человека – доктора филологических наук, профессора Петра Ивановича Плукша.
Профессор Плукш, сам с удовольствием читавший Юлиана Семенова, очень удивился, что нашлась в «далекой Азии столь рисковая аспирантка».
Он с явным, искренним, а не показным энтузиазмом согласился стать моим оппонентом. Конечно, он вздохнул, когда мы его поставили прямо-таки в прифронтовые условия (написать за сутки отзыв – дело нешуточное), но на следующий день в 6.15 вечера под неодобрительно-строгим взглядом ученого секретаря, еле переводя дух, я сдала все отзывы и диссертацию в секретариат. Я опоздала на пятнадцать минут. Все заканчивали работу в 6 часов.
о защиты оставалось ровно тридцать дней, как и было положено по инструкциям ВАК *.
* Т.И. Аронова удачно защитилась. Позднее читала в Филологическом институте в Ташкенте лекции по творчеству Юлиана Семенова.
ВОСПОМИНАНИЯ ЖУРНАЛИСТКИ ТАТЬЯНЫ БАРСКОЙ
В августе 1982 года в Доме творчества Союза писателей, как всегда людно, полный аншлаг.
Этот литературный Олимп хранил память о Паустовском, Маршаке, Фадееве, Твардовском, Луговском, Каверине, Окуджаве, Вознесенском. Легче назвать тех, кто тут не бывал.
Проходя мимо нашей редакции газеты «Советский Крым» (ныне «Крымская газета»), которая размещалась тогда на полпути от Дома творчества к набережной, писатели непременно к нам заглядывали, приносили отрывки из будущих книг. Мы их печатали на традиционной литературной странице «Воскресное чтение».
Юлиан Семенов появился неожиданно. Он вообще оказался непредсказуемым. Экспромт, импровизация были свойственны его натуре. Этим он был интересен и привлекателен.
Накануне взволнованный фотограф Валерий Макинько рассказал нам, что встретился на Ялтинской киностудии с Семеновым и сфотографировал его!
На следующий день во дворе редакции появился плотной комплекции бородатый человек в рубашке защитного цвета с большими карманами на груди, из которых выглядывали авторучка и пачка сигарет.
Представился: «Юлиан Семенов. Прошу любить и жаловать». Все последующие годы нашего с ним общения и сотрудничества были верны этому призыву: любили и всегда жаловали.
На протяжении многих лет на страницах нашей газеты печатались главы из его будущих книг, над которыми он работал в гостинице «Ялта», в Доме творчества писателей, в санатории «Россия». Все гонорары просил перечислять в Фонд мира.
Вскоре Семенов стал своим человеком в городе. Он вникал во все проблемы, связанные с развитием туризма, культуры, музеев, в частности очень близко к сердцу принимал судьбу Ливадийского дворца. Предлагал создать при нем Центр международных исследований «Восток – Запад»...
На читательскую встречу с Юлианом в кинотеатре «Сатурн» в декабре 1982 года собралось более тысячи зрителей. Он появился на сцене легко и стремительно. Контакт с залом возник мгновенно. Его слушали затаив дыхание. Ни один вопрос не остался без ответа.
Любимой формой общения оставался диалог. Зрители даже не подозревали, что перед ними стоит человек с температурой 39, простуженный, буквально за несколько минут до встречи поднявшийся с постели. Когда мы, организаторы встречи, пришли к нему в Дом творчества и увидели, в каком он состоянии, стали уговаривать перенести ее на другое время.
Он решительно сказал: «Ни за что! Ведь там же собрались люди!» Помимо писательского таланта он еще обладал огромным даром любви и уважения к людям, какого бы звания и положения они ни были...
Поражали его общительность, открытость, науемная работоспособность и вместе с тем какая-то моцартовская легкость. Юлиан будто жил вне времени. И я не удивлялась, когда в двенадцатом часу ночи раздавался телефонный звонок и он, хриплым голосом произнеся свою обычную фразу: «Значится так», – начинал диктовать поправки к очередной газетной публикации.
В 1989 году Юлиан решил организовать фестиваль «Детектив. Музыка. Кино». На приглашение фестиваля откликнулись его добрые знакомые – Микаэл Таривердиев, Валентин Гафт, Леонид Ярмольник, Георгий Гречко.
Не побоялся Семенов пригласить и известного на всю страну следователя по особо важным делам Тельмана Гдляна (тогда на него начались гонения). Августовским вечером 1989 года к концертному залу «Юбилейный» устремились толпы горожан и отдыхающих.
В воздухе висел вопрос: «Нет ли лишнего билетика?!» Его, конечно, не было. Увлекательные детективно-литературно-музыкальные шоу продолжались в течение пяти вечеров. Главным героем в них оставался Юлиан Семенов.
В совершенно необычном для него белом одеянии * он напоминал мифологического героя. Он был счастлив, потому что сбывались его мечты – зрители ликовали при встрече с актерами, с удовольствием смотрели западные кинодетективы, привезенные с ХVI Московского кинофестиваля, на ура проходил аукцион книг его издательства ДЭМ, а главное, – средства, полученные от фестиваля, переводились на благоустройство Пушкинского и Чеховского музеев в Гурзуфе.
* Национальном афганском костюме, подаренном Ю. Семенову друзьями из Кабула.
ВОСПОМИНАНИЯ ПОЭТА ОЛЖАСА СУЛЕЙМЕНОВА
С Юлианом Семеновым я познакомился сначала как читатель.
Прочел в конце шестидесятых в журнале только что написанную им повесть «Семнадцать мгновений весны» и поразился литературной добротности этого произведения.
Потом, конечно, с удовольствием смотрел фильм (да и до сих пор просматриваю на кассете), никогда не забывая, что основа его – прекрасный литературный материал. Подружились мы позднее.
О литературе не говорили – это удел молодых, начинающих писателей, которым крайне важна оценка их работы. Для нас же литература стала неотъемлемой частью жизни. Воздухом.
Разве мы говорим о воздухе, которым дышим? Разве только когда его уж особенно загрязнят дымом или выхлопными газами.
Поэтому мы с Юлианом чаще говорили о судьбах – своих и чужих. Готовил Юлиан сам. Однажды приехал я в Москву, он ко мне звонит: «Олжас, жду. Манты будем есть!»
Прихожу. Стоит Юлиан на кухне в переднике и варит купленные в ресторане «Узбекистан» манты, энергично помешивая в кастрюле половником, – совсем как сибирские пельмени. А манты ведь на пару готовят – на решетке, в каскане. После этого я ему и прислал из Алма-Аты каскан.
По натуре Юлиан был путешественник, открыватель. Общителен был очень и со всеми находил общий язык – если стоило его находить. Отцом был на редкость нежным.
Может и не хватало ему времени, чтобы выразить свое отношение к дочкам, но, как необязательно выпить все море, чтобы осознать, что оно соленое, – достаточно нескольких капель, так и тех часов, которые он с ними провел при мне, мне хватило, чтобы понять, насколько он их любил...
Перестройку Юлиан принял сразу и активно в нее включился.
Перестройку должны были делать новые люди, и Юлиан по складу ума к ним относился. Они формировали общественное мнение, подготавливая его к приближающимся изменением. Почти все мы, пи– сатели, старались их приблизить. Изменения пришли, но, к сожалению, в дальнейшем оказались слишком прямолинейными и не всегда к лучшему...
Юлиан был динамичен, экспрессивен и успешен. Всего добивался. Все, к чему прикасался, превращалось в дело. Оттого и завидовали ему. Когда в любой среде появляется личность такого масштаба, то сразу привлекает повышенное внимание, и далеко не всегда доброжелательное.
Сам Юлиан не знал равнодушия и если уж верил в человека, то веру эту хранил и поддерживал не на словах, а на деле. Строки: «Если друг оказался вдруг и не друг и не враг, а так» точно не о нем. Он другом быть умел.
В декабре 86-го года в Алма-Ате начались выступления молодежи и гонения на Кунаева. Он уже вышел на пенсию, но предъявленные ему обвинения были более чем серьезны. Я, будучи на его стороне, также оказался в опале.
Гонениям было суждено продолжаться в течение долгих месяцев – пришло время низвержения памятников. Я всегда думал, что у меня очень много друзей, – со сколькими писателями встречались, общались, выпивали!
А тут вдруг понял, что друзей у меня почти не осталось. Вокруг образовалась пустота. И в этой пустоте раздался один-единственный голос в мою защиту – голос Юлиана Семенова.
И не просто голос. Вскоре мне пришлось бежать из Алма-Аты (иначе бы меня арестовали), и я приехал в Москву, где Юлиан меня приютил. «Прятался» я и на его даче в Крыму, под Ялтой.
Как раз в те дни меня пропечатали в «Правде», и Юлиан, выступая перед московской интеллигенцией в ЦДРИ, получил вопрос из зала: «Что вы думаете о поэте Олжасе Сулейменове?».
Ни секунды не раздумывая, он ответил: «Я знаю Олжаса. Олжас – алмаз. А к алмазу грязь не пристает!» И эту позицию Юлиан не изменял до окончания гонений на меня.
Через некоторое время я вернулся в Алма-Ату в надежде отстоять Кунаева (а им занимался и ЦК КПСС и КГБ и местный ЦК). С Юлианом мы договорились поддерживать тайную связь через надежных людей – друзей кинорежиссеров.
Я ему оставил их телефонные номера, и он по ним звонил, не называя имен и фамилий. У Юлиана был обширный круг знакомых в КГБ и ЦК КПСС, и он, разузнав касающиеся нас новости, сообщал их мне.
Надо сказать, что Юлиан знал и Горбачева, и Яковлева, и Бобкова – интеллигентнейшего человека, который в моей судьбе принял участие.
Он в КГБ занимался идеологией, и в писательских делах и интригах прекрасно разбирался. Это были основные «источники ин– формации» Юлиана. Я хорошо знал, что Юлиан был близок к КГБ.
Это было связано с его сферой литературной деятельности, с архивами, но эти отношения никогда не превратились в нечто, от чего порядочному человеку стоит отворачиваться.
Юлиан был человек мудрый и понимал, где добро, а где зло... Все помнили, что было в тридцатые годы, но забыли, что в 60-е, в нашу эпоху «возрождения», и в КГБ появлялись интеллигентные и светлые люди, способные отличить добро от зла.
И Юлиан общался именно с такими людьми. Он меня с ними впоследствии познакомил. А в ЦК таким светлым человеком был наш общий хороший друг Александр Николаевич Яковлев...
Что поразительно, в 87-м году отмечали юбилей – 50-летие 37-го года. Отмечали торжественно. Я помню, как откликнулись писатели, которые всегда, начиная с XX съезда, выступали с трибун, сокрушая сталинизм.
Но лишь только появлялась возможность свести с кем-то счеты, как ими же использовались методы, сведшие в могилу многих писателей в 37-м году и в нашей республике и в других республиках Советского Союза. Психология у многих осталась та же самая...
Не каждый из пишущих прошел эту проверку. Даже очень уважаемые ныне имена в то время «проверялись на всхожесть» и «всхожесть» оказывалась плохой...
Шли месяцы, мы поддерживали с Юлианом «тайную связь». И вот однажды он звонит к моему «связнику» – режиссеру-документалисту Юре Пискунову и ликующе говорит:
– Олжас, можешь передать Кунаеву, что все обвинения с него сняты!
– Юлиан, – взмолился я, – мы же договаривались, без фамилий!
– Ничего, пусть эти сволочи слушают! Демаш Ахматович свободен.
Юлиан в своей жизни помог многим. Но говорить об этом не любил, имен не называл, на благодарность или ответную помощь не рассчитывал, – он помогал бескорыстно. В этом природа добра – оно ведь всегда бескорыстно.
Вот таким был Юлиан – и от Бога и от воспитания...
ВОСПОМИНАНИЯ ПИСАТЕЛЯ ИРЖИ ПРОХАСКИ
Вице-президент исполкома МАДПР...
Этим ироническим титулом меня когда-то наградил один чехословацкий журналист, даже не подозревая, какую честь мне этим оказывает. Ибо быть другом и ближайшим сотрудником президента – основателя МАДПР Юлиана Семенова – писателя, журналиста, неистового репортера, которому хочется находиться в центре всех опасных и драматических событий нашей планеты, вечного путешественника и мечтателя, который к тому же гейзер или, точнее сказать, вулкан идей, инициатив и вдохновений, это действительно награда.
В тот раз мы встретились на Кубе в мае 86-го года по случаю литературной конференции, посвященной детективу. Мы были приглашены туда как почетные гости, поскольку семеновский Штирлиц и мой майор Земан на Кубе необычайно популярны.
Юлиан явился на Кубу с одной из своих фантастических идей: создать здесь МАДПР – Международную ассоциацию детективного и политического романа.
Признаюсь, мне эта мысль в первый момент показалась несколько дикой. Из писателей тут были мы с ним, наши кубинские товарищи, два мексиканца, один уругвайский писатель – эмигрант, один болгарин – и все.
Объявить в таких условиях о создании новой международной организации казалось мне по меньшей мере безответственным, слишком претенциозным и до смешного самонадеянным.
Об этом мы спорили и ругались с Юлианом Семеновым на гаванском яхтовом причале целую ночь.
При этом мы изрядно выпили, а посему около двух часов ночи спустились по трапу причальной дамбы в море, чтобы немного охладить свои разгоряченные головы.
Теплое море под космическим куполом карибской ночи, похожей на своевольную женщину, воткнувшую в свои волосы тысячи лениво мерцающих звезд, было так великолепно и умиротворяюще, что мы наконец-то договорились, и я согласился с Юлианом.
И только утром мы узнали, какой номер отмочили. Ночью гаванский порт кишмя-кишит акулами, барракудами, меч-рыбами и другими опасными тварями, а мы-то вместе с ними плавали!
Но Юлиан, как всегда, оказался прав: основание в 1986 году МАДПР было задумано мудро, а время выбора настолько отвечало состоянию мира и стремлению писателей к взаимопониманию, что сегодня МАДПР объединяет писательские организации от Америки до Японии с благородной целью – помогать литературе бороться с насилием, преступностью, беззаконием и использованием силы в любой части света.
Все мои встречи с Юлианом Семеновым были интересны и полны приключений, поскольку его прямо-таки влекут драматические конфликты, напряженность и авантюры.
Например, когда создавалась МАДПР, я был арестован на Кубе как террорист, поскольку у меня имелся пистолет-кольт «Смит и Вессон», почетный подарок одного кубинского генерала, забывшего проинформировать полицию о своем даре.
В 1987 году, во время второй встречи Исполкома МАДПР в мексиканском городе Сен Жуан дель Рио, Юлиан вдруг спросил меня:
– Тебя исключили из партии?
Надо сказать, что перед этим из Праги в Москву поступило сообщение, что Семенов общается с человеком, который из-за своей политической позиции недостоин его доверия.
– Да.
– За что?
– Я не согласен с вводом ваших войск в Чехословакию в 68-м году.
– Но ты прав, – сказал Юлиан. – Это был идиотский поступок.
Рано или поздно нам все равно уходить, поскольку это крупнейшая политическая ошибка, которую нам придется исправлять. Слава Богу, что тут со мной от вас хоть кто-то порядочный.
И с тех пор на многочисленных заседаниях он с гордостью сообщал, что рядом с ним сидит чешский писатель, который не согласен с советской оккупацией Чехословакии.
За год до этого в испанском портовом городе Хихон я предложил выбрать местом следующей встречи Прагу.
Однако американцы ответили, что не поедут в страну, где писателей сажают в тюрьму за их убеждения.
Поскольку в то время по стечению обстоятельств Вацлав Гавел и другие политические узники совести были на свободе, я поручился, что у нас в тюрьме нет ни одного писателя.
Незадолго до нашей добржишской конференции в январе 1989 года Вацлава Гавела посадили. Юлиан Семенов немедленно прилетел в Прагу и отправился в ЦК КПЧ ходатайствовать за него у Рудольфа Гегенбарта и министра внутренних дел Кинцла.
Вернулся он успокоенный, поскольку эти государственные и партийные деятели гарантировали ему, что еще до открытия нашей конференции на Добржиши Вацлав Гавел будет снова на свободе, так как его арест якобы всего лишь формальность.
Однако наступило 20 февраля – день открытия нашей конференции, а Вацлав Гавел все еще не был на свободе.
Наоборот, на той же неделе его ожидали суд и приговор. Встречая в аэропорту своих иностранных друзей – членов Исполкома МАДПР, я видел, что дело плохо. Не прилетел Фридрих Дюрренматт, которому мы должны были вручить премию за весь его творческий жизненный путь.
В знак протеста не прилетели и американские писатели, послав телеграмму следующего содержания: «Дорогие коллеги! Накануне встречи Международной ассоциации авторов детективной литературы в Праге Исполнительный комитет членов этой организации решительно протестует против заключения нашего друга и писателя и драматурга Вацлава Гавела. Этот репрессивный акт является нарушением всех прав человека и противоречит духу сотрудничества, который завладел миром.
Мы убедительно просим, чтобы он и другие политические заключенные были освобождены. Мы настаиваем, чтобы это письмо было зачитано во время заседания Исполнительного комитета в Праге, было ратифицировано комитетом и оглашено на пресс-конференции этой организации в Чехословакии. Благодарим вас за понимание. Роджер Л. Саймон, Роаз Томас, Джо Гоез и Джером Чарин».
Под этой американской резолюцией поставили свои подписи и другие члены исполкома: Лаура Гримальди, Марко Тропеа, Мишель Квинт, Пако Игнасио Тайбо, Андре Мартин, Макуэль Кинто, Хуан Мадрид, Эрик Райт, Сюзан Муди. А я зачитал ее на заключительной пресс-конференции.
Последним в тот февральский день прилетел Юлиан Семенов. Нам даже не удалось переговорить, потому что тут же, на аэродроме, ожидала правительственная машина, которая немедленно увезла его в ЦК КПЧ, к руководителю отделения обороны и безопасности Рудольфу Гегенбарту.
Нам в тот вечер на Добржиши пришлось заседать без него. В писательский замок его привезли около полуночи усталого, раздраженного и злого. Он тотчас пригласил меня к себе.
– Эти идиоты начали с Вацлавом Гавелом большую игру и не собираются от нее отказываться, – сказал он мне. – Я не имею права рассказывать тебе подробности, но мы влипли в нехорошую историю.
Похоже, это конец организации, которую мы, затратив столько сил, все эти годы строили.
Я молчал, мне было тяжело.
– Для меня и для советской политики лучше всего было бы при соединиться к американцам и к их резолюции. Но таким образом я бы уничтожил тебя. На тебя возлагают ответственность за ход этого заседания, поскольку это ты предложил провести его в Праге. Если дело не кончится добром, тебя посадят.
Я был к этому готов.
– Нам нужно обмозговать, что делать. Разумеется, мы должны настаивать на освобождении Вацлава Гавела. Это наша моральная обязанность, и я сгорел бы от стыда, если бы этого не сделал. Но нужно так сформулировать, чтобы спасти тебя.
– В этих словах было столько солидарности и настоящей жертвенной дружбы, что я не забыл их до сих пор. Я искренне зол на истеричного француза Жана Франсуа Церраля, который так ничего и не понял и по сей день клевещет на Юлиана Семенова за его тогдашнюю тактику.
Пятая, добржишская конференция исполкома МАДПР и впрямь была драматичной. Секретари «старого» Союза писателей Адлова и Мадат, этот «мальчик со злыми испуганными глазами», как его охарактеризовал Юлиан Семенов, шпионили за нами на каждом шагу и записывали на магнитофон каждое слово, в том числе и те, что были сказаны на ночном закрытом заседании, которое демонстративно покинула половина французской делегации – Дидье Деник и Жан-Франсуа Церраль, не согласные со «слишком умеренной резолюцией», которую мы предложили.
Международная ассоциация – МАДПР тем не менее эту бурю пережила, не распалась и к утру приняла резолюцию, которая звучала так:
«Исполнительный комитет МАДПР на своем пятом заседании в Праге большинством голосов своих членов (воздержался лишь один кубинец) решил просить президента ЧССР, чтобы он воспользовался своим правом и в духе хельсинкских и венских договоренностей предоставил свободу писателю Вацлаву Гавелу».
Но даже столь дипломатично сформулированная резолюция МАДПР не могла быть опубликована в Чехословакии, и весь ход пражского заседания бойкотировался официальными органами и печатью.
Несмотря на это, пятая конференция Исполкома МАДПР стала легендой в истории этой международной писательской организации. Вскоре Вацлав Гавел стал президентом нашей республики, советские войска покинули нашу страну, а мне по-прежнему хотелось быть «пражским резидентом» Юлиана.
ВОСПОМИНАНИЯ ПРОФЕССОРА-НЕВРОПАТОЛОГА ВИКТОРА ШКЛОВСКОГО
Познакомились мы с Юлианом сорок лет назад, в Доме кино, и я его сразу запомнил и полюбил.
Он был невероятно яркой фигурой, способной из состояния спокойствия неожиданно переходить в состояние шаровой молнии.
Если человек ему был симпатичен, то он мгновенно проникался к нему доверием, раскрывался и с ним было необычайно интересно с первых же минут разговора. Он был общителен, но избирателен.
Мне пару раз выпадала возможность понаблюдать, как резко мог Юлиан разговаривать с некоторыми людьми, чуждыми ему по духу.
То, что Юлиан был человеком необычным, удивительным, не побоюсь этого слова, уникальным, не вписывавшимся в рамки окружавших нас стандартов, я понял сразу. Он и думал, и говорил нестандартно.
Меня поразила энциклопедичность его знаний и вместе с тем некий энергичный романтизм. В ходе наших последующих встреч я начал воспринимать его не только как писателя и публициста, но и как очень серьезного исследователя целого ряда проблем, касавшихся каждого, кто жил в тот непростой период.
Юлиан был уникальным пропагандистом своей Родины. Я лично никогда не считал себя поклонником КГБ, хотя организации такого рода необходимы и существуют в каждом государстве – мир без разведки существовать не может.
Увы, то, что происходило за стенами КГБ в определенные годы, можно охарактеризовать извращением представления о гражданских правах. Но Юлиан смог создать образ Штирлица – честного и умного человека, преданного своему государству.
И этот персонаж не был полностью плодом его писательского воображения – он обратился к фактам истории, к жизни замечательных разведчиков, служивших стране верой и правдой.
Не каждая книга и не каждый фильм выдерживали испытание временем. «Семнадцать мгновений весны» выдержали.
Три десятка лет тому назад, при его первом показе, этот фильм смотрела вся страна: люди бросали работу, отменяли сабантуи и приникали к экранам телевизоров. Все в этом фильме было удачно – и режиссура, и актерские работы, и музыка нашего общего друга Микаэла Таривердиева.
Мы ее с Юликом иногда слушали – она была ему очень близка, и как-то он мне сказал: «Микаэлу удалось сделать удивительное – его музыка легла на душу моих мыслей».
Но, безусловно, самая большая заслуга в успехе фильма принадлежала Юлиану – автору и сценаристу, с его взглядом и рукой мастера...
Ту, последнюю нашу встречу (не считая моего врачебного визита на Пахру, к уже совсем больному Юлику незадолго до его смерти) я запомнил особенно хорошо…
Вторая половина восьмидесятых, я отдыхаю в Массандре и конечно же звоню к Юлиану, на его крымскую дачу недалеко от Фороса.
Юлиан обрадовался, и мы договорились встретиться через три дня. На следующий день я ехал с моим приятелем – комендантом госдач по трассе, и вдруг он говорит: «Смотри-ка, машина Юлиана Семенова!» (Юлика и его оранжевый «жигуленок» с «татуировкой» на двери со стороны водителя в Крыму знали все).
Мы остановились, посигналили, встретились, обнялись, и Юлик сразу же заявил: «Ждать послезавтра не будем. Поехали ко мне!»
Мы сидели в небольшом доме в горной деревеньке Олива, завешанном его фотографиями с политиками и нацистскими преступниками, интервью с которыми он добился, и горячо обсуждали тогдашнюю политическую ситуацию.
Тогда-то Юлиан и рассказал мне о своей новой задумке – последнем романе о Штирлице «Отчаяние». Я был потрясен. Штирлиц должен был вернуться после войны на Родину и попасть в тюрьму как враг народа! Этот сюжет тоже не был полностью плодом воображения Юлиана – фактов предательства нашим государством замечательных разведчиков было несколько.
Предательство властью своих соотечественников – верных и преданных, – это самое страшное явление в нашей истории, и примеров его хватает по сей день.
Юлиан, описывая трагическую судьбу Штирлица, будто прогнозировал и предвидел время, которое нам предстояло. Его рассказ меня поразил – это было серьезнейшее откровение, предвидение.
А чего стоило в романе изображение Сталина – трагической и страшной фигуры, в течение тридцати лет маячившей над страной!
Я, как медик, уже тогда был убежден в паранойяльности этой личности, не щадившей не только врагов, но и близких.
Поразила меня и следующая вещь Юлиана – «Ненаписанные романы» – исследование политической ситуации в стране в сталинскую эпоху.
Это была своеобразная квинтэссенция всех личных переживаний Юлиана, «перемолотых» его интеллектом.
Да, страна развивалась. Да, мы выиграли войну. Да, выходили фильмы, ставились спектакли, писались книги.
Но все это – в условиях гигантского концентрационного лагеря. В «Ненаписанных романах» Юлиан говорил и о Ленине. Личность этого гениального, пусть и зло – гениального человека его всегда привлекала...
Некоторые по-разному могут трактовать все то, что произошло в нашей стране, но то жесткое, эмоциональное, грамотное отношение к истории, которое было свойственно Юлиану, должно быть достоянием людей ныне живущих.
Новое поколение должно жить, понимая и помня историю, поэтому его книги должны были бы издаваться ныне миллионными, а не тысячными тиражами.
Его книги представляют сейчас очень большой интерес – это то чтение, которое, оказывая на современного читателя сильное психологическое влияние, дает возможность ему осмыслить то время, в котором жили его родители и родители родителей.
Демократия в том виде, в котором она у нас организовалась, ужасна. Это вседозволенность, разгул, безответственность. Юлиан в начале перестройки мечтал об истинной демократии и стремился сделать все, для того чтобы свободы были для всех и в равной степени значимы.
Созданная им газета «Совершенно секретно» стала его рупором. Увы, зараженного духом Юлиана Боровика не стало, и сейчас газета лишь теплится.
ВОСПОМИНАНИЯ БРИТАНСКОГО ИЗДАТЕЛЯ ДЖОНА КАЛДЕРА
Никогда не знаешь, будет ли пользоваться успехом та или иная книга, которую ты решил печатать, – это всегда определенный риск.
Я сначала узнал о книгах Юлиана, принял решение их издавать, а потом уже стал его другом. В его шпионских романах меня поразило глубокое, двухстороннее знание международной политики и корректное отношение к «политическим врагам» его страны.
Эти тонкость и вежливость отличали и его роман «ТАСС уполномочен заявить», который я издал. В Англии любят шпионские романы, и эта книга Юлиана пользовалась успехом и хорошо разошлась.
Затем мы с Юлианом представляли ее в Америке: проехали через Торонто, Калифорнию, Нью-Йорк, Сан-Франциско.
Юлиан давал интервью, выступал на конференциях, часто увлекался и не мог остановиться – очень хорошо помню, как он беседовал с одним журналистом в течении трех часов!
Несколько раз ему задавали вопросы про его связи с КГБ, и Юлиан всегда отвечал с юмором.
Мне он поведал о своей встрече с Андроповым, когда тот сказал, что хорошо бы Юлиану писать шпионские романы, которые стали бы своеобразным противовесом американским и английским.
Юлиан с удовольствием согласился, и Андропов предложил ему допуск ко всем секретным архивам.
Юлиан благоразумно отказался от ознакомления со всеми документами – просмотрел лишь несколько, пояснив: «Я – писатель с богатым воображением. Остальное выдумаю! Зачем мне знать лишнее?».
Он был патриотом, но критиковал многие стороны тогдашней жизни. В Голливуде его все полюбили, он приобрел много хороших друзей, в том числе автора шпионских книг Гилта.
Он нравился людям, они к нему инстинктивно тянулись. Мы с Юлианом после той поездки неоднократно встречались в Лондоне и в Париже, и меня всегда поражало количество людей, с которыми он был знаком...
Я уверен, что книги Юлиана не устареют, потому что он был хорошим писателем. В его романах мне всегда нравилось наличие философской стороны (то, чего порой не хватало Ле Карре), интересных диалогов, раздумий и ретроспектив.
И, несмотря на насыщенный сюжет, Юлиан никогда не становился его пленником. Я теперь на пенсии, но очень надеюсь, что молодые издатели будут продолжать издавать Семенова.
Я же каждый год устраиваю чтения в моем книжном магазине в Лондоне – читаем мы и отрывки из романов Юлиана.
ВОСПОМИНАНИЯ ИЗДАТЕЛЯ АЛЕКСАНДРА УИКАМА (Франция)
Юлиан Семенов оказался первым русским политическим писателем, о котором услышали в 80-е годы во Франции и который решался говорить о политике, не будучи диссидентом.
О Советской России существовало вполне определенное мнение – все писатели пишут исключительно то, что велит власть, и их за это печатают в государственных издательствах. В начавшуюся перестройку мы тогда не особо верили.
Юлиан Семенов позвонил ко мне, и мы договорились о встрече. Я увидел удивительный персонаж – он был близок к власти, к КГБ, но в то же время говорил так свободно, будто не жил в коммунистической стране.
Конечно, сперва у меня были опасения, что он – секретный агент, и я даже думал о возможности какой-то «махинации», но Юлиан сам так увлеченно рассказал мне о своих близких отношениях с Андроповым, что я понял – передо мной не секретный агент, а настоящий писатель, страстно увлеченный вопросами власти и политики.
Поскольку меня эти темы также увлекали, я и решил его издать.
Мой прямой начальник – господин Бельфон, хозяин издательства «Бельфон», сперва сомневался в том, что Семенов заинтересует французского читателя – ведь если читатель не заинтересуется личностью нового писателя, он не заинтересуется и книгой. (Мы и не знали, что у себя на Родине Семенов писал бестселлеры, в нашем понимании автором бестселлера мог стать исключительно француз.)








