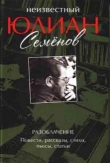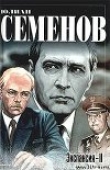Текст книги "Неизвестный Юлиан Семенов. Умру я ненадолго..."
Автор книги: Ольга Семенова
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 50 (всего у книги 85 страниц)
Постановщик вытер со лба пот и сказал чужим голосом:
– Разве кто-нибудь поверит, что наш хлеб – такой хлеб! – он кивнул головой на опустевшую палубу. – Все думают, что жизнь в кинематографе – сплошное веселье. Вот оно, наше веселье! Мы должны искать правду и снимать правду, а это всегда трудно, да особенно с тиграми, которые могут убить, и ты будешь бессилен, ты не сможешь помочь ничем и никак. А снимать «бодягу» нельзя. Надо, чтобы люди верили: в картине снимались не статисты в полосатых костюмах, а звери, которым хочется крови...
– Между прочим, – сказал я, – только что было настоящее кино. Этот долговязый ассистент впервые вошел к тиграм и сразу попал в переплет.
– Это не кино, – возразил постановщик, – к сожалению, это не кино.
В кино должно все время что-то происходить, а тут ничего не происходило, потому что он оказался храбрым парнем...
Выстрел. Еще один. Еще один.
«Бах! Бах! Бах!»
Стреляют на корме. Там, куда только что отогнали тигров.
– Что случилось?! – страшным, враз осипшим голосом спраши вает постановщик.
Никто ничего не знает. Все молчат. А потом несется протяжный голос: – Тигр за бортом!
А через минуту еще страшнее:
– Человек за бортом!
Пароход, словно споткнувшись, зарывается носом в море. Мы спрыгиваем вниз, на палубу, и бросаемся на корму, к клеткам. Оказалось, что когда незагнанным остался только один, самый большой тигр, на кормовую палубу, которая расположена метрах в двух над клетками, выбежал поросенок из машинного отделения. Он столкнулся лицом к лицу с тигром.
Тигр, спружинив, кинулся на него. Лёд успел в эту последнюю, роковую секунду вскинуть наган и выстрелить три раза подряд. Тигр в прыжке метнулся в сторону и, неловко распластавшись в воздухе, полетел за борт.
Фесенко закричал что-то, а Лёд, неторопливо отстегнув кобуру, подошел к борту, вспрыгнул на поручень и, шагнув вперед, полетел в море солдатиком следом за тигром. Пока останавливали машину, пока спускали моторную лодку, тигр и Лёд скрылись из виду. На море была небольшая, чередующаяся волна.
Солнце играло в белых шипучих гребнях, оно слепило глаза. Солнце, одно только отраженное в море солнце было видно сейчас. Только не было видно ни Лёда, ни большого тигра.
Все поднялись на капитанский мостик. Все смотрели в бинокли и наперебой давали капитану советы. Когда первая, самая неожиданная и непосредственная опасность минует, люди всегда начинают давать советы. Неважно кому и неважно зачем. Это что-то инстинктивное и необъяснимое в людях...
Один кричал капитану, что он видит тигра «там», и показывал рукой на запад, другой уверял, что человек плывет не «там», а «тут», и показывал рукой на восток. Один предлагал вызвать по радио вертолет, а другой советовал связаться с пограничниками. Все кричали, размахивали руками, мешали друг другу, а особенно капитану.
Тот долго терпел, а потом не выдержал:
– Товарищи, вы меня извините, пожалуйста, только я очень вас прошу, идите отсюда!..
Прошло уже пятнадцать минут, как спустили моторную лодку, которая ходила все увеличивающимися кругами вокруг парохода, но ни Лёда, ни тигра найти не удалось.
Лёд плыл рядом с тигром. Когда тигр набирал слишком большую скорость, Лёд говорил ему:
– Погоди, дорогой, я не поспеваю.
И тигр оборачивался, умно смотрел на человека, плывшего рядом с ним, и останавливался, еле перебирая лапами. Потом они плыли рядом, и Лёд что-то говорил тигру, и тот смотрел на своего спутника круглыми испуганными глазами напроказившего малыша.
Лёд все время менял направление, потому что пароход часто ломал курс, поворачивая из стороны в сторону.
«Они ищут нас, – подумал Лёд, – и не могут найти из-за волны».
Лёд сжал ноги, вобрал в себя побольше воздуха и подпрыгнул что было сил. Тигр испуганно шарахнулся в сторону. Звери, как и люди, часто боятся того, чего не могут сделать сами.
– Не бойся, – сказал Лёд отдышавшись. – Я хочу, чтобы они нас увидели.
Тигр быстро уплывал в сторону от парохода. Лёд погнался за ним, упрашивая зверя:
– Да погоди же! Они так потеряют нас совсем! Потонем ведь! Стой, говорю!
Тигр замер, а Лёд, не рассчитав скорости, не смог вовремя остановиться и врезался в желто-коричневый бок зверя. Он уперся ладонями в бок тигра и зажмурился. Сначала страх оглушил его, а потом первым ощущением, которое дошло до сознания, была дрожь. Тигр дрожал, как простуженный больной человек с высокой температурой.
И тогда Лёд открыл глаза и потрепал тигра по голове, совсем не чувствуя страха, и сказал ему спокойным голосом, так же неторопливо, как и Фесенко:
– Не бойся, дурашка, они найдут нас...
Теперь он плыл совсем рядом с тигром. Он теперь плыл очень медленно, потому что здорово устал и тигр тоже устал, а пароход был по-прежнему далеко, еще дальше, чем был раньше, а маленькие волны с белыми солнечными гребешками шли одна за другой, то и дела сбивая дыхание, которое стало прерывистым и тяжелым.
– Подожди-ка, – попросил Лёд тигра, – дай-ка я отдохну на тебе, а?
И, ласково похлопывая тигра левой рукой, он обнял его правой и замер так, отдыхая.
Отдышавшись, Лёд сказал:
– Ты только не бойся. Я хочу, чтобы они увидели нас.
Лёд отплыл чуть в сторону и стал выпрыгивать из воды, размахивая над головой руками. Он долго прыгал, размахивая над головой своими длинными руками. Он прыгал так, выбиваясь из сил, захлебываясь. Он прыгал так до тех пор, пока пароход не завалился на правый борт и не дал самый полный – прямо сюда, к нему, к Лёду, и к тигру, который был рядом...
Первым на сходни взобрался тигр. Он влез с большим трудом, потому что очень устал в воде и все тело его дрожало. Он пошел вверх, шатаясь, низко опустив голову. Следом за ним, тоже шатаясь, шел Лёд. Тигр вышел на палубу и лег. И Лёд поднялся на палубу и лег рядом с тигром. На палубе не было ни души, только тигр и человек, лежавшие рядом, голова к голове.
Люди стояли на капитанском мостике и молчали, не зная, что делать. Фесенко несся к пароходу, стоя на носу моторной лодки. Он кусал ногти и вертел головой из стороны в сторону, как большая птица.
А Лёд лежал рядом с тигром и старался отдышаться. Потом он поднялся, легонько хлопнул тигра по заду и сказал ему:
– Пошли!
Тигр поднялся и пошел следом за парнем, который вел его в клетку... Когда Фесенко взбежал на палубу, большой тигр уже сидел в клетке.
– Где парень? – спросил Фесенко.
– Пошел обедать в кубрик, – ответили ему.
Фесенко, весь сразу обмякший и постаревший, поднялся к себе в каюту, достал из стенного шкафа бутылку коньяку, налил полный стакан и, выпив его одним махом, повалился в кресло.
ТРОПА
В конце сентября тайга сделалась гулкой и пустой. В ней появился новый цвет – осторожный, сероватый, кое-где переходящий в синеву, а это серо-синее было иссечено коричневыми стволами деревьев и черными ветками.
Мне надо было уйти с охотничьей заимки возле Синих Падей, где, ожидая начала белковья, стоял лагерем промысловик Саша. Я должен был добраться до села Чары. Оттуда раз в неделю в Читу ходил ЛИ-2.
Когда я сказал Саше, что дальше в тайгу я не смогу пойти, он понимающе усмехнулся. Прикурив плоскую сигарету от уголька из костра, он глянул на меня своим фиолетовым глазом, чуть подмигнул и лег на землю, сплошь усыпанную желтыми опавшими листьями. Поставив себе на грудь маленький транзисторный приемник, он стал искать музыку.
Красненькая шкала цеплялась за разноязыкий говор и вырывала резкие музыкальные фразы из таинственного мира радиоволн.
– Один не выберешься, – сказал Саша, – здесь тропа с переры вом. Теряется здесь тропа. Дошлепаем до Распадка, там лесосплав, там и решим.
В Распадке, опустевшем к осени, сейчас жили три человека: медсестра Галя, сторож (в тайге эта должность выглядит довольно смешным новшеством) и начальник сплавконторы, который дожидался приказа, чтобы уйти в Чары.
Но приказа все не было, и он сидел в Распадке, играл со сторожем в карты и домино, а по утрам уходил ловить хариусов в стеклянной мутно-зеленой заводине. Начальник, с которым Саша был дружен, отпустил медсестру Галю на три дня раньше срока, благо лечить здесь было некого. И на следующее утро мы пошли с Галей через тайгу в Чары.
Саша проводил нас до мосточка, переброшенного через ручей. Он стоял на мосточке долго – до тех пор, пока мы не свернули с дороги в тайгу.
Маленький нежный якут с фиолетовыми глазами и тонкими руками танцовщицы – хороший мой товарищ, который умел и молчать, и смеяться, и пить спирт, когда наваливалась мильонозвездная ночь, и находить в кромешной темноте оленей, если надо было уходить от дождя с гольцов в чащобу, и не смеяться, когда ты неловко грохался со скользкой древесины в ручей, – словом, который умел быть другом, а это, как известно, редкостное и ценное качество.
Галя шла по тропе быстро, словно куда-то опаздывала. Она шла впереди, я – за ней. Мушка ее тозовки раскачивалась в такт шагам. Иногда девушка принималась высвистывать песенку, но каждый раз, едва начав, обрывала себя и прибавляла шагу.
– Нам далеко? – нелепо спросил я.
– Километр с гаком, – ответила девушка не оборачиваясь. – Только здесь гак особый, таежный. В одном гаке от пяти до ста километров, точно пока еще никто не замерил.
Я засмеялся. Девушка впервые за все время обернулась: курносая, с черной челкой на лбу, глазищи голубые, круглые, на щеках рыжие веснушки.
– Ты местная? – спросил я.
– Ну да! Я столичная, с Иркутска.
– Давно здесь?
– По распределению. Третий год.
– А самой сколько?
– Старуха.
– Значит, двадцать два, – предположил я.
– Ну да! – фыркнула девушка. – Двадцать два – это уже бабка, а я не бабка, а пока просто старуха. Двадцать мне.
Мы вышли из мрачного серого перелеска на взгорье. Перед нами в низине лежали два озера. Одно было длинное, формой похожее на Байкал, а второе круглое, как сковорода. Длинное озеро было прозрачное, а круглое – черное, маслянистое. Посредине черного озера сидела стая белых уток. Они казались белыми из-за того, что подкры-лышки у них были светло-голубыми.
На черной воде светло-голубые линии крыльев были видны издали, и они-то делали уток белыми. Это была последняя утка, северная, она шла по ночам огромными табунами, и мы слыхали посвист их крыльев: стаи были громадные, проносились низко и стремительно, будто реактивные истребители при взлете.
Галя долго смотрела на черное озеро и на белых уток. Вокруг было тихо, только иногда где-то далеко в тайге сухо потрескивал валежник. Но этот потреск еще больше подчеркивал тишину; без него тишина не была бы столь слышимой и величавой.
Девушка вздохнула и начала тихонько высвистывать песенку про тишину. Потом резко оборвала себя, грустно чему-то улыбнувшись.
– Ты отчего ни одну песню до конца не свистишь?
– Нельзя. Если свистеть – денег никогда не будет. С забывчивости свищу, вроде Леньки.
– Это какого ж?
Галя ничего не ответила, только мотнула головой. Лес теперь был низкий, все больше сосны с расплющенными кронами, будто с японских рисунков по фарфору.
Внезапно Галя остановилась, махнула мне рукой, чтобы и я стал. Она сняла с плеча мелкашку, приложилась и выстрелила – почти не целясь, по-мужски. Что-то мягко стукнулось об землю. Галя сразу же после выстрела ринулась к сосенке и подняла красно-серую белку.
Она положила ее в сумку и наставительно сказала:
– Шкурка шкуркой, а гуляш с нее тоже – сплошное объеденье.
Рыжее солнце, иссеченное черными стволами сосен, было низким и холодным. В воздухе высверкивали серебряные струны паутины. Иногда среди синей хвои загоралась красная листва клена.
Я вспомнил шпаликовскую песенку:
Клены выкрасили город
Колдовским каким-то цветом.
Это значит – очень скоро
Бабье лето, бабье лето...
...Часа в три мы остановились на отдых. Я срубил сухое дерево, и мы разожгли костер. Галя пошла за водой. Она шла и прислушивалась. Она ступала осторожно и мягко. Сделает несколько шагов – и станет.
Поворачивает свое курносое голубоглазое лицо из стороны в сторону, словно принюхивается.
Потом она скрылась в чащобе. Я ждал ее, глядя в костер. Пламя было белым, обесцвеченное солнцем. Девушка изредка покрикивала, и я отвечал ей. Она вернулась с котелком, в котором была синяя вода. Эта синяя вода пахла морозом и хвоей.
– От такой воды год жизни прибавляется, – сказал я.
– День, – очень серьезно поправила меня девушка, – это уж точно, как медработник говорю.
Она отстегнула топорик с красной пластмассовой рукоятью и начала рубить два сухих дерева.
– Зачем? – спросил я. – На костер хватит и одного.
– А я не для костра.
Девушка срубила сухие деревья, сделала из них указатель и вырубила по стволу: «Вода». А подумав, добавила: «Мин. вода».
– Там этот родник, – сказала она, – здесь иногда встречаются эти родники, они целебные, силы прибавляют. Вот я оставлю указа– тель для того, кто двинется следом. Мы ж тут первыми идем, тут раньше никто не ходил, это прямиком дорога.
– Заблудимся.
– Ну да! А компас зачем?
Мы выпили по большой кружке дымного чая. Большие чаинки плавали поверху. Галя поддела чаинку кончиком своей аккуратной наборной финки, а потом спрятала за шиворот.
– Это зачем? – удивился я.
– К подарку, – ответила девушка и засмеялась. – Обязательно будет подарок, если всплыла такая громадная чаинка. А если ночью над домом гуси кричат, значит получишь телеграмму. Я проверяла, знаю... Ну, двинем...
И мы пошли дальше. И снова девушка вышагивала впереди, и мушка ее тозовки кувыркалась в такт шагам, словно ванька-встанька. Мы перешли обезводивший ручей по серой шершавой гальке. На том берегу начался бурелом, лес был частый, жуткий, увит ссохшимися жгутами дикого хмеля.
Галя вытащила топорик и, когда идти становилось особенно трудно, ловко помогала себе, прорубаясь сквозь сухой бурелом. Мы шли долго. Лоб и виски стянул пот. Я оглянулся: позади нас в замшелом буреломе тянулась отчетливо заметная каждому тропа.
А вскоре мы выбрались к реке. Это была Чара, самая красивая река из всех, какие я видел в жизни. Она глубока, метров пять, не меньше, но вся видна на просвет. Даже разноцветные громадные камни на дне. Мы долго стояли на берегу и смотрели, как среди громадных разноцветных камней по дну навстречу течению – рокочуще-стремительному – медленно плыли большие, жирные рыбы. Можно долгие часы смотреть, как живет река.
Девушка разглядывала дно зачарованно, и курносое лицо ее было одухотворенным и прекрасным.
Дальше мы шли по тропе, вдоль реки. И как-то совсем не думалось, что мы прорубились сквозь чащобу и оставили людям новую короткую тропу, которой раньше вовсе не было. В Чары, на поле, где садится самолет, мы вышли, когда солнце ушло, небо стало прозрачным, и студеным, и необычайно высоким, и в нем медленными линиями выстроились громадные косяки гусей.
– Ну, пока, – сказала Галя, – счастливо долететь.
– Спасибо тебе. Куда теперь?
– Куда пошлют, туда и полечу.
Она пошла по мощеной широкой дороге, которая вела к большим домам села. Среди двухэтажных сборных домов ее фигурка показалась вдруг неуклюжей. А в тайге, когда мы шли с ней, она была необыкновенно грациозна и хороша в лыжных брюках, коротких сапожках, с финкой, мелкашкой и топориком – женщина, о которой всю жизнь мечтал Джек Лондон.
Я слышал, как она тихонько насвистывала: в вечерней тайге звуки не исчезают сразу, они долго сохраняются в воздухе. Я подумал, что если когда-нибудь стану писать об этой нашей дороге из Распадка в Чары, то рассказ назову «Девушка, которая оставляет тропу». Это было дьявольски хорошо: осенний лес, косяки гусей, громадная тишина и маленькая девушка впереди.
Все это заставляет вспоминать настоящую поэзию, и звучат в памяти строки:
Глухая пора листопада,
Осенних гусей косяки,
Расстраиваться не надо,
У страха глаза велики.
Пусть ветер, рябину занянчив,
Все стонет под нашим крыльцом,
Порядок творенья обманчив,
Как сказка с хорошим концом.
Taм все так же, как здесь, в Центральной России. И люди там такие же, только, может, самую каплю иные, и реки там такие же, только чуть-чуть отличаются от здешних, и леса такие же, только там больше хвои.
МОЙ ГИД
Я шел мимо одесского базара. Я любовался тем, как чумазые малыши, растирая по своим рафаэлевским мордашкам сок, уплетали желто-синие персики. Я смотрел, как рыжие кузнецы, матерясь и вытирая веснушчатые руки о кожаные фартуки, подковывали колхозных лошадей. Я слышал смех женщин, привезших на базар домашнюю кровяную колбасу.
Базар шумел, базар гремел веселым довольством и доброй сытостью. Я не видел здесь картин с лебедями и синими девами, вылезающими из тины пруда. Я не слышал пришептываний барышников.
Я видел базар изобилия. Я видел за прилавками не пьяных мужиков, а краснощеких, арбузогрудых колхозниц. И я радовался этому базару, и никто не посмеет упрекнуть меня за эту мою радость.
Когда я остановился у кузни, ко мне подошел курчавый голубоглазый мальчик в школьной аккуратной форме и спросил:
– Дядя, вы кого-нибудь ищете?
– Да, – ответил я.
– А кого вы ищите, дядя?
Я не смог бы ему точно объяснить, кого я ищу и что я ищу. Поэтому я ответил:
– Я ищу, где здесь продается мороженое.
Лицо мальчика засветилось при слове «мороженое», и он с невы– разимым сожалением спросил меня:
– Ну и где же вы ищете? Вы считаете, мороженое есть в кузнице? Так его там нет.
– Ты думаешь?
– Дядя, – сказал мальчик, – когда я говорю, так я уже не думаю. Когда я говорю, тогда я знаю.
Я потрепал его по африканским жестким кудрям. Он улыбнулся мне ртом, в котором зубы были разбросаны, как кукурузные зерна, но только рукой сильно подвыпившего сеятеля.
– Вы не одессит, – сказал мальчик, все так же ослепительно улыбаясь, – и вы даже не человек с Украины. О, у меня хороший глаз на приезжих! Может, показать вам наш город? У меня есть немного свободного времени.
– Покажи, – попросил я, – буду тебе благодарен.
– Ах, дядя, мы же не дипломаты, к чему вы так говорите!
Мы гуляли по городу часа три. Мой курчавый гид говорил так:
– Что я вам могу объяснить за дюка Ришелье? А ничего! Зачем говорить за дюка, когда о нем все сказали мушкетеры? И за Пушки на я вам тоже ничего не буду говорить. Я вам только напомню, что уж если кто и любил Одессу, так это Пушкин. И что я расхваливаю Одессу! – вдруг спохватился Витька. – Хорошенькое дело, я расхва ливаю Одессу! У вас есть глаза – так смотрите!
Мы стояли на набережной и смотрели на порт, где поворачивали свои цыплячьи, жалкие шеи многотонные портальные краны. Мы смотрели на корабли, стоявшие на рейде. Мы смотрели на зеленое море, на белые домики и на синее солнце.
– Дядя, – потянул меня Витька за руку, – пойдемте, дядя, я свожу вас в Музей обороны. Там есть пистолеты в стендах.
– Ты думаешь, это очень интересно – пистолеты в стендах?
– Дядя, если вам выпало счастье воевать, так мне этого счастья не выпало.
– Ты убежден, что воевать – это счастье?
– Когда пистолет, тогда всегда счастье, – убежденно сказал Витька, и мы пошли с ним в музей.
Он ходил по холодным залам и завороженно глядел на оружие. Потом мы снова вышли на звенящую, солнечную одесскую улицу, и он спросил:
– Ну, как вам город?
– Прекрасный город.
– Вы рано сказали, что это прекрасный город, дядя. Если вы не посмотрите кино Гриши Поженяна «Жажда», вы ничего не поймете за Одессу, дядя.
И мы пошли смотреть кино Гриши Поженяна «Жажда». Пока мы стояли в очереди за билетами, Витька говорил:
– Я вам скажу честно, дядя, я пока еще нигде не был, кроме Одессы, хотя могу сплавать в Батуми, когда захочу, потому что мой брат работает на «Победе» коком. А я не был в Батуми. Вы спросите: «Почему?» И я отвечу так: «Не хочу уезжать из Одессы даже на день». И если мне говорят, что в Батуми можно купаться в декабре, так, вы думаете, это сообщение делает меня несчастным? Нет. Не делает меня несчастным, хотя я люблю купаться. А вы любите купаться?
– Люблю.
– Вот видите! Все люди любят купаться, когда отдыхают. А когда есть школа, тогда не до купанья, так ведь?
– Да, – согласился я. – Ты, конечно, прав.
– Дядя, – сказал Витька, когда мы вышли из кинотеатра, – только скажите мне честно: вы советский гражданин?
– Советский. А ты что забеспокоился?
– Пограничный город, – пояснил Витька, – все-таки опасно так откровенничать, как я. Мой дедушка говорит, что пока Эрхард в Западной Германии работает президентом, нельзя быть очень-то откровенным. А скажите, дядя, вы, случаем, не торговый моряк?
– Нет, – признался я, – к сожалению, нет.
– Ай-яй-яй! – покачал головой Витька. – А мне почему-то показалось, что у вас есть обменные марки.
– И обменных марок у меня нет.
– Я понимаю, – вздохнул Витька, – ну что же, мне пора.
Этот разговор происходил рядом с мороженщицей, и Витька, задавая мне вопросы, то и дело поглядывал в ее сторону.
Я подошел к мороженщице и купил самое большое мороженое, какое только было. Витька вожделенно развернул его и начал аккуратно облизывать шоколад острым языком, сложенным в трубочку.
– Дядя, – сказал он, – я понял, что вы добрый человек, дядя. У вас есть бумага и ручка?
– Нет.
– Тогда подождите меня здесь минут десять, я очень прошу вас.
Витька юркнул в подворотню. Я ждал его минут восемь.
Он вернулся запыхавшийся. В руках он держал пузатый портфель.
Он вытащил оттуда ручку и лист бумаги, вырванный из тетради.
– Дядя, – попросил он, – напишите в школу, что я помогал больной старушке добраться до дому.
– Ты пропустил уроки?
– Дядя, – ответил Витька, – мне больно отвечать на ваш вопрос.
Я написал ему записку, и он ушел, напевая что-то веселое.
КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ
В конце июня 1952 года два фельдъегеря из Кремля приехали к директору Первой образцовой типографии имени Жданова; в сером низком небе – третий день собиралась гроза, парило – угадывалось рождение рассвета. Был четвертый час утра.
Директор типографии и секретарь парткома, бледные от волнения, вручили подтянутым капитанам пакет.
– Развяжите, – коротко приказал один из фельдов, квадратный, чуть кривоногий, налитой.
Директор типографии развязал шелковую ленточку (доставали загодя, обращались в Минвнешторг, те прислали пять метров импортных лент трех цветов).
Фельд открыл свой кожаный, довольно потрепанный портфель черного цвета, уложил в него десять книжечек небольшого формата, в красном сафьяне, с золотым тиснением, молча козырнул и вышел; следом за ним, прикрывая спину товарища, мягко прошагал второй.
...В час дня, когда Сталин проснулся, эти книги в сафьяне после соответствующей проверки химиками – затаившиеся враги народа по сю пору мечтают отравить генералиссимуса, ни один предмет из внешнего мира не должен попадать в руки вождя без надлежащего контроля ученых МГБ – были вручены ему начальником охраны.
Сталин взял книгу в руки. Еще с семинарских времен он относился к Слову как к первоначалию бытия, почтительно, с долей мистического страха: из ничего рождалось нечто, на века; только книга есть единственное выявление Памяти человечества, да и архитектура, пожалуй.
Прежде всего он посмотрел на последнюю страницу с выходными данными: тираж восемь миллионов триста семьдесят пять тысяч, каждый член ВКП (б) должен иметь его биографию; усмехнулся, заметив номер Главлита: А-04305; на том, чтобы и его книга была выпущена в свет цензурой, настоял сам, повторив на заседании Политбюро свои давние слова: «Что Сталин? Сталин человек маленький. Пусть охранители государственных тайн почитают его биографию, возможно, возникнут какие-то вопросы, поспорим, без сшибки мнений жизнь мертва, сие – диалектика...»
Хрущев и Булганин переглянулись; хотя Сталин и не смотрел в их сторону, однако сразу же поинтересовался:
– Как я понимаю, Хрущев – против?
Никита Сергеевич заставил себя рассмеяться, смех был тихий, горло сдавил спазм; отрицательно покачал головой, начал писать что-то на листе желтой «слоновой» бумаги...
...Продолжая рассматривать выходные данные, Сталин обратил внимание и на то, что никто не решился поправить его: он, утверждая макет, зачеркнул слово «печатных» листа и поставил «бумажных» – так было принято на Кавказе, когда он переправлял брошюры Авелю Енукидзе для опубликования в бакинской подпольной типографии работ Плеханова, Ленина, Жордания, Троцкого, Мартова; привычка – вторая натура, ничего не поделаешь...
Никто не посмел возразить, когда он вымарал фамилии технических редакторов и корректоров, – Сталин человек грамотный, корректоры ему не нужны, как, впрочем, и редакторы. Сталин привык сам себя редактировать.
Фамилии художника и художественного редактора вычеркнул тоже он, Сталин, заметив составителям биографии – Александрову, Митину и Галлактионову: «Это не “Жизнь животных”, а биография политического деятеля, при чем здесь художники и художественные редакторы?!»
И лишь после того, как он заново просмотрел фотографии, помещенные в книге, оглавление, сноски, – только после этого пробежал – в который уже раз – текст. Каждое слово было знакомо: многое переписывал, порою целые страницы, компоновал фразы, делал купюры. В первом варианте текст его обращения к народу третьего июля сорок первого года был приведен полностью. После долгих размышлений Сталин убрал обращение «братья и сестры» и свою заключительную фразу: «Вперед, на врага, под знаменем партии Ленина – Сталина!»
...Перед обедом приехали врачи, – фамилии их до сих пор толком не запомнил, за тридцать лет привык к своим Вовси, Виноградову и братьям Коганам; сейчас все в одиночках, дают показания Рюмину, читать страшно, звери, оборотни, душегубы в белых халатах.
Новые врачи провели текущий консилиум – все в порядке, никаких отклонений от нормы. Правда, один из профессоров заметил, что надо бы внимательно посмотреть щитовидку.
Услыхав это, Сталин сразу же явственно увидел лицо Крупской: щитовидная железа, при нарушении ее функций, ведет к базедовой болезни. Все что угодно, только не это...
Сегодня на обед к себе никого не пригласил. Последнее время подогревал, а порою и готовил еду сам, на электрической плитке, в своих комнатах.
Обычно, когда приносили обед, наливал суп гостям – Маленкову, Булганину, Хрущеву, Берия, – внимательно смотрел, как они ели, только потом наливал себе – раз живы, значит, яда нет. Господь подарил еще один день, спасибо ему...
Позвал коменданта дачи Ефимова – бедняга был кандидатом в члены партии лет восемь, не мог поехать на Дзержинку на партсобрание, жил здесь безвыездно, – налил ему бульона и, пока тот хлебал, отошел к книжному шкафу, достал книжку Крупской, выпущенную в самом начале тридцатых.
Пролистав несколько страниц, нахмурился. Ефимову сказал уйти, к бульону не прикоснулся, взял карандаш, начал делать пометки на полях, то и дело заглядывая в свою «Биографию»...
Потом достал из кармана медный ключик, отпер заветный шкаф, вытащил оттуда рукопись Троцкого под коротким названием «Сталин», привычно открыл страницу – вещь знал почти наизусть – и прочитал страшную строку: «В юбилейной статье 1918 года (посвящена первой годовщине революции. – Ю.С.) он (Сталин) писал: “Вся работа по практическому руководству восстанием проходила под непосредственным руководством председателя Петроградского Совета тов. Троцкого. Можно с уверенностью сказать, что быстрым переходом гарнизона на сторону Советов партия обязана прежде всего и главным образом тов. Троцкому. Товарищи Антонов и Подвойский были главными помощниками тов. Троцкого”».
Сталин перечитал еще несколько пассажей: «Свердлов огласил письмо Ленина, клеймившее Зиновьева и Каменева и требовавшее их исключения из партии... Чтобы развязать себе руки для агитации против восстания, Каменев подал заявление о выходе из ЦК... Кризис осложнился тем, что в “Правде” появилось заявление редакции в защиту Каменева и Зиновьева (Сталин был одним из редакторов «Правды». – Ю.С.)... Пятью голосами – против Сталина и двух других – принимается отставка Каменева. Шестью голосами против Сталина выносится решение, воспрещающее Каменеву и Зиновьеву вести борьбу против ЦК. Протокол гласит: “Сталин заявляет, что выходит из редакции”... ЦК отставку Сталина отклоняет...
На заседании ЦК 21 октября он восстанавливает слишком нарушенное накануне равновесие, внеся предложение поручить Ленину подготовку тезисов к предстоящему съезду Советов и возложить на Троцкого политический доклад... 24 октября утром в Смольном, превращенном в крепость, происходит заседание ЦК!..
В самом начале принято предложение Каменева, успевшего вновь вернуться в ЦК: “Сегодня без особого постановления ни один член ЦК не может уйти из Смольного”. В повестке дня стоит доклад Военно-Революционного Комитета...
Самое поразительное в том и состоит, что Сталина на этом решающем заседании нет. Члены ЦК обязались не отлучаться из Смольного. Но Сталин вовсе и не появлялся в его стенах. Об этом непререкаемо свидетельствуют протоколы, опубликованные в 1929 году. Сталин никак не объяснил своего отсутствия – ни устно, ни письменно... Дело идет не о личной трусости – обвинять в ней Сталина нет основания, – а о политической двойственности...»
Сталин держал эту рукопись спрятанной в запертом шкафу оттого, что мучительно боялся, как бы это не прочитали дети: нравственная катастрофа, крушение всех иллюзий. Что касается других, его это не волновало уже: история переписана, отредактирована, все протоколы съездов и конференций подогнаны под новую модель общественного мышления; какая может быть вера фашистскому наймиту Троцкому, засланному врагами в состав ЦК?!
Люди теперь будут думать так, как им предписано, не в них дело. Единственно, кого следует постоянно контролировать, – так это историков; кто из них имеет доступ к первоисточникам? Впрочем, в этой стране сейчас не найдется ни одного человека, который бы рискнул назвать черное – черным: масса верующих в него, Сталина, нового пророка Революции, вотрет сапогами в асфальт того, кто посмеет против него выступить; русские – раз поверив – не отступают, вот уж воистину – мужик что бык...
Единственно, что до сих пор ранило и страшило его, так это письмецо Ленина, отправленное Карпинскому: «Большая просьба: узнайте фамилию Кобы (Иосиф Дж...? мы забыли)».
У Карпинского есть семья, помимо книг память хранят дети... Впрочем, решился ли он – после уроков тридцать седьмого – рассказывать своим об этом документе? Вряд ли. Ну а если и решился? Теперь никому нет веры, кроме него, Сталина.
Заварив себе крепкого чая – Чарквиани присылал лучшие абхазские сорта, – Сталин взял с этажерки зачитанный им пятый том «Собрания» своих сочинений, сразу же открыл нужную страницу, на которой он, в далеком двадцать третьем году, приводил цитату: «Перерождение “старой гвардии” наблюдалось в истории не раз. Возьмем наиболее свежий и яркий пример: вожди и партии II Интернационала. Мы ведь знаем, что Вильгельм Либкнехт, Бебель, Каутский, Бернштейн, Лафарг, Гед и другие были прямыми и непосредственными учениками Маркса и Энгельса. Мы знаем, однако, что все эти вожди – одни отчасти, другие целиком – переродились в сторону оппортунизма...