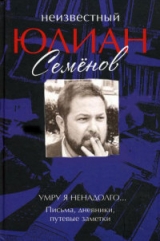
Текст книги "Неизвестный Юлиан Семенов. Умру я ненадолго..."
Автор книги: Ольга Семенова
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 44 (всего у книги 85 страниц)
– Конечно, будет! И продолжается! Совсем недавно я вернулся из Лондона, где встречался с одним из героев книги «Лицом к лицу» – бароном Эдуардом фон Фальц-Фейном, родители которого (Фальц-Фейн и Епанчина) являются выходцами из России. Строки из его письма, которое я привез с собой, – ответ на ваш вопрос: «Мне доставляет большое счастье передать в безвозмездный дар нашей Родине бесценные сокровища русской культуры: картину великого русского художника Константина Коровина, рисунки Михаила Ларионова, Александра Шервашидзе и Сержа Лифаря, спасенные мною во время распродажи в Лондоне... Хочу надеяться, что я и мои друзья будем получать помощь в нашем деле, ибо дело культуры и мира нерасторжимо».
Итак, как видите, поиск продолжается...
ИНТЕРВЬЮ ГАЗЕТЕ «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА»
Андрей Черкизов, «Комсомольская правда», Вильнюс,
12 января 1986 год
Одновременно два «толстых» московских журнала – «Дружба народов» и «Знамя» напечатали романы Юлиана Семенова «Аукцион» и «Экспансия».
Один не есть продолжение другого. В «Аукционе» писатель и журналист Дмитрий Степанов, альтер эго автора, участвует вместе со своими западноевропейскими единомышленниками в борьбе за приобретение оказавшейся на западе картины Врубеля, выставленной на торги крупнейшей фирмой «Сотби».
Обычное, на первый взгляд, дело оказывается схлестом различных сил, в котором есть победители, проигравшие и даже жертвы...
В общем, все обычно, вполне по-семеновски: «крутой сюжет», напряжение на– растает от первой до последней страницы... Детектив?
«Экспансия» начинается с того, чем заканчивается «Приказано выжить», – встречей Штирлица в Мадриде, на Авениде Хенералиссимо с человеком из ОСС (отдел стратегических служб, будущее ЦРУ) США. Встречей НЕ СЛУЧАЙНОЙ...
Как странно, нетрадиционно для писателя, ведется повествование; медленная, долгая, внимательная экспозиция: интересы, расстановка сил, механизмы – тайные и явные; механика – во всем многообразном взаимодействии, сцеплении шестерен и шестеренок, движение которых и есть – ИСТОРИЯ.
Непривычен и Штирлиц, скорее обороняющийся, нежели наступающий. В первых читательских откликах удивление. Антидетектив? Что ж... С этого и начнем, об этом и спросим у автора романа.
– А-на-лиз... – произносится по слогам, внятно, рассчитано на запоминание. Мне уже приходилось говорить об этом, однако повторяю: «детектив» происходит от английского «to detect» – исследовать. Можно исследовать уголовное дело, отнюдь небезынтересно исследовать и факты истории, пропущенные сквозь людские судьбы. Можно исследовать строку полицейской хроники: кто убил?
Кто ограбил банк? Кто организовал диверсию? Это поиски исполнителя или исполнителей, прямых и косвенных, непосредственных и действующих чужими руками. А можно исследовать причины, которые привели к совершению тех или иных действий.
– Не претендуя на какое бы то ни было сравнение, хочу задать вопрос: «Преступление и наказание» – детектив?
– В какой-то мере – да. Я бы сказал: психологический.
– Разве он по правилам сделан? Убийца известен почти с первых страниц. Не по правилам...
Но все настоящее, талантливое – всегда не по правилам. Как доставалось Федору Михайловичу за нетрадиционное построение сюжета!
– А Модильяни, когда он принес свои работы Ренуару, просто-напросто был выгнан из ателье.
– Вот-вот. Должно быть, не случайно гениальный Достоевский ломал каноны. Ему не важно было «кто», а важно было «КТО» и «ПОЧЕМУ».
– Не понял?...
– Не в конкретном Родионе Раскольникове дело. А в появившемся новом по отношению к тому времени и к той России социальном типе: нищем интеллигенте – разночинце, метящем в «наполеоны».
Дважды Достоевский, всякий раз, правда, под другим углом зрения, обращается к этому явлению – в «Бесах» и в «Преступлении...» Как это? Почему?
Зачем раскололось общество на тех, кто взял на себя право убивать, и на тех, которых можно УБИВАТЬ?! Откуда это? Раскольников – не герой и не антигерой, не тип и не типаж, а анализ ситуации.
Стало быть: КТО? Второй вопрос: ПОЧЕМУ? Каковы глубинные механизмы, каким образом переплелись невидимые соци– альные, этические, бытовые нити, в пересечении которых и родилось преступление?
– Однако когда читаешь «Аукцион», напряжение почти детективное...
– Спасибо. Вот ты сказал: «крутой» сюжет. Но если под сюжетом понимать нечто хорошо придуманное и точно выстроенное, то ничего подобного там нет.
– То есть?
– Я был в Ялте и радостно писал «Экспансию». Однажды ночью раздался телефонный звонок, и мой хороший друг, барон Эдуард фон Фальц-Фейн (русский по происхождению, сын основателя «Аскания-Нова», один из руководителей «Комитета за честное отношение к произведениям русской культуры, оказавшимся на Западе». Кроме Э. фон Фальц-Фейна в него входят Ж. Сименон, Дж. Олдридж, до последних дней своей жизни принимал участие в его работе М. Шагал. Подробнее об этом можно прочитать в книге Ю. Семенова «Лицом к лицу». – А.Ч.) поведал, что «Сотби» готовит к распродаже коллекцию Сержа Лифаря, доставшуюся ему от Дягилева.
Когда я оказался в Лондоне и втянулся в дело, то испытал потрясение. Увидел,как мертвой, бульдожьей хваткой вцепляются в произведения русского искусства те, кому противна сама идея диалога.
– Почему? Какое отношение Врубель имеет к диалогу?
– Выходит, самое непосредственное. Начну по порядку. Отношение к русскому искусству на Западе двоякое. Одни видят в нем явление, достойное созерцания, преклонения.
Говорю так не только потому, что речь идет о культурном наследии моего Отечества, но и потому, что на Западе прекрасно понимают: без Петра Ильича Чайковского, Сергея Васильевича Рахманинова, Сергея Сергеевича Прокофьева, Игоря Федоровича Стравинского современной музыки быть не может.
Как не может быть современной живописи без Врубеля или Кандинского, Шагала или Малевича. А театра – без Станиславского, Мейерхольда и Вахтангова, балета – без Фокина и Ни-жинского, Дягилева, Карсавиной. Так вот, одни в этом видят явление, а другие – в явлении видят деньги, которые туда можно вложить и получить прибыль. Палец о палец не ударив. Это если рассечь по одной плоскости.
Есть и другое рассечение. Первые считают, что произведения русской культуры суть национальное достояние и должно быть возвращено как и память; другие же полагают, что вправе лишить народ и достояния, и памяти. Авось, забудут, а ежели забудут, то за беспамятство ударим, еще раз докажем: нет пророка!
Но вот беда – не забываем; чтим и бережем от забвения.
Срез третий. В борьбе за возвращение объединяются самые различные силы; диалог перерастает в сотрудничество; иным же сие не– угодно: мешает попыткам изолировать мою страну, мешает отсекать честных и здравомыслящих людей Запада от разрядки. Такие вот дела...
Возвратившись домой, я отложил в сторону «Экспансию» и записал роман «Аукцион», практически дневниково изложив происходившее в Лондоне, попытался показать, кто, как и почему помогает или вредит. Так что – нет сюжета, есть правда. А читательское напряжение? Значит, удалось...
– Теперь поговорим об «Экспансии». Вас не огорчают сетования читателей, что в новом романе Штирлиц «какой-то не такой»?
– Но ведь и обстоятельства иные. Закончилась война, кардинально изменилась расстановка сил; начался раскол; англо-американским союзникам показалось выгодным обратить против нас свою политическую активность.
В августе 1945 года начался ядерный век; временная монополия на владение атомным оружием породила опасные иллюзии – будто бы стало возможным разговаривать с Советским Союзом языком силы, языком диктата.
А Штирлиц так надеялся, что после победы возвратится на Родину... Но, увы, теперь уже мало кто помнит, что вернуться домой из франкистской Испании было нелегким делом, тем более что Штирлиц едва стоял на ногах после ранения...
Нам, отдаленным от тех событий дистанцией в сорок лет, известно главное: надежды военно-промышленного комплекса на ядерную монополию не оправдались, как не оправдались их на мерения увидеть мою Родину ослабевшей, подчиняющейся...
Тогда, в сорок пятом, многое только начиналось... Исаев, однако, вовсе не супермен. Я никогда не стремился писать его эдаким сверхчеловеком, который «одним махом семерых убивахом».
Писать так – значило бы идти п р о т и в правды. Сила его не только и не столько в мускулах, хотя и они важны. Сила его прежде всего в непоколебимой уверенности в правоте дела, за которое он борется, в правоте антифашизма, в правоте борьбы против новой войны – вот в чем сила!
– В романе «Экспансия» есть глава «Позиция», в которой рассказывается о самых первых шагах правительства СССР в этом направлении. Какова степень ее документальности?
– Абсолютная. Я глубоко благодарен Андрею Андреевичу Громыко за то, что он нашел возможным рассказать мне о том, как эта позиция вырабатывалась, проводилась в жизнь, о том, что ощущал и как действовал в те годы Чрезвычайный и Полномочный посол СССР в США. История – далеко ведь не только хронология событий; творят историю люди, а потому она – и социология, и психология, и хроника поступков.
Мы не имели бомбы, но мы ее и не хотели. Мы боролись против бомбы. Нас не поддержали; в честности нашей борьбы усомнились: дескать, потому и возражаете, что не имеете. Мы сделали свою бомбу. А борьбу не прекратили. Не мы начали, но мы предполагаем остановиться. Разве не то же самое происходит нынче?
Нас втягивают в качественно новый этап гонки вооружений. Мы не заинтересованы в этом. Мы возражаем и снова предлагаем остановиться. История преподает свои уроки для того, чтобы их усваивали, для того, чтобы на них учились. Забывать их – недальновидно.
– Роман «Экспансия» заканчивается тем, что Штирлиц уезжа– ет в Латинскую Америку...
– Роман «Экспансия» не заканчивается. Опубликована только первая книга романа. Готовится к печати вторая. Будет и третья.
«Экспансия» – новая серия романов о послевоенном мире. Поэтому ощущения, будто первая книга – долгая экспозиция, в общем-то верны. Вначале надо показать узел. Затем – как он распутается.
– Тем более что перед читателем узел-то совершенно новый, о котором мы раньше мало что знали.
– Именно так. Мое приближение к теме «послевоенной нацистской атомной бомбы» произошло в начале семидесятых, когда я делал «Бомбу для председателя», потом в Мадриде, когда встретился и несколько часов проговорил с Отто Скорцени. Кое о чем я смог написать сразу – в «Схватке», в «Лицом к лицу». Иное требовало времени, дальнейшего изучения.
Как вице-президент советского общества дружбы «СССР—Аргентина» я часто бываю в этой стране. Там у меня много друзей, единомышленников.
Они-то и помогли разыскать материалы: книги, ксероксы статей и документов – о том, как в 1946—1951 гг. правительство Хуана Доминго Перона, пригревшее многих нацистов, санкционировало и финансировало работу по созданию атомной бомбы.
Кстати, не только Перон, но Стресснер имел к этому отношение. Действие второй книги романа происходит в Аргентине и Парагвае...
– В Аргентине вы были, а в Парагвае?
– И там побывал. Полтора года назад, когда ездил по Латинской Америке специальным корреспондентом «Известий». О чем и рассказал в своих репортажах. Я убежден: обстоятельства писатель выдумывать может, характеры героев – должен, а вот обстановку, детали – ни в коем случае.
Кто-то из великих сказал однажды: «Литература – это детали». Если литератор хочет, чтобы ему поверили – а иначе зачем писать? – то должен быть максимально точен.
Для этого и езжу по миру. Пять месяцев езжу, семь—пишу, по двенадцать – четырнадцать часов в день.
– Каторга?
– Сладкая... Я, наверное, ничего другого не умею. Надо работать. Литература – это работа. Писатель существует в книгах. А не в болтовне.
– Я застал вас на чемоданах. Снова в дорогу?
– В Афганистан. Затем – Китай, Никарагуа... Но вот что хочу сказать: нынче, уезжая, загибаю пальцы – когда возвращусь назад, домой. Такое время настало, время коренных изменений в Отечестве.
Прекрасное время! Время работы. Время соединения всех усилий во имя Родины. Время, как точно сказал недавно на страницах «Правды» Андрей Вознесенский, «интенсификации совести»!
«СЕМЕНОВ: СТАВКА НА ПРАВДУ»
«Новая Испания», Испания, Хихон, Бланка Альвареc
1 июля 1988 года
Вчера, на открытии «Черной недели», Семенов говорил, что Хихон станет мировой столицей литературы, говорил по-испански, напирая на букву «р», как человек, влюбленный в Испанию.
«Я приехал в Испанию в 1971 году туристом. Никто в это не верил, все думали, что я собираюсь просить политического убежища, а я говорил: “Я патриот России, который приехал для того, чтобы познакомиться с вашей страной, как человек, в нее влюбленный”».
– Откуда такая страсть к Испании?
– Испания – это страсть моего поколения. Я родился в 1932-м. Мы переживали ваше поражение в гражданской войне как собственное поражение, мы приютили ваших детей... мы любим вашу культуру.
– Говорят, что Испания и Советский Союз имеют «параллельно трагические души»
– Я думаю, что это так. Есть множество вещей, которые нас сближают. Знаете что? В 1971 году я предсказал, что Эль Ниньо де ля Капеа будет самым великим тореадором, и не ошибся.
Он смеется, улыбается и сердится, когда не понимает вопроса. «Вы, испанцы, говорите так быстро».
– Как вам все это мероприятие, организованное городом в честь встречи с Вами?
– О, просто замечательно.
«Литература – это правда»
Он раскрывает объятия своей бескрайней человечности, пьет кофе, хотя в эти дни у него побаливает сердце.
– Что вы думаете о людях, которые помещают «черный жанр» ниже всей остальной литературы?
– Что они – снобы. Речь идет об очень плохо подготовленных критиках.
– В Советском Союзе, до весьма недавнего времени, жанр, в котором вы творили более тридцати лет, считался буржуазным.
– Трудно ответить, почему. Это была литература правды, в которой говорилось о преступлениях, злоупотреблениях, организованной преступности. Говорили, что это антикоммунистическая литература. Писать в жанре «черной» литературы стало возможным только двадцать лет назад.
«Защитник перестройки»
– Название «черная» кажется Вам подходящим?
– Да. Хотя у литературы нет цвета, есть качество. – Она продолжает быть революционной?
– Да, безапелляционно.
– Сейчас Ваша страна «в моде» благодаря перестройке.
– Ситуация любопытная. Везде говорят о нас. Смотрят. Ждут, что произойдет.
– Вы – «за». Или, лучше сказать, кажется ли Вам, что это – решение?
– Да. Это важно. Не только для нас, но и для всего мира. Я против «казарменного» социализма.
– Речь идет об альтернативе западничеству? – Нет. У нас больше возможностей. Речь идет о том, чтобы улучшить все то хорошее, что у нас есть.
– Вы верите в то, что может существовать некоррумпированная власть?
– Я – оптимист. Благодаря перестройке у нас больше возможностей, чтобы установить контроль честности наших политиков. Я не оптимист – идиот. Полностью коррупцию уничтожить невозможно. Но ее можно постараться свести на нет. С определенными гарантиями свободы это сделать проще.
– В течение долгого времени говорили, что политический компромисс писателей преуменьшал литературную ценность их произведений. Любая форма компромисса рассматривается как что-то «в плохом вкусе», если не сказать больше. Вы верите в писательский компромисс?
– Абсолютно. Я верю в политику «открытых рук», а не сжатых кулаков. Политика – это не всегда грязные игры. Иногда такой компромисс опасен для литературы и для общества. Какой вид компромисса я принимаю? Если он основан на правде, на истории. Для того, чтобы писать, нужно быть с ними в согласии.
«ВОЗМОЖНА ЛИ СОВМЕСТНАЯ БОРЬБА?»
Валерий Турсунов, «Московский комсомолец
1989 год
По приглашению ряда американских корпораций почетный президент Международной ассоциации детективного и политического романа, главный редактор выпусков «Детектив и политика» и «Совершенно секретно» Юлиан Семенов недавно вернулся из поездки по США. Корреспондент «МК» обратился с несколькими вопросами к писателю.
– Каково главное впечатление от вашей поездки?
– Напряженное, в то же время высоко доброжелательная заинтересованность в том, как развивается наша перестройка. Я довольно часто бывал в Соединенных Штатах, работая с моими издателями, в Академии наук (Нью-Йорк), действительным членом которой я был избран, и от путешествия к путешествию в Новый Свет ощущал зримые изменения в отношении к нам – каждому в отдельности и, что самое главное, – к нашей стране.
Если раньше, в 60-х, 70-х и начале 80-х годов, настороженность по отношению к советским была практически нескрываемой, то в последние два года ситуация разительно переменилась.
Вот один пример – в течение одного дня я получил любезное разрешение американских властей на работу в архивах ФБР, федерального бюро расследований, – без заполнения каких-либо анкет и проставления двух, трех или пяти фотографий.
– Над чем вы работали в архивах ФБР?
– Читатели нашего выпуска «Совершенно секретно», видимо, знают, что еще в первом, июньском, номере нашего бюллетеня мы опубликовали открытое письмо Верховному Совету Союза ССР о необходимости исполнения долга памяти – присвоения выдающимся советским военным разведчикам, героям антинацистской борьбы, товарищам Леопольду Трепперу и товарищу Шандору Радо звания Героя Советского Союза.
Если историческая справедливость по отношению к Рихарду Зорге, безнравственно отданного Сталиным на заклание Токио, восторжествовала, то до сих пор подвиг этих людей, имена которых известны всему человечеству, – герои и создатели «Красной капеллы», – не удостоен той благодарственной памяти, которую они заслужили всей своей жизнью.
В следующем выпуске нашего бюллетеня мы ставили вопрос и о судьбе супругов Розенбергов – были ли они осуждены американским судом и казнены на электрическом стуле подобно Сакко и Ванцетти, или же они действительно были связаны с советской разведкой.
Архив Федерального бюро расследований предоставил мне возможность ознакомиться с рядом документов по делу Этель и Юлиуса Розенбергов. Я намереваюсь продолжить эту работу. Там же, в архиве ФБР, я занимался исследованием неизвестных документов, связанных с убийством Джона Кеннеди. Я опубликовал в Советском Союзе в 70-х еще годах мое личное расследование обстоятельств убийства президента.
Эта книга называлась «Каприччиозо по-сицилийски». После работы в Далласе и Новом Орлеане, которую я провел в 75-м году с помощью американских друзей, позволила мне утверждать, что президент был убит не одиночкой Ли Харви Освальдом, а хорошо натренированной группой террористов.
Даже то недолгое время, которое я провел за столом архивов ФБР, выбирая документы для публикации в Советском Союзе, позволило мне еще более утвердиться в своей позиции, хотя бывший секретарь ЦК КПСС Русаков довольно сурово критиковал мою книгу, напечатанную в том же 75-м году. Полагаю целесообразным продолжить это расследование.
– Скажите, пожалуйста, что ваше издание «Детектив и политика» и «Совершенно секретно» намерены публиковать в ближайшем будущем?
– У нас в портфеле очень много интересных и разнообразных материалов. Нам передали свои книги Джон Вестлейк и Лаура Гримальди, Андреу Мартин и Иржи Прохаска, Стивен Кинг и профессор Вальтер Лакер, Артем Боровик и Рафаэль Рамирес Эрредия, Александр Горбовский и протоиерей Александр Мень, Мартин Крус Смит. Могу добавить, что начиная со следующего года «Детектив и политика» будет выходить 6 раз в году.
– Планируете ли вы, как почетный президент международной неправительственной ассоциации «Детектив и политика» какие-либо встречи, симпозиумы, конференции?
– Да, в апреле этого года мы намерены провести в Ялте (в моем, как и Москва, родном городе, ибо я здесь последние 7 лет пишу все мои книги) международную конференцию на тему «Возможна ли и целесообразна ли совместная борьба против терроризма, мафии и наркотиков МВД, ФБР, КГБ, ЦРУ и таможенных служб двух супердержав».
Согласие руководства соответствующих служб КГБ, МВД и советского Главного управления таможенной инспекции уже получено. Ждем ответа от американцев – от ЦРУ, ФБР и таможенной службы. Мы будем спонсорами этой конференции, примем наших гостей в Ялте, намерены провести переговоры с американским телевидением для освещения этой конференции, ну, и естественно, место для корреспондента «Московского комсомольца» зарезервировано.
– Кто будет оплачивать расходы по конференции?
– Наши американские партнеры должны оплатить перелет из Вашингтона в Москву и обратно. Все остальные траты (на проживание в гостинице, проезд из Москвы в Ялту и т.д.) берут на себя редакции изданий Московской штаб-квартиры МАДПР.
– За счет каких поступлений формируется ваш бюджет?
– За счет продажи наших выпусков.
– Вы богатое издание?
– Не бедное.
– Сколько вы получаете как главный редактор?
– Один рубль в год.
– А на что вы живете?
– Я считаю, что литератор должен жить плодами своего труда.
– На что ваши издания тратят деньги?
– Мы прорабатываем в настоящее время вместе с правительством Карелии и иностранными партнерами проект строительства целлюлозно-бумажной фабрики. Создали предприятие «Ялта-Экспо» совместно с «Аэрофлотом», «зелеными», рядом итальянских, австралийских и, возможно, американских фирм. Туризм – это не только приток валюты, это – мир, узнавание друг друга. Значительные средства мы, следуя традициям русских промышленников конца ХIХ – начала ХХ века, перечисляем в благотворительные фонды.
Сейчас мы открыли палату в 15-й городской клинической больнице для воинов-интернационалистов и товарищей, ставших жертвами сталинских репрессий.
Наше совместное советско-французское предприятие ДЭМ перечислило 100 000 рублей многострадальной Армении, 100 000 рублей в Детский фонд, 100 000 рублей обществу «Мемориал», 100 000 одному из трудовых коллективов, работающих вместе с нами.
– Это первая конференция такого рода в истории отношений между секретными службами Востока и Запада?
– Мне бы хотелось ответить утвердительно, но, к сожалению, я должен сказать «нет». Когда я был в октябре в Лос-Анджелесе, американские кинематографисты передали мне краткий текст, резюмирующий итоги встреч бывших руководителей секретных служб КГБ и ЦРУ, которые провела крупнейшая корпорация США «Рэнд Корпорейшен».
Там встречались бывшие руководители двух организаций, известных всему миру. Мы же намерены пригласить не только отставных руководителей служб, в частности генерала КГБ Щербака, но и – если того пожелает американская сторона – действующих разведчиков и контрразведчиков.
– Как генеральный президент совместного советско-французского издательства ДЭМ и главный редактор международных изданий, выходящих в Москве, «Детектив и политика» и «Совершенно секретно», вы проводили деловые переговоры в Соединенных Штатах об обмене изданиями, продаже вашей продукции в США?
– Да. Это были интересные переговоры. Должен сказать, что в Лос-Анджелесе наши издания разошлись целиком и за очень короткий срок. Были проведены переговоры в Нью-Йорке.
В ближайшее время мы получим ответ из Нью-Йорка о том, как наши американские партнеры намерены распространять нашу продукцию. К нам обращаются многие посольства, иностранные органы массовой информации, аккредитованные в Советском Союзе, с просьбой подписаться на наши издания.
К сожалению, объявить подписку мы не можем – проблема в бумаге, мы ее покупаем по оптовым ценам, но мы намерены организовать продажу наших изданий за валюту здесь, в Советском Союзе. Однако главная наша забота – насытить читательский рынок, ибо мы получаем тысячи писем с одним лишь вопросом: «Где можно купить ваши издания?»
– Эта ваша работа мешает литературному творчеству?
– «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан...» В наше сложное время каждый, кому дорога судьба Родины, должен помогать перестройке, той концепции, которую Горбачев предложил не только Советскому Союзу, но и всему человечеству.
«Общеевропейский дом» – очень важен. Но теперь нет отдельно Европейского дома, Азиатского или Американского. Наш общий дом – маленькая планета Земля. Я убедился в этом, пролетев этим летом через Гренландию – Антарктиду, куда наш сверхмощный «Илюшин» доставил первую трансантарктическую экспедицию.
– Но все же у вас остается время для творческой работы?
– Да. Мои коллеги по работе в «Детективе и политике» и в «Совершенно секретно» делают все, чтобы помочь мне со временем, – именно благодаря их великолепному творческому труду мне удается писать.
Сейчас я заканчиваю очередную «Версию» об убийстве замечательной советской актрисы Зои Федоровой. Первые главы будут опубликованы в этом месяце и в декабре в «Совершенно секретно».
Полностью мои коллеги намерены опубликовать эту работу в «Детективе и политике» в следующем году. Затем я намерен написать следующую «Версию» – трагическую историю о жизни великого русского драматурга и мыслителя Сухово-Кобылина.
Над этой темой я работаю уже 12 лет. В процессе поисков я столкнулся с ситуацией поистине детективной: знакомясь с архивами III Отделения секретной жандармской службы России (не могу не поблагодарить за помощь в поисках работника архива З. Перегудову), обнаружилось, что «Дела» Сухово-Кобылина, которое было отмечено как существующее, в архивах охранки не оказалось.
Почему? Жизнь Сухово-Кобылина даст ответ на этот вопрос.
«БЫТЬ ДОСТОЙНЫМИ СВОБОДЫ»
Шот Муладжанов, «Московская правда»,
22 ноября 1989 года
– Знаете, мне временами кажется, что мы жутко неблагодарные люди. Мечтали о демократизации, спорили о пути к свободе, и вот она пришла, ее принесла нам перестройка.
Во многих отношениях мы сегодня свободнее, чем люди на Западе. Гласность, открытость у нас выходят на новый уровень. Обретение свободы – самого дорого, что есть у человека, – сопровождается таким противодействием сути и движению перестройки, что остается только диву даваться.
Да, Москва сегодня снабжается не так, как в брежневские времена. Но ведь мы прекрасно знаем, что тогда продукты стягивались в столицу из провинции именно для того, чтобы насытить центр, сгладить внешнее впечатление. А разве ж это справедливо?
Иные подходы вызывают не понимание – ярость. Она обрушивается на ленинскую идею кооперации, а не на тех, кто на ней паразитирует.
Она обрушивается на дающиеся с кровью реформы. И, наконец, ее направляют нацеленно против Горбачева, против тех сил, что позвали нас к этой долгожданной свободе.
Такое ощущение, что назревает желание снова получить диктатора, «сильную руку». Неужели же надо вернуться к николаевской формуле «народу нужен кнут»? Дадим волю спрятавшейся в генах привычке делиться на рабов и хозяев?
Эмоциональное начало нашей беседы с Юлианом Семеновичем Семеновым не должно удивлять.
Известный писатель, чей разведчик Исаев-Штирлиц стал одним из популярнейших литературных и телегероев, подвижник в деле сохранения и возвращения Отечеству реликвий культуры, в последнее время – еще и лидер в таком перспективнейшем бизнесе, как широкомасштабное тиражирование наиболее интересных и значительных произведений в жанре политического детектива.
Все это замешано на натуре страстной, неравнодушной. Хвороба, мучившая моего собеседника в день нашей встречи, не помешала ему рассуждать энергично и резко...
– Меня сегодня очень волнует, и отнюдь не только потому, что это не согласуется с моими собственными симпатиями и оценками, тот факт, что слишком часто «артиллерия бьет по своим», что напад кам – даже со стороны вроде бы прогрессивных сил – подвергают ся инициаторы, поистине подвижники перестройки.
Уходит то ценное время, которое мы должны были бы истово тратить на дело, на реальное движение вперед. А мы, наоборот, словно бы задались це лью иллюстрировать известную фразу о «стране Обломовых».
В этом смысле мне кажется очень характерной реакция на недавнюю научную конференцию экономистов, проведенную под руководством Л.И. Абалкина.
Очевиднее прежнего проявилось сползание вправо тех, кто присвоил право представлять «общественное мнение».
Любая попытка продумать, совершить на солидной научной основе важные шаги в экономике, социальной сфере для этих крикливых, шумных и на редкость хорошо организованных сил – нож в горле.
Они, я уверен, в меньшинстве. Сторонников перестройки куда больше. Однако мы зачастую разобщены, чрезмерно терпеливы и с публичным проявлением своей позиции тянем... Считаю, что надо резче и увереннее защищать перестройку. Прежде всего конкретными действиями.
– Мысль очевидная. Ну а что вы считаете первоочередными делами, которые надо решать на нынешнем этапе? Ведь вот что получается: одни твердят о сознательности, которую надо срочно повысить для движения вперед в экономической, социальной и иных сферах. Другие...
– Я все же ближе к «другим», если пользоваться вашей классификацией. Коль уж скоро мы приняли классическую формулу «бытие определяет сознание», так давайте менять в первую очередь именно бытие. А когда призывы к подъему инициативы, сознательности, предприимчивости и прочих полезных качеств сопровождаются процветанием сотен тысяч (!) нормативных актов, всячески тормозящих любой новаторский или просто хоть чуточку неординарный шаг, это может только отвращать творческих людей от дел. И способствовать злоупотреблениям со стороны «власть предержащих» чиновников, расцвету коррупции.
– Тут мы подошли к теме, которую никак нельзя обойти в беседе с автором популярнейших детективов, знатоком криминального дела. Итак – коррупция, организованная преступность, «бум» уголовщины... Что происходит? Где корни тревожной нынешней ситуации?
– Это мягко сказано – «тревожной». Положение очень тяжелое.
Оно усугубляется, повторю, тем, что рост преступности провоцируется стойкостью разного рода запретов, позволяющих бюрократу изрекать классическое «не дам, не пущу, не позволю».
Сама по себе организованная преступность – дело совсем не новое. Знаменитая в сороковых годах «Черная кошка» была вполне оформившимся преступным бандформированием – со «штабом» и «филиалами».
– Но можно ли ее равнять с нынешними крупными бандами? Разве тогда преступники имели столь тесные связи с ответственными работниками разных ведомств? Разве бандиты ворочали миллионами?
– По поводу «оборота» преступных организаций можно бы и поспорить. А вот коррупции в нынешнем виде тогда точно не было. Не думаю, что чиновники в те времена были сознательнее нынешних. Но их ведь усиленно «подкармливал» «великий кормчий».
Известна система конвертов, в которых руководящие работники регулярно получали доплату – и значительную – к основному заработку. При Н.С. Хрущеве «конверты» отменили. Справедливость восторжествовала. Но что получилось?








