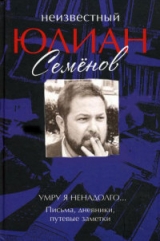
Текст книги "Неизвестный Юлиан Семенов. Умру я ненадолго..."
Автор книги: Ольга Семенова
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 45 (всего у книги 85 страниц)
По уровню зарплаты сегодня советский работник входит, скорее, в категорию малоимущих. Его месячного дохода может и не хватить на покупку одной пары сапог для жены. А тут – за один росчерк пера, «почти законный» – «годовая премия».
Соблазн велик. Понятно, что причины коррупции нельзя сводить только к этому. Но во многих случаях именно сочетание системы запретов по мелочам приводит к злоупотреблениям, к втягиванию честных в прошлом людей в преступные дела.
– Получается, что если мы сейчас резко поднимем оклад – жалованье ответственным работникам, то коррупция сгинет?
– Во всяком случае база ее ослабнет. И ряды коррумпированных деятелей будут пополняться не так интенсивно. Однако это лишь «местный наркоз».
Чтобы по-настоящему лечить болезнь, надо резко сокращать количество запретительных, ограничительных актов, перейти от слов о поощрении предпринимательства и инициативы к делу. Свобода слова должна подкрепиться свободой творчества – не только в искусстве, но и в бизнесе.
Это, кстати, относится не к одной лишь проблеме коррупции. Я как-то заинтересовался тем, кто идет в рэкетиры. Понятно, что многие из них – испорченные, грубо говоря, шальными деньгами ребята. Но есть и просто отчаявшиеся найти честное применение своей энергии, своему желанию нормально за– рабатывать, хорошо жить.
Абсолютно уверен, что рэкет в какой-то степени – уродливое проявление системы запретов и ограничений. Не только развлечения, а и школы бизнеса, предпринимательства могли бы нам помочь.
И еще об одном эффекте «забора» из нормативных актов хочу сказать. Толковые хозяйственники, лучшие директора – преступники, если пользоваться формальными мерками. Без нарушений план не выполнишь, прибыль не получишь.
Необходимость преступать разросшиеся, устаревшие инструкции, нормы, положения не только растлевает людей, но и порождает эффект неуверенности, нестабильности.
Убеждает, что для хорошего дела можно и нарушить...
– А чем, собственно, можно заменить нормативные акты? Новыми, более совершенными?
– Зачем? Давайте обратим свой взор к иноземным демократиям. Там жизнь регулируется законами и рынком, а не нормативными актами. Без выхода на этот уровень нам не стать членами международного экономического сообщества.
Повторяю, что борьбу с преступностью считаю больше проблемой экономической, чем юридической. Да, правоохранительные органы надо и оснащать иначе, и кадрами укреплять, и труд их оплачивать иначе. Но только это радикально ситуацию не изменит.
При этом очень важно социальное преломление экономического развития. Уж не буду трогать скудность прилавков в магазинах. Но как быть с тем, что кафе и ресторанов в РСФСР меньше, чем в одном Париже? И открытие нескольких кооперативных картину не изменит...
– Тем более что цены, которыми они потчуют горожан, по карману разве что их же собратьям-кооператорам. Или еще узкому кругу высокооплачиваемых людей. Но вот ведь штука: даже после десятикратного увеличения числа кооперативных кафе цены в них не понизились. Экономика останется прежней для отдельно взятого кооператора.
– Безусловно. Потому что необходимы цепочки, начинающиеся с производителя продукта, в данном случае с сельскохозяйственного участка. Разрешат кооператору покупать там продукты? Нет. А где же их еще купить? На рынке? Легче найти лазейку через «черный ход».
Предприимчивый человек купил бы землю и стал бы партнером нескольких кафе и магазинов. Но как ему это сделать? Опять упираемся в нормативные акты. И так во всем. Препоны и рогатки – на каждом шагу. Инициатива без поощрения – ерунда.
Америка – при всех ее проблемах – рванула вперед. Среди прочих причин: нет запретов. Там считается нормальным желание чело– века стать миллионером. У нас, похоже, предпочитают всех подравнять под бедных.
Почти как у Достоевского в «Бесах». «Все равны и каждый пишет донос друг на друга». В Штатах снизили налоги и утроили количество миллионеров...
– Да, «равенство по карточкам» мало кого может устроить. И требование дать свободу предпринимательству, «открыть шлюзы» звучит все чаще. Но почему в подобных случаях происходит непонятное? Если на Западе расширение демократических свобод способствует дальнейшему насыщению потребительского рынка, то у нас – дальнейшему обеднению?
– Во-первых, мне кажется, сейчас нарастает организованный саботаж перестроечных реформ, сливаются интересы мафии и тех коррумпированных элементов системы управления тех непорядочных чиновников, о которых мы говорили.
Спекуляция на дефиците и дестабилизация общественного мнения устраивают, к сожалению, многих. Борьба против этих многих идет вяло. Вот о чем надо подумать и профсоюзам, и окончательно застывшему в своих сомнениях комсомолу.
Нельзя же все проблемы вешать на партию. Клянусь, что никому в Республиканской партии США не придет в голову давать указания о сроках разгрузки вагонов.
– Понимаю природу ссылок на американские примеры – вы только что вернулись из поездки в США. Вижу на столе листы с грифом ФБР. Секретные документы?
– Вот, кстати, еще одна информация для размышления. Секретный документ секретной службы. Но мне его могут скопировать, предварительно закрыв, замазав специальным составом те места, кото– рые огласке не подлежат.
Вот и получил для очередного выпуска «Совершенно секретно» (редактируемое Ю. Семеновым издание, пять номеров которого уже известны читателям), интереснейший материал.
Мы же предпочитаем запретить, а не найти разумный выход. Задумываешь явно перспективное дело. Уж детектив-то у нас точно – остродефицитный товар.
Но сколько же барьеров на пути серии «Детектив и политика», сколько раз нас по сути толкали на преступление. Московская штаб-квартира Международной ассоциации «Детектив и политика», честно говоря, попала в такое переплетение бюрократических тенет, что не всякий сыщик бы распутал...
Решили, скажем, позаботиться об отдыхе наших работников. Эстонские товарищи предложили купить дом на побережье, но, оказывается, есть какой-то тухлый указ, запрещающий организации покупать дома у частных лиц.
Кому жаловаться? Советской власти? А что, к примеру, сегодня может районный совет? Он вынужден, наподобие дельцов «отмывать» необходимые для оплаты честной работы на должном уровне средства с помощью комсомольских хозрасчетных центров, кооперативов.
«Вся власть – Советам!» – прекрасный лозунг. Но когда-то надо начать с конкретных шагов в этом направлении. И было бы очень полезно в этом, да и во многих других отношениях еще и еще раз изучить ленинское наследие. Там найдется немало четких схем взаимодействия между партией и советами, их органами.
После Октября события развивались так, что где подменой, а где отменой существо советской власти выхолостили до дна.
Хочу привести любопытное соображение американского коллеги. Он считает, что от Октябрьской революции очень выгадали рабочие в капстранах. Предприниматели там призадумались, опасение «экспорта революции» заставило их пойти на множество шагов по улучшению условий жизни трудящихся.
А мы о некоторых элементах такой заботы, по сути, забыли. Где у нас подлинное социальное страхование – Ленин боролся за его развитие еще в царской России. Кстати, в те времена не все у нас было плохо.
Скажем, жизнь крестьян отнюдь не всюду была такой, как она описана в традиционных параграфах школьных учебников истории. Бедняков было меньше, чем середняков и зажиточных.
И в короткий период нэпа бедняками оставались, как правило, те, кто не хотел работать.
Выкорчевали справного мужика, изжили с корнем... А почему как-то позабыли «мелкую деталь»: в 1924 году Советская республика, провозгласившая нэп, продавала хлеб за границу. Вот вам и чувство хозяина!
– Не думаю, что сейчас возможна реставрация былых законов, старинных укладов...
– Безусловно, не о том речь. Речь об устранении общинного начала, предполагающего «покорность и управляемость» граждан – и в сельском хозяйстве, и в других сферах.
За этим подходом мне видится и эффективный инструмент, необходимый при решении проблем межнационального общения.
Свободный союз свободных государств – прекрасная цель. Но как бы нам не переувлечься ею, забыв о каждом человеке и его интересах.
Вот известный писатель Валентин Распутин почти всерьез трактует возможность выхода России из Союза. А я пытаюсь прикинуть: сколько ж миллионов долларов она тогда заплатит за один только хлопок для текстильных фабрик Иваново?
А каково будет другим республикам без энергетических и иных богатств РСФСР? Без ресурсов Украины? Без полезных ископаемых Закавказья? Средней Азии? Нет, «разбежаться» – это не выход.
– Где же выход? Может быть, вам известно решение архисложной проблемы?
– Никто его, наверное, сегодня не сформулирует. Но я точно знаю, что свободу и нормальную жизнь можно и нужно приближать каждодневно, выбирая наиболее демократичные и мудрые варианты при решении локальных конфликтных ситуаций.
Думаю, что принципиально важным в этом смысле будет формирование нашего отношения к недавним решениям грузинского парламента.
Знать истинный характер происшедшего даже в давние годы крайне важно для движения вперед. Если мы хотим правды, надо жить по правде. И, честно говоря, меня не страшит происходящее в тех республиках, где ищут выход из тупиков именно на такой основе.
– А каково ваше отношение к последним событиям в ГДР, Болгарии?
– Не сказал бы, что они для мня неожиданны. Давно убежден, что если трудящиеся ГДР примут наконец суть стратегии перестройки, отменив варварские запреты на общение друг с другом, то они преуспеют в строительстве социализма «с человеческим лицом», как и болгарские товарищи.
Единовластие, возвеличивание «великих, гениальных, выдающихся» ведет к катастрофе. Это мы почувствовали на собственном опыте.
Теперь расхлебываем. Умеющих творчес– ки, умно работать осталось не так уж много – генотип пострадал. Таких в первую очередь расстреливали, ссылали, травили.
А окружающие, видя это, отвыкали, отучались работать. Надо всячески поддерживать оставшихся работяг, давать им волю. И не загонять под ярмо всяческих посредников, «промежуточных звеньев».
Платят аграрию валюту за сверхплановую пшеницу – пусть имеет право самостоятельно тратить ее на то, что необходимо хозяйству.
А ему опять советуют действовать через какие-то объединения, конторы... Мы можем быть достойными свободы. Надо только поверить в это. И – действовать.
Сам Юлиан Семенов действует с фантастической работоспособностью. Редактор «Совершенно секретно» и «Детектив и политика», создатель и почетный президент Международной ассоциации детективного и политического романа, глава ее Московской штаб-квартиры, а также советско-французского издательского предприятия ДЭМ продолжает литературную работу.
Безусловно, привлечет читательское внимание его роман о нашумевшем убийстве актрисы Зои Федоровой – «Тайна Кутузовского проспекта», который уже в ноябре начинает печататься в «Совершенно секретно»...
ИНТЕРВЬЮ ГАЗЕТЕ «ФИГАРО»
Бруно Курти, Фигаро,
9 апреля 1990 года
Русский Сименон, советский Ле Карре, папа римский московского детектива, бизнесмен-издатель, журналист газеты «Правда», Юлиан Семенов, 59 лет, коллекционирует профессии и прозвища с редким счастьем и добавляет, дабы поддержать тайну, окутывающую его прошлые и нынешние отношения с советским руководством: «Я еще и генерал КГБ. Очень своеобразный, конечно, ведь я не член партии и полукровка!»
Тут следует взрыв громоподобного смеха, сотрясающего всю внушительную фигуру этого боксера в сталинскую эпоху, когда «отец народов» держал в тюрьме его отца.
Семенов в форме – его мотивирует бой за перестройку Горбачева. С тех пор как в России гласность, он начал издание журналов «Детектив и политика» и «Совершенно секретно», и издательство ДЭМ – первое в союзе с капиталистической страной – Францией.
После тридцати лет плодотворной литературной деятельности, 30 миллионов экземпляров, проданных в СССР и за рубежом, Семенов публикует свой новый роман у Бельфона.
«Фигаро»: Как и «Русский дом» Джона Ле Карре ваш «Инженер Горенков»* – настоящий защитник перестройки.
Юлиан Семенов: Этот роман – продолжение моей первой детективной книги «Петровка, 38». Я написал его именно потому, что являюсь сторонником Горбачева и вижу опасность фашизма в Советском Союзе. Все мои детективные романы были средством «донести мысль».
Вы, конечно, поняли, что в книге я пишу об антисемитской организации «Память», которая приговорила меня к смерти еще два года назад, но так меня и не прикончила!
Я говорю в романе и о мафии, существующей у нас в самых высоких эшелонах власти, и о коррупции. Эта проблема, с тех пор как о ней стали писать, несколько уменьшилась.
«Фигаро»: Коррупция, взятки, экстремистские движения... Советские знают обо всем этом. Зачем им об этом рассказывать?
Юлиан Семенов: Одно дело, когда об этом говорят, другое – когда этот разговор распечатан миллионами экземпляров. В последнем случае это становится фактом истории. Этой книгой я хотел привлечь внимание читателей на опасность фашизма и ультраконсерватизма...
И поверьте мне, эти консерваторы не будут походить на тех, что подле Маргарет Тэтчер, это будут консерваторы русские, страшные!
«Фигаро»: Как была принята книга критикой?
Юлиан Семенов: Не было ни одной статьи в прессе, хотя книга, выпущенная тиражом в 1 100 000, разошлась в магазинах за два часа! В магазине она стоила 5 рублей, спекулянты перепродавали ее в десять раз дороже.
«Фигаро»: Персонажи вашей книги – полицейские, мафиози, заили противоперестроечные аппаратчики – много говорят о прошлом, о Сталине, о Гитлере и особенно часто о Ленине, цитаты которого вы приводите...
Юлиан Семенов: В статье, которую «Новый мир» отказался опубликовать, я задавал вопрос: «Нужен ли марксизм-ленинизм перестройке?». Ответ был: «Нет», потому что марксизм-ленинизм – это открытие Сталина. Мы не можем использовать марксизм сегодня, потому что Маркс не знал, что такое реактивный самолет.
Он не знал Эйнштейна и Сахарова. Использовать сегодня рецепты прошлого века равносильно лечению больного раком лекарствами от насморка!
Но если мы внимательно прочтем работы Ленина 1922—1923 годов и если мы их применим на практике, несмотря на сопротивление консерваторов, экономическая ситуация в стране через год изменится.
Ленин, долгое время проживший в Европе, желал Европы для России, желал индивидуальной деятельности и, главное, желал избавиться от Сталина!
«Фигаро»: Шовинизм, описанный вами в книге, эти члены общества «Добрая старина» жутки.
Юлиан Семенов: Американский журналист, приехавший в Москву меня интервьюировать, тоже был напуган захватившими Дом литераторов фашистскими коммандос. Но что поделаешь? На мой взгляд, надо писать книги, как «Репортер».
«Фигаро»: В книгах вы осуждаете Брежнева и Сталина, а ваши отношения с шефом КГБ тех лет были дружескими...
Юлиан Семенов: Я горжусь тем, что Андропов любил мои книги и спас три из них от запрета цензуры. Никто на Западе не знает, что первым делом сделал Андропов, когда он сменил Брежнева.
Я вам скажу. Он пригласил ученых, историков и попросил их как можно быстрее подобрать все документы о НЭПе.
Ему не удалось преодолеть сопротивление бюрократии, но Горбачев сейчас это делает.
«Фигаро»: С одной стороны, люди, считающие, что перестройка идет слишком медленно, с другой – те, кто ее полностью отрицает, и народ, предпочитающий словам полные прилавки. Есть ли в такой ситуации у Горбачева шанс выиграть?
Юлиан Семенов: Нельзя отделять Горбачева от людей, верящих в него. Мы – вместе. Если ему не удастся, значит нам не удастся.
Если у него ничего не получится – организуйте кампанию по освобождению меня из тюрьмы! Но я – оптимист. 4 февраля этого года 250 000 людей вышли на улицы, чтобы поддержать перестройку, демократизацию и плюрализм.
Я оптимист в отношении Горбачева, поскольку я оптимист в отношении меня самого! Все, что я сделал в жизни, основанные мной журналы и газета, все это, созданное для миллионов людей, должно будет исчезнуть? Это невозможно!
«Фигаро»: Почему вы доверяете Горбачеву?
Юлиан Семенов: Я был в Женеве в 1985 году во время встречи Горбачева с Рейганом. Во время пресс-конференции, последовавшей за встречей, я оказался за столом рядом с Раисой Горбачевой, которая, как и я, член Советского фонда культуры.
Конференцию вел Замятин, занимавшийся тогда делами информации в ЦК. Я поднял руку, чтобы задать вопрос Горбачеву; Замятин меня не заметил. Я поднимал руку еще дважды, но он всякий раз давал слово американцам и англичанам. Затем он объявил, что конференция закончена.
Я поднялся и сказал: «Минуту, пожалуйста. Я три раза просил разрешения задать вопрос Михаилу Горбачеву». Замятин повторил, что конференция закончена.
В этот момент Горбачев, с которым я познакомился в 1973 году в Ставрополе, сказал: «Я знаю писателя Семенова и уважаю его. Я отвечу на его вопрос».
Пассаж Горбачева, в котором он говорил, что он меня уважает, был просто-напросто вырезан во время показа пресс-конференции по телевидению. Вот вам пример официального антисемитизма!
«Фигаро»: И несмотря на это, вы остаетесь оптимистом?
Юлиан Семенов: Да, но при этом я процитирую вам фразу большого американского писателя Марка Твена: «Нет зрелища грустнее, чем молодой пессимист, за исключением зрелища старого оптимиста».
* .
Статьи о Юлиане Семенове
«СЕМЕНОВ ГОВОРИТ, ЧТО ОН НЕ ШПИОН»
«Сидней морнинг геральд», Австралия, 1969 год
ВИЛЬ ЛИПАТОВ О РОМАНАХ ЮЛИАНА СЕМЕНОВА
Текст выступления, 1975 год
«Я ЛЮБЛЮ ЭТУ СТРАНУ»
Русский писатель в гостях у профессора Мэнарта
«И ВЕЧНЫЙ БОЙ»
«Слава Севастополя», 1985 год
«ЛИЦОМ К ЛИЦУ»
«За автомобильно-дорожные кадры»
«ШКОЛА ЛИТЕРАТУРЫ КГБ»
«The Observer», Великобритания, 1987 год
«КАК СОВЕТСКИЙ АВТОР КНИГ О РАЗВЕДЧИКАХ ПОЛУЧАЛ ИНФОРМАЦИЮ»
«The Toronto Star», Канада, 1987 год
«РУССКИЙ, КОТОРОМУ НРАВЯТСЯ ТАЙНЫ»
«Нью-Йорк таймс», США, 1989 год
«ПЕРЕСТРОЕЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
«Последние новости Альзаса», Франция, 1990 год
Статья в газете «Вечерняя Москва»
1991 год
«СЕМЕНОВ ГОВОРИТ, ЧТО ОН НЕ ШПИОН»
РУССКИЙ ПИСАТЕЛЬ АТАКУЕТ БАРНСА
Ему по-прежнему запрещен въезд
1969 год
Австралия, газета «Сидней морнинг геральд»
Русский писатель Юлиан Семенов критиковал вчера министра внешних территорий мистера Ж. Барнса, запретившего ему въезд в Папуа-Новую Гвинею и сказал, что напишет о мистере Барнсе, когда вернется в Советский Союз.
«Постоянно говорят о том, что в Советском Союзе отсутствует свобода, но сейчас, когда был шанс доказать наличие свободы здесь – показать Папуа-Новую Гвинею советскому писателю, который даже не является членом Коммунистической партии, – он не был использован», – сказал мистер Семенов.
«Когда я вернусь в Москву, то напишу о понравившемся мне австралийском народе и о мистере Барнсе тоже».
Мистер Семенов возвращается в Россию на следующей неделе, но еще надеется посетить Порт-Морсби и, возможно, Маданг.
В Москве он обратится к австралийскому послу за разрешением поехать в Папуа-Новую Гвинею, где он хочет собрать материал для книги о русском ученом и путешественнике Николае Николаевиче Миклухо-Маклае.
Вчера вечером он рассказывал о своих попытках посетить территории радио– и телеведущему Полю Маклаю – внуку ученого, у него на квартире.
«Для меня невозможно написать книгу, не увидев место и народ», – сказал он. «Я дал Департаменту карт-бланш в организации поездки». «Пошлите со мной официальное лицо», – предложил я им.
«Я обещаю писать объективно. Все что меня интересует, – это личность Николая Николаевича Миклухо-Маклая, который, как и я, не был шпионом».
Миклухо-Маклай (1847—1888) родился под Киевом, на Украине, а учился в Хейдельберге, в Германии. В 1860-х годах он приплыл на борту русского судна «Витязь» в Маданг.
Там, после того как русские моряки построили ему хижину, он и остался со своим шведским слугой – единственным, кроме него, белым человеком во всей округе, и в течение года изучал местный язык, антропологию и обряды.
Приехав в Сидней, он женился на дочери Сира Джона Робер-тсона, пять раз избиравшегося на пост премьера, а позднее вернулся в Новую Гвинею.
«ОСКОРБЛЕНИЕ» – ЗАЯВЛЯЮТ ПОЛИТИКИ.
Порт-Морсби. Два политических деятеля Новой Гвинеи заявили вчера вечером австралийскому правительству, что запрет на въезд в Папуа-Новую Гвинею русскому писателю Юлиану Семенову расценивается ими, как оскорбление народу территорий.
Политики Новой Гвинеи мистер Оала-Оала и мистер П. Четертон считают, что подобные действия австралийской стороны вызовут непонимание со стороны Советского Союза.
ВИЛЬ ЛИПАТОВ О РОМАНАХ ЮЛИАНА СЕМЕНОВА
1975 год
(Текст выступления)
В арсенале «криминологов» Запада и Востока то и дело варьируется тезис об «однозначности» нашей литературы, о ее «конформизме» и некой «изначальной заданности».
Наши оппоненты напоминают мне людей, страдающих особой формой идиосинкразии: они не просто не различают цвета, нет, они порой вообще не хотят замечать того или иного цвета, проходя, что называется, «сквозь и мимо».
В этих моих заметках я хочу остановиться на романах Юлиана Семенова не оттого лишь, что они пользуются огромным читательским спросом – всем известны примеры, когда спросом пользуется макулатура, идущая по «срезу» современности, претендующая на «смелость» в постановке общественных проблем; нет, мне интересны романы Семенова о Максиме Исаеве-Штирлице, во-первых по охвату материала, по «заряду информации», заложенной в них, во-вторых, по нравственной проблематике. И наконец, они интересны с чисто формальной точки зрения, ибо Семенов ищет новую форму для романа, чувствуя, как и многие из нас, что сейчас состоялся новый ритм жизни, а в новых ритмах невозможно писать по старым, великолепным, любимым нами романтическим рецептам – неминуемо «отстанешь от поезда».
Я сразу же хочу вывести романы Ю. Семенова о разведчике и политике Исаеве за скобки детектива, ибо классический детектив страдает определенного рода безнравственностью: много «хороших» гоняются за одним «плохим», и если о «хороших» мы знаем все, то «плохой» остается фигурой умолчания, неким символом, жертвой авторского произвола – немотивированным и неубедительным злодеем, необходимым в сконструированной авторской схеме.
Враги Исаева-Штирлица – это белогвардейцы в одном случае («Пароль не нужен», «Бриллианты для диктатуры пролетариата»), фашисты – в другом («Майор-Вихрь», «Семнадцать мгновений весны»), неонацисты – в третьем («Бомба для председателя»). Ключ к пониманию авторской позиции в описании врагов дает нам один из героев Семенова – пастор Шлаг. Рассуждая о нацистах, он утверждает: «Мы же говорим с вами о природе человеческой.
Разумеется, в каждом из этих негодяев можно найти следы падшего ангела. Но, к сожалению, вся их природа настолько подчинилась законам жестокости, необходимости, лжи, подлости, насилия, что практически там уже и не осталось ничего человеческого. Но в принципе не верю, что человек, рождающийся на свет, обязательно несет в себе проклятие «обезьяньего происхождения».
Писатель лишь тогда остается писателем, а не делается сочинителем, когда он прослеживает эволюцию, когда он убедителен в анализе человеческого падения так же, как он достоверен в описании торжества добра.
Литература, как и жизнь, – это столкновение правды и лжи, добра и зла, если один из этих компонентов лишь обозначен, литературное произведение будет грешить односторонностью, а это – нарушение золотого правила архитектуры – пропорции, это отомстит писателю читательским недоверием, а нет ничего страшнее, чем недоверие.
Романы Семенова пронизаны информацией. Его герой проходит сквозь события высокой гражданской и нравственной значимости.
Семенов информирует своего читателя (не только фактом, документом, сюжетом, но и чувством) о событиях важных, широких по охвату проблем, гражданственных.
Освобождение Дальнего Востока от интервентов и белогвардейцев, разоблачение расхитителей в Гохране, срывающих закупки продуктов питания для голодающей России; спасение от уничтожения Кракова, этой сокровищницы славянской культуры; срыв сепаратных переговоров между Даллесом и Гиммлером в последние месяцы войны – таковы факты романа Семенова, факты, в которых развивается сюжет, факты, рождающие характеры, рождающие правду столкновения характеров, то есть – рождающие большую и серьезную книгу.
Движущей пружиной романов Семенова является диалог. Его романы кинематографичны – каждый из них мог бы послужить сценарием для многосерийного телевизионного фильма.
В свое время много дискутировали по поводу «телеграфной» литературы. Видимо, дискуссия эта была несостоятельной. Лаконизм и краткость отнюдь не есть предвнесенное в литературу за последнее время.
Спартаны, населявшие Лаконию, говорили кратко, емко, пружинисто. «Лаконизм», следовательно, пришел из антики. Платон первым вложил в уста Сократа – «лаконическая кратость».
Так что упругость семеновского диалога, стремительность в построении сюжета отнюдь не есть дань модернистской или формалистической моде – видимо, в этом писатель чувствует свой ритм, и наивно упрекать его в этом, требуя следовать канонам: наша литература ищет, ищет она и новую форму, и это прекрасно.
…Международник и журналист по образованию, Юлиан Семенов знает предмет, в его романах нет приблизительности, он не боится обнажать существо конфликта, предлагая «высказаться» каждой из сторон: будь то шеф гестапо Мюллер, журналист Кроне или профессор Плейшнер. Писатель не помогает своим героям – он следует за ходом их рассуждений и никогда не позволяет себе вмешиваться в спор.
Я не знаю, будет ли продолжать Юлиан Семенов цикл своих романов о Максиме Штирлице, но уже то, что создано им, позволяет говорить о рождении самобытного жанра, совершенно нового в литературе, жанра, рожденного нашим временем, сплавом факта и чувства, сюжета и проблемы.
«Я ЛЮБЛЮ ЭТУ СТРАНУ»
Русский писатель в гостях у профессора Мэнарта
1983 г., интервью «Фройденштадт-Шемберг»
Семенов – один из наиболее известных писателей Советского Союза. Его книги читаются миллионными тиражами.
Он такой, какими, собственно, и представляют себе русских: добродушный, дружелюбный, с глубоким убаюкивающим голосом.
Кроме того, Юлиан Семенович Семенов – писатель, и, что сложно себе представить, пишет социально-критические детективные романы.
10 000 писателей входят в настоящий момент в Союз писателей СССР; 24 наиболее известных из них выбрал писатель и русовед профессор Клаус Мэнарт, чтобы описать их жизнь и работу, а вместе с тем и литературу в России в своей новой книге «Что читают русские».
Один из этих 24 писателей, и, наверное, самый известный в России, – Юлиан Семенов. На прошлой неделе он был в гостях у Мэнарта в Шемберге.
Юлиан Семенов и профессор Мэнарт знакомы вот уже три года.
Русский писатель приезжал в Бонн в качестве корреспондента одной русской культурной газеты и во время своего визита встретился с Клаусом Мэнартом в Шварцвальде. После этого визита завязалась их дружба.
В этот раз, чтобы снова навестить своего друга Мэнарта в Шемберге, Семенов воспользовался приглашением Рейнско-Вестфальского международного общества из Дортмунда, где он читал лекцию. Особую радость доставил Мэнарт Семенову, показав ему такие важные для русского человека города Баден-Баден и Баденвайлер.
В Баден-Бадене жили Гоголь, Тургенев и Достоевский, в Баденвай-лере умер Чехов. Со своим гостем Мэнарт говорил, конечно, о ситуации в русской литературе и среди писателей.
«Уже в три года я начал писать песни», – уточнил Семенов с немного лукавой улыбкой. Его первый рассказ был написан в 1956 г. Автор, которому сейчас 50 лет, пишет романы, рассказы, пьесы.
Интересуется он прежде всего историей ХХ века и политикой, поэтому его романы сочетают в себе современную историю и остросюжетность.
В них он описывает работу милиции и затрагивает другие темы, например, такие как бандитизм и наркобизнес в Москве, коррупция, кражи бриллиантов и спекуляция.
Юлиан Семенов не пишет об этих, присущих также и России, проблемах в передовых статьях, а посвящает им свои романы.
Поэтому его детективы полны социальной критики.
Семенов: «Мы вполне открыто рассказываем о своих проблемах».
Несмотря на то что на Западе советские детективы в целом не очень популярны, в Советском Союзе их читают миллионными тиражами.
Юлиан Семенов охотно пишет также путевые заметки, и его можно назвать искателем приключений – учитывая, что он побывал в Испании, Португалии, Чили, Японии, Китае и четыре раза на Северном полюсе и написал о каждой поездке.
Но еще известнее сделал его 12-серийный телефильм о Второй мировой войне, причем не имеющий никакого отношения к антинемецкой пропаганде.
Юлиан Семенов издал 20 книг общим тиражом 20 миллионов экземпляров. Здесь следует учитывать, что советские романы, перед тем как появиться на рынке в виде книг, печатаются в толстых литературных журналах, и уже эти журналы обеспечивают большой тираж.
В Советском Союзе книжные новинки раскупаются очень быстро. Книги распродаются мгновенно, несмотря на огромные тиражи.
На вопрос, как Юлиану Семенову-писателю живется в России, он ответил, улыбаясь: «Я живу прекрасно».
У него квартира в Москве, две машины, небольшая мастерская и загородный дом с сауной. Он с огромным удовольствием ездит на охоту – у него немало ценного оружия, и, кроме того, он владелец большой интересной библиотеки русской, английской, испанской и немецкой литературы. Бабушка его жены была немкой, поэтому Семенов также очень хорошо говорит по-немецки.
У писателя две дочери, Дуня и Ольга. Старшая, Дуня, в 23 года – самый младший член советского союза художников. Ольга, 15 лет, знает французский и уже опубликовала три рассказа.
Конечно, не все писатели живут, как он, говорит Семенов. Но в целом живут они неплохо. Многие, читая по лекции в день, а также благодаря выступлениям на радио и книжным рецензиям зарабатывают достаточно, чтобы прожить.
Юлиан Семенов: «Однако я придерживаюсь немецкой поговорки: «Порядок должен быть во всем». Поэтому работаю очень усердно, ведь я люблю свою работу».
Нередко бывает, что писатель по десять дней подряд трудится, как одержимый, по 20 часов в сутки – с семи часов утра до трех ночи.
«Для меня быть писателем означает много работать», – объяснил Семенов. Но, с другой стороны, умеет после выполненной работы и отдохнуть.
Как положительный момент отметил Семенов тот факт, что молодые журналисты или писатели имеют возможность отправиться на Украину, в Сибирь или на Кавказ работать в качестве корреспондентов газет. А там достаточно времени и вдохновения, чтобы упражняться в письме и нарабатывать свой писательский опыт.








