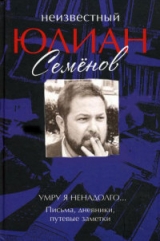
Текст книги "Неизвестный Юлиан Семенов. Умру я ненадолго..."
Автор книги: Ольга Семенова
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 85 страниц)
Самое смешное: когда я, как утверждает Петров, собрал 77 рублей, мы купили четыре бутылки водки и пили ее в нашей теплушке, закусывая вареной картошкой, украденной на рынке, и солеными грибами, купленными в станционном буфете.
И помню, как мы изумительно возвращались из этих Колодищ. Витька Борисенко был там и, кажется, Храмео.
Ехали мы без билетов и весь путь от Минска до Москвы хрипло пели солдатские песни на мотив «буги-вуги» и вальса-бостона.
А вообще надо сесть и написать повесть про то лето, когда мы организовали в Архиповке дачную ассоциацию «Потуга» в составе: Витьки Борисенко, Герки Сметанкина, Миши Великовского, Витьки Суходрева, Юрки Виноградова, Владки Панюшкина и Володьки Цветова. И еще я забыл Тарковского, который был у нас «министром внутренних дел», и отколовшегося «начальника АХО министерства кинематографии» Митьку Федоровского.
Все то лето, когда мы разыгрывали свою дачную ассоциацию, народ в стране пел песенку:
В саду созрела алыча
Не для Лаврентий Палыча,
А для Клемент Ефремыча
И Вячеслав Михалыча.
Странное это было лето – лето 1953 года.
Я помню, как приехал кто-то из Москвы, а мы сидели со своими ребятами на пляже, и кто-то из приехавших сказал:
– Полностью реабилитирован Рюмин. Его видели в коридорах МВД в полной генеральской форме. Он был жертвой Берия.
Когда я услыхал, стало мне страшновато и диковато. Но зато как я напился, когда прочитал в газетах о расстреле этого мерзавца!
Слухи, слухи 1953 года! Каждый человек немножко премьер-министр: он сам слухи сочиняет, сам их распускает, сам распределяет портфели в кабинетах – наивное племя люди!
Сейчас очень внимательно занимаюсь Евангелием и Библией. Хочу написать маленькую повесть антиклерикальную, гуманистическую, которая будет называться «Последний день Иисуса». А в том, что он был, в этом я ни секунды не сомневаюсь теперь, и то, что он исцелял, в этом я тоже сейчас все меньше и меньше сомневаюсь.
7 марта 1963 года
СТРАНИЧКА ОБ ОЛЕШЕ
Незадолго перед смертью у него начался очередной приступ белой горячки. Но даже в состоянии этой тяжелой, изнуряющей болезни он оставался самим собой – выдумщиком, чуточку манерным и бесконечно талантливым.
Он встретил Тура и сказал ему:
– Вы знаете, Петя, я шел по улице Горького к Большому залу Чайковского и никак не мог угнаться за огромной черной собакой. Когда она поворачивала ко мне голову и смотрела на меня, я был поражен ее зелеными смарагдовыми глазами.
Значит, у человека и в «потустороннем» состоянии мысль работала какими-то своими, особыми зигзагами, отмеченными блистательной печатью таланта – не просто черная собака, не просто с зелеными глазами, но обязательно – с глазами смарагдовыми.
Слово здесь приобретает поразительное самодовлеющее значение. Это – литература.
В тот же последний период своей жизни он после возлияния в «Национале» вышел на улицу и около дверей ресторана увидел высокого мужчину в золоте и с позументами.
Олеша сказал:
– Швейцар, вызовите такси.
«Швейцар» возмущенно отозвался;
– Какой я вам швейцар! Я – адмирал.
Олеша моментально ответил:
– Если адмирал, тогда вызовите катер!
Последняя хохма Ю.К. Олеши. Он подарил ее поэту Н. Шатрову.
– Вы еще молоды и возможно невинны, поэтому я дарю вам свой последний анекдот. Так вот – один старый еврей по случаю купил дешевого тигра...
Шатров ждал, что дальше, Олеша впился в него глазами, потом досадливо:
– Вот, собственно, и все...
Генрих Боровик принес прелестную историю. За такой историей где-то огромнейшая опять-таки литература. А история простая.
Сидит старик еврей – часовщик и копается отверточкой в часах. К нему приходит другой старик еврей и говорит ему:
– Слушайте, Хайм, вы слыхали – Рабинович умер.
Старик Хайм, продолжая копаться в часах, отвечает:
– Умер шмумер. Важно, чтобы был здоров.
Когда услышал эту историю, в голове сразу замелькал Шолом Алейхем, начало «Мальчика Мотла»: «Мне хорошо. Я – сирота».
Читал сегодняшнюю «Комсомолку» – корреспонденцию Зюзюкина из Хабаровска про некую Олю М. и очень сердился. Весь тон и пафос этой статьи можно расширенно сравнить с такой картинкой.
Стоит тысяча гробов, в гробах лежат молодые сильные красивые люди-мертвецы, а пришел некий, отвечающий за этих молодых людей, которые должны были быть живыми, и устраивает разнос: «Почему гробы не той формы, не той расцветки? Маловато кисточек. У покойников руки по закону на груди не сложены».
Автор этой статьи ханжески рассказывает историю проститутки, при этом он обязательно лягает мальчиков в «черных рубашках, узких брючках и красных носках, которые говорят о спорте, Ремарке и чарльстоне; о черствых девушках из общежития, которые не помогли вовремя остановиться подруге, – словом, говорит он о том наборе штампов, который всем до невозможности набил оскомину. А говорить-то надо бы о другом...
На днях я смотрел телевизор. Занятие это утомительное, но в дни болезни ничего другого делать не остается. Передавали беседу комсомольских работников и учителей о воспитании молодого поколения.
Выступал с заранее отрепетированной жестикуляцией упитанный молодой человек, который, как оказалось, является секретарем Сахалинского обкома комсомола. Пафос его выступления был накальным.
Он рассказывал о том, как комсомольская организация Сахалинской области воспитывает молодого человека со школьной скамьи, делая из него стопроцентного гражданина, хозяина своей Родины.
Как это ни чудовищно, но из его выступления я понял, что достаточно школьников выводить на сборку металлолома, и они станут сразу же хозяевами своей страны, прекрасными, добрыми, мужественными людьми, готовыми на подвиг.
Большего безответственного ханжества я не слыхал. Нет, вообще-то, конечно, слыхал и большее и безответственнейшее ханжество, но в этом вопросе такого рецепторного ханжества я не слыхал.
Ведь когда такой молодой человек, отвечающий за создание – подчеркиваю, за создание человека завтрашних лет, считает, что сбор металлолома – главное в воспитании и формировании мировоззрения, так это либо вопиющая глупость, либо форма идеологической диверсии.
Я настаиваю вот на этих двух возможных решениях вопроса. Почему? Да потому что никогда сбором металлолома не воспитаешь в молодом человеке хозяина своей судьбы, судьбы своих друзей, судьбы своей Родины.
Если мы и впредь будем воспитывать на металлоломе, то мы проиграем тем, которые воспитывают детей своих на Библии и на Евангелии, на бессмертных основах извечного – добра и зла. Какой к чертовой матери металлолом для детей от восьми до пятнадцати лет!
Надо именно в эти годы разбудить в молодом человеке любовь в первую голову – к родному краю. Любовь к родному краю можно разбудить, только активно уводя ребят в походы по руслам маленьких речушек в серединной России, по Валдаю, под Ленинградом.
Ничто так не сближает людей, ничто так не очищает их, ничто так не обязывает их друг перед другом, как совместная ночевка в лесу у костра, как не затверженная по радио, а самими во время похода сложенная песня, не купленный консерв в магазине, а – да простит меня ОБХСС – пара украденных кочанов с колхозного поля.
Надо помимо вот таких выходов в родной край (спаси Бог, если они будут дежурными или для галочки, – это породит целое поколение человеконенавистников) – вот помимо этого, по-моему, как мне кажется, надо ребят заражать идеей.
Я беру в данном случае не городскую школу, а сельскую или городскую школу, которая близко от реки, или от моря – от черта, от дьявола, но чтобы ребята могли у шефов получить автомобиль, отремонтировать его, поехать на нем на побережье, в Москву, в Вильнюс; чтобы они могли с помощью шефов построить пару баркасов; чтобы могли летом с помощью тех же шефов выехать куда-нибудь в предгорья, в заповедник и там построить два-три дома для юннатского кружка.
Мы хихикаем над бойскаутами. Мы говорим, что бойскаут – идеологическое оружие. Это же неверно! – В смысле хихикать – неверно, а идеологическое оружие – это точно.
Бойскауты металлолом не собирают, а летние игры делают, на лодках в поход уходят, на машинах в поход уезжают, в горы с преподавателем альпинизма забираются. Затраты тут грошовые – родители первые войдут в общую кассу, а блага общего, общегосударственного мы получим неизмеримые миллионы.
Когда мы ехали в Тарусу в воскресенье смотреть там себе домик – к Шеметову и Штейнбергу, в вагоне сидела семья: отец, мать и трое детей мал-мала меньше.
В этот день по стране проходили выборы; народ выборы отмечал чаркой. Отец семейства с гармоникой через плечо был остронос и белоглаз. Кашне аккуратненькой тоненькой строчкой выглядывало из-под лацканов пальто.
Она – сочная, очень обыкновенная, на трагическом возрастном изломе. И детишки – все в черных валеночках и калошках. Сначала он пел в тамбуре, а потом, когда народа стало поменьше, пришел и сел на скамейку – рядом с женой, напротив детишек.
Пел он те же самые песни, которые передают по радио, и когда эти песни начинают по радио передавать – я радио выключаю. А здесь, когда он пел с женой – она подхватывала удивительно высоким, однотонным, а потому истеричным голосом, он мотал головой, жмурился, отворачивался от нее, – меня аж слезой прошибло.
А когда он стал играть и петь на два голоса с младшим, четырехлетним, и потом сам замолчал и пел только один малыш – тоненьким голосом в притихшем вагоне, пронизанном солнцем, – то было в этом что-то изумительное и чистое, до слез чистое...
И я подумал (не тогда, а потом, потому что тогда думать не мог, а испытывал какую-то сентиментальную, слезливую, но очень искреннюю радость) – потом подумал, как же мы испохабили термин – самодеятельность.
Примерно получилось то же самое, как если бы собрать всех соловьев – или не всех, а часть из них, которых удалось бы поймать, – и объединить их в соловьиный оркестр песни и пляски. Может быть, какой-нибудь хормейстер выдрессировал бы этих соловьев так, что Имма Сумак позавидовала бы.
Только я на концерт таких соловьев не пойду, а если и пойду, то ужасно он мне не понравится. А вот какой-нибудь захудаленький соловьишко весной в кустах запоет, так тут – и счастье и тоска.
И ветер пусть шумит, и где-то в деревне пусть собака на луну воет, и где-то за лесом солдаты пьяные поют, а слышишь ты соловья так, как хочешь слышать, и лишь только потому ты его так слышишь, что он поет так, как не петь не может.
Вчера я снова приобщался к Достоевскому, перечитывая «Идиота». Не знаю, быть может, я становлюсь подобен Эренбургу, который утверждал в 1922 г., что «я меняю свои убеждения как галстук – каждое утро», но, перечитывая «Идиота», сопоставив его с «Бесами» и «Карамазовыми» и сравнив всего Достоевского со всем Пушкиным, в моей голове заметалось немало вопросительных знаков.
После долгих раздумий я пришел к выводу, что в гениальности они – одинаковые люди, но индивидуальности – тут абсолютно разное. Что получается?
Пушкин в каждой своей вещи (в самой трагичной – в «Годунове») необыкновенно добр и необидно снисходителен к людям.
Необидно – люди не видят, как он к ним снисходителен, как он потрафляет их людским слабостям, но не из угодливости к оным, а из большой любви к сынам человеческим.
А ведь Христос-то был Сыном Человеческим, и ничто человеческое ему не было чуждо. Ведь он с фарисеями возлежал, и ел, и пил, и блудница ему миром поливала голову. А гениальный Достоевский суть несостоявшийся политик, а скорее всего – диктатор.
Как всякий диктатор, он исповедовал изначала доброту. Но, как всякая фанатичная исповедь – даже самого чистого и светлого чувства – становится, в силу фанатичности исповеди, обратной стороной доброты, делается деспотической, трижды проклятой; и о всякой доброте забывается, и конечная цель уходит в песок, а остается только достижение конечной цели – достижение, но не цель.
Вот так же и с Достоевским – так мне кажется. Человек гениальный, одержимый, тяжелый...
Говорят: человек копает вглубь. Я люблю сравнения и верю им, но растолкуйте мне, что значит «копать вглубь». Сначала будет перегной, потом кости кладбищ – ведь под всей землей на расстоянии двух метров от асфальта, по которому мы ходим, великое кладбище живших перед нами.
Вся земля ограничена твердью и под этой твердью – кости мертвецов. Ну, докопается он за этими костями еще глубже и дальше, и потом будет и земля, и земля, и земля. И уже где-то это опять движение во имя цели...
Мне кажется, «легкий» Пушкин все это гениально понял и советовал: коль нахлынут на тебя тяжкие думы, ты либо открой бутылку шампанского, либо перечитай «Женитьбу Фигаро» Бомарше.
Чернее черного не начернишь, белее белого не увидишь – Пушкин все это понимал.
Достоевский хотел это отвергнуть, и вот тут по-моему, он совершил серьезную ошибку. Потому что, подтверждая свою идею, он рисовал в каждой своей вещи одну и ту же схему. В каждой вещи!
Блаженненький и не от мира сего – положительное начало; энергичный и решительный – либо негодяй и социалист, вроде Верхо-винского, либо дурак – князь. Непонятный, в чем-то благородный, в чем-то омерзительный Ставрогин – личность загадочная в некотором роде. И две антиподно истеричные женщины...
Когда жизненность Христа, доподлинную историчность этой фигуры подтверждают Матфей, Марк, Лука своими писаниями, то это – индивидуальные однотолкования одного исторического факта. Достоевский же замахивается посильнее Марка и Матфея: он хочет ут– вердить свою идею разноподтверждениями одного факта.
И если Марку, Луке, Матфею веришь, то Достоевскому на третьей его книге верить перестаешь.
Бог триедин, человек одноедин. Если бы Достоевский написал только две вещи – «Бесы» и «Карамазовы» – он мог бы быть причислен к лику святых. Но он написал еще двенадцать томов произведений – однотипных по структуре и по характерам людей.
А вообще чикаться нечего – гений он и все!
Не помню, записывал я на обрывках своих или не записывал историю, которую незадолго до смерти рассказывал Пастернак. Па– стернак ее рассказывал с мучительной, стыдливой улыбкой, краснея.
Он рассказывал историю о том, как однажды он оказался предателем.
Это было в 1937 году. К нему позвонил Сталин. А, как известно, Сталин очень хорошо относился к Пастернаку. Он позвонил ему часа в три, поднял его с кровати и спросил:
– Послушайте, Пастернак, что вы мне можете сказать о Ман дельштаме?
Что он мог сказать ему о Мандельштаме?! Целыми ночами в Москве хлопали двери – шли аресты. А днем дети отказывались от отцов, мужья от жен, отцы от сыновей. Что он мог ему сказать?!
– Он ничего не мог ему сказать. И поэтому он стал говорить:
– Да видите ли, Иосиф Виссарионович, как бы это точнее… Что же мне вам бы сказать... Вот значит так...
Сталин хмыкнул в трубку и своим глухим хрипловатым голосом сказал:
– Мы так о своих друзьях не говорим. До свидания, Пастер нак. – И повесил трубку.
Через два дня Пастернак узнал, что в эту ночь Мандельштам был арестован...
Один международник рассказывал мне любопытную деталь. Как известно, Тухачевский, Якир, Уборевич и другие товарищи были арестованы и уничтожены по фальшивке гестапо, которая была через Бенеша подброшена нам.
Сейчас выясняется иная концепция; правильнее сказать, не выясняется, а уже выяснилась, но она – эта концепция – конечно, в течение ближайших двадцати лет у нас высказана не будет.
А концепция эта такова, что в 1936 г. по указанию Сталина (это достоверно неизвестно – лично ли по его указанию, или же это делал Ягода, или же Ежов) были через Францию переброшены компрометирующие данные так, чтобы они могли попасть в гестапо.
В гестапо на эти компрометирующие данные не обратили внимания в силу их очевидной сфабрикованности, и только случайно познакомившись с этими документами, Гейдрих понял, что они кладезь, и организовал всю эту операцию по уничтожению высших военачальников Советского Союза через Бенеша.
Март, 1963 год
ТЮЗ. Шел худсовет по поводу молодых. Выскочил из кабинета секретарь комитета ВЛКСМ, зарыдал: «Не выйдет у них, уж теперь ничего не выйдет! Сволочи! Сами отцов и детей выдумывают – выдумают на свою голову!»
1963 год
О ПРОХОДЯЩЕМ ПЛЕНУМЕ ПИСАТЕЛЕЙ
-Слушал Агнию Барто на вчерашнем пленуме, где она подвергала едкой критике статью о детской литературе, где было сказано, что написать для детей может лишь тот, кто сам в душе – ребенок.
Она стала говорить: «Ну хорошо. Значит, мы уже не имеем права писать для детей?!» Глупая женщина! Зачем же так лобово оспаривать очевидное?!
Корней Чуковский или Самуил Маршак – они ведь в душе сохранили чистоту ребенка. А иной тридцатилетний, пишущий вроде бы и для детей, – для детей не пишет, потому что он – старик в душе, и не нужна его литература детям, не нужно такую литературу подпускать к детям, потому что никто так точно не определяет фальшь и никто так точно не отбирает себе любимых писателй, даже не зная им имен, а зная только героев их сказок или стихов, как дети.
…Женя Евтушенко, то и дело крича в сторону Корнейчука, который пытался делать замечания, «Не перебивайте меня!», выступил с речью, в которой утверждал, что он – советский поэт, служащий идеалам коммунизма всю жизнь, и говорил, что его «Автобиография», напечатанная в «Экспрессе», – следствие его мальчишества и непродуманного легкомыслия.
Выступление свое он построил довольно лихо, среди выступления читал свои стихи. Сказал одну кошмарную фразу, когда в зале все заревели. Он сказал, «что если я и благодарен войне, то только за то, что она научила меня ценить мир и любить Родину», Корнейчук крикнул: «А миллионы погибших! О какой благодарности вы говорите?!»
Наиболее, конечно, неприятное в этой «Автобиографии» Евтушенко – и в этом сказалось его мальчишеское отношение к людям, я бы сказал, в общем-то высокомерное отношение к людям – это история с Косолаповым, с бывшим главным редактором «Литературки».
В своей «Автобиографии» Евтушенко написал, что «когда я прочитал „Бабий Яр“ Косолапову, Косолапов сказал: „Женя, я – коммунист. Понимаете, как мне трудно. Я должен посоветоваться с женой“.
Косолапов, как пишет Евтушенко, уехал к себе в Переделкино, вернулся оттуда через три часа и сказал: «Женя, стихи идут в номер. Моя жена – за вас».
И Евтушенко сказал, что «хоть я – человек не трусливый, но я не знаю, как я могу посмотреть в глаза товарищу Косолапову», на что Косолапов закричал из зала: «Вы подумайте лучше о том, как вы будете смотреть в глаза народу!»
За день перед выступлением я встретил Женьку внизу и говорю ему: «Ты бы ответил, Женя», он потихонечку сказал мне: «Пусть поговорят».
К сожалению, конечно, Женька вел себя как мальчишка, и, к еще большему сожалению, это его мальчишество может быть перенесено догматиками и недоброжелателями на всех нас.
В конце Женя уже тихим голосом, без надрыва и аффектации и скорей трагическими полутонами сказал: «И вот в результате своего мальчишества я совершил непоправимую ошибку».
Тут он, конечно, очень тонко рассчитал реплику, потому как с самого начала было сказано, что нужно не отсекать ошибавшихся писателей, а работать с ними, чтобы они понимали и исправляли свои ошибки.
И – точно: Корнейчук поднялся и сказал: «Неисправимых ошибок нет, товарищ Евтушенко. Надо понимать свои ошибки и работать во имя народа и с народом». По-видимому, Женя и хотел дождаться такого резюме – он его очень тонко и дождался.
Во время перерыва к Роберту Рождественскому, который стоял в очереди за кофе, подошел Грибачев, протянул ему руку и сказал: «Ну, не стоит нам дуться друг на друга». Рождественский молча пожал ему руку...
В первый день пленума я сидел вместе с Грибачевым, и наши «якобинцы» смотрели на меня глазами, исполненными неодобрительного удивления. Грибачев довольно объективно прокомментировал речь Прокофьева, сказал, что Саша зажигается по поводу и без повода и остановить его уже совершенно невозможно. Он же сказал, что зря Саша так забирается в литературоведческие дебри, – какой рифмой пишет Евтушенко, какой рифмой Вознесенский, – «это не суть принципиально».
Потом мы сидели с Грибачевым и Цигулевым, с Солоухиным, Кривицким и Яшиным и пили водку. Яшин потом отодвинул стул и по-хамски ушел из-за стола.
Шибко он бравирует своей «антисоветской» повестью «Вологодская свадьба»; раз пять он повторял это слово и хвастливо добавил: «А сколько я благодарных писем из Вологды получил!», потом он говорил – это уже в разговоре с Даней Граниным, он подошел к нам, когда мы сидели с Даней Граниным вдвоем, и сказал: «Вот мне пятьдесят лет. Хоть бы какая сволочь приветствие прислала! Анонимные телеграммы шлют» и потом: «Мне при Сталине жилось лучше. У меня семеро детей – имел глупость наплодить, – а сейчас жрать нечего. Да, – повторил он, – при Сталине мне было лучше».
А я помню, как он, Яшин, когда мы ехали в вагоне «Литературной газеты» во Владивосток и ели с ним подаренного нам огромного краба, – он говорил мне: «Ненавижу Сталина. Я знаю, как в ночь перед демонстрациями 1 мая и 7 ноября проводились репетиции и из ворот Кремля выбегали солдаты чтобы в случае чего, если кто будет покушаться на Сталина, стрелять по демонстрантам». Я ему не верил. Но он говорил мне: «Ничего вы все не знаете!»
Когда я ему сейчас сказал: «Как же вы говорите, что вам при Сталине лучше жилось, раньше вы мне говорили другое». Он начал хамить и тут же встал и ушел из-за стола.
Грибачев мне говорил: «Поймите, Юлиан, ведь обидно, что нас разъединяют здесь бездельники и трепачи. Они нас, творческих людей, ссорят. Тут на каждого творческого пять бездельников». Я ему ответил: «Десять!» – мы посмеялись.
Потом он стал жаловаться на Щипачева, а его вовсю подзуживал Егор Исаев. Я сказал: «Нечего старое белье-то ворошить, Егор». Крепко напившийся Шура Кривицкий прогнал из-за стола Володю Чивилихина. Чивилихин тоже обиделся и ушел.
Соболев объяснял нам с Даней Граниным, покупая апельсины для «своих детей», что значит слово «консолидация». Оказывается, говорил он, консолидация – это не столько объединение сил, сколько – во втором значении – умение вывернуться от просроченных банковских платежей. Я ему сказал: «Леонид Сергеевич, вы только про это с трибуны не говорите».
В общем, страсти накалились. Выступил Рюриков. Утверждал, что повесть Павленко не культовая, что там только одна глава культовая; говорил он, что сын Павленко – переводчик, работающий в Индонезии, – спросил его: «Правда ли, что вещь отца культовая?».
Говорил Рюриков о том, что в 1937 году, когда они с Кудреватых и Чкаловым гуляли по Горькому, Чкалов уже тогда выражал мечту «облететь вокруг шарика».
Рюриков говорил, что в 1937 году зарождался интернационализм, зарождались основы победы над фашизмом и т.д. и т.д.
Сказал он, кстати, что несмотря на то, что в Сталине было многое плохим, но народ шел за ЦК, которое шло правильным курсом. Ну хотя бы он не говорил про ЦК! Ведь в ЦК главными руководящими, направляющими, помимо Сталина, были Берия, Молотов, Маленков, Каганович в те годы.
Это всем известно. Не надо так умалять огромную работу, проделанную Хрущевым после двадцатого и двадцать второго съездов, а то выходит, что в общем-то Хрущеву и исправлять было нечего, что все было при Сталине прекрасно. Не надо так.
Сидящий рядом со мной Георгий Владимов, когда Рюриков говорил о том, что ЦК делало прекрасную работу в тридцать седьмом, как раз и перечислил эти четыре фамилии – Молотов, Маленков и т.д. Так что, по-видимому, не только я об этом подумал.
Алим Кешоков в своем выступлении рассказал притчу про то, как одна бедная девушка рассказывала богатой: «Папа с мамой так мне обрадовались, так много угощений приготовили – тыква жареная, и тыква пареная, и тыква с соусом, и тыква без соуса и т.д.».
А богатая, слушая ее, вздохнула и сказала: «Да. Завидую тебе. А мои родители ничем меня не угощали. Только взяли и в мою честь бычка зарезали».
Так вот, продолжает Кешоков, бычок – это и есть наш социалистический реализм, а тыква во всех видах – это буржуазный абстракционизм, формализм и т.д. Сидевший рядом со мной литовский писатель улыбнулся и спросил своего товарища: «Так что выходит – социалистический реализм нужно зарезать!?»
12 марта 1963 года
Может показаться, что я только тем и занимаюсь, что вспоминаю сны и заношу их в свой дневник. Я не буду сейчас говорить о проблеме сна вообще – проблема эта сказочно интересна, – и если бы человек не писал, что он днем вспоминает свои сны, а просто записывал бы сны, как самостоятельные новеллы что-нибудь в течение года, то через 365 дней получилась бы дьявольски интересная книга.
Написал – и самому захотелось поэкспериментировать и в течение года диктовать одни лишь сны. Конечно, в течение года не получится, но один любопытный сон следует записать.
Дня четыре тому назад проснулся – одновременно и счастливый и чуть не в слезах. Сразу вроде бы ничего и не помню, только перед глазами Хемингуэй стоит – до осязаемости живой: седая борода, один глаз чуть прищурен, кожа желтоватая с загаром, вдоль по кромке волос белая, пергаментная – видно, что старик, и вроде бы там, где белые кусочки кожи вдоль волос, – рыжие родинки.
И встретился я с ним не где-нибудь, а в Таджикистане (два года тому назад, когда ходили разговоры о том, что Хем, возможно, приедет в Россию, я договорился с Союзом, что буду сопровождать его и отвезу в насто– ящие охотничьи места Средней Азии).
И вот я у него в доме, беседую с его секретарем, ужасно волнуюсь, спрашиваю: «Ну а дом-то как – ничего?» Секретарь отвечает: «Дом хороший. В нем раньше Толя Никонов, главный редактор “Смены”, жил».
Помню, что я достаю из блокнота заготовленные вопросники. А потом вдруг какая-то киноперебивка, и я слышу, как Хемингуэй звонит ко мне и говорит: «Ну что ж ты не радуешься, старик? Как-то уж больно самостоятельно ты себя ведешь!»
Слыша его голос, я чумею от радости, не знаю, что сказать, а он смеется и говорит: «Ну приезжай, приезжай, я жду тебя». И вот мы с ним разговариваем о чем-то – самое смешное, я не помню о чем. Я вижу его до чудовищного реально и точно.
А потом меня вновь вытаскивает его секретарь, и потом я слышу какие-то голоса и смех, и секретарь говорит: «К папе* пришли Рима Кармен и Генрих Боровик с переводчиком». Я ужасно радуюсь, что приехали Генрих и Рима.
Секретарь меня никак не пускает к Хемингуэю, что-то рассказывает о нем, необыкновенно увлекательное и важное, я его слушаю, но в глубине души досадую на себя, потому что понимаю, что как ни интересен помощник Хемингуэя – его секретарь, как ни здорово он говорит, – молчаливый Хемингуэй (я видел его молчаливым, хмыкающим, говорящим как-то междометиеобразно, вроде бы ничего не значащую чепуху – «да», «нет», «молодец», «садись!», «ну да», «нет-нет», «конечно»)...
Я перебиваю секретаря и говорю ему: «А где же папа?». Секретарь отвечает: «А он увез Генриха и Риму в чайхану – там готовят прекрасный арабский кебаб на сковородочках».
Я чувствую жгучую обиду, что Генрих и Рима бросили меня, и Хемингуэй забыл меня и уехал с ними, а я остался с прекраснодушным, интеллектуальным, всезнающим секретарем его, который говорит такие интересные вещи, а мне и слушать – то его не хочется – мне хочется побыть рядом с Хемингуэем, пускай он и молчит, пускай говорит междометиями, только бы посмотреть на него, запомнить его.
«Папой» Хемингуэя называли друзья и близкие. И вот со жгучей, ощутимо – тяжелой мечтой я просыпаюсь.
Вчера звонит ко мне Аркаша Нагайцев, зам. главного «Московского комсомольца» – парень, работавший слесарем, потом председателем колхоза, а потом забранный через парторганы горкомом в газету. Ему 27 лет, лысоват, франтоват, по-мужски добр и по-доброму умен.
Звонит по телефону и кричит:
– Юлиан, выручай!
Я ему говорю:
– Старик, с задранной ногой лежу.
Он отвечает:
– Нога не мозг. Нужны отклики на речь Хрущева. Получили задание ЦК откликнуться широко и точно. «Комсомолка», наверное, будет к «черной сотне» обращаться, а это – компрометировать дело. Надо умно прокомментировать.
Я ему:
– Спасибо, старик. От твоих комплиментов у меня нога перестает болеть!
– Да нет, ты ведь ни правый, ни левый. Ты идешь в фарватере со своей темой, со своими героями. Выступи!
Я написал маленький отклик на четыре странички. Завтра он пойдет в «Московском комсомольце», как подписная передовица, где я писал о том, что я верую в Бога, но для меня Бог воплощен в двухсотмиллионном лике моих сограждан.
В общем, получилось так, как я и задумал, – без елея, без размахивания кадилом, без воплей «ура! ура!».
Потом я «Московский комсомолец» подложу в Дневник – это стоит.
Только я продиктовал отклик в «Московский комсомолец», звонит Нелли Моисеенко из «Комсомольской правды» и говорит:
– Юлиан, умоляю – выручи! Дай отклик!
Я ей отвечаю:
– Что же – я только откликаться и буду? Не солидно вроде будет.
Она говорит:
– Да ничего! Пожар у нас!
Я ей говорю:
– Вы – ЦК, начальство. Звоните в «Московский комсомолец», заберите у них материал. Вам все можно. Второй раз откликаться не солидно.
Вздохнула Нелли глубоким вздохом и положила трубку.
Сейчас я очень боюсь, что в нашем искусстве, в литературе, – а меня волнует в первую голову литература, – в ущерб нашему большому общему делу, театры и издательства захлестнет волна штамповок, которыми мы обжирались до 1953 г., штамповок, в которых главными героями будут розово-сопливенькие ударнички и ударницы, прекраснодумные профорги, величественно простодушные, эпизодические секретари райкомов и т.д.
Если это произойдет, то мы очень серьезно – архисерьезно – потеряем в глазах читающей и думающей молодежи.
Сопливыми штамповочными схемами, которые имели наглость в былые годы называться литературой, сейчас в молодом поколении можно вызвать не жажду подражательства, а жгучую, презрительную нелюбовь к этим затасканным, засаленным, нереальным, высиженным в колбах фигуркам.
Стоит ли с таким шумом и с такой помпой подвергать критике повесть Васи Аксенова «Апельсины из Марокко», когда в редакцию «Юности» и так идут десятки и сотни писем с серьезными замечаниями умных читателей по поводу литературной слабости этой вещи?! Стоит ли раздувать из этой неудачи писателя какую-то сенсационную кампанию?!
Это идет, по-моему, от не совсем точной продуманности. Во всяком случае, я глубоко убежден, что результаты такой кампании всегда будут, в силу даже, во все века одинаковой, противоречивости школьной и институтской молодежи, противоречивости ради противоречивости.
Это вызовет обратный результат. А так – ну было, ну напечатали, ну и прошло. Обязательно у нас хотят венок надеть – венок, который через месяц становится одиозным мученическим венком. Нужно ли это? Глубоко убежден: нет, не нужно!








