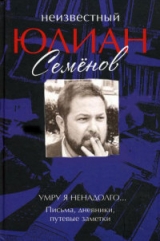
Текст книги "Неизвестный Юлиан Семенов. Умру я ненадолго..."
Автор книги: Ольга Семенова
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 85 страниц)
Вчера, когда шел выступать в Политехническом, встретил парнишку. Фамилию его забыл. Помню только, что учился вместе с ним в Институте востоковедения и был он там у нас комсомольским вожаком афганского отделения. Недавно он вернулся из Багдада и рассказал мне кое-какие подробности падения Касема. Я, в общем-то, не ошибся в оценке происшедшего – все это идет от Насера, от крайнего национализма и антикоммунизма.
Касем отстреливался до последнего патрона. Здание Министерства обороны бомбили самолеты, обстреливали танки, бронемашины. Когда у Касема не осталось ни одного патрона – он сдался. Через два часа начался суд над ним.
Ему зачитали список расстрелянных фашиствующих молодчиков во время контрреволюционного мятежа в Мосуле, спросили – он ли подписывал приказ о расстреле, и, когда он ответил утвердительно, даже не выслушав объяснения, его повернули лицом к стене, поставили на колени и пустили пулю в затылок.
Началась резня коммунистов, которых в правительственных указах называют «саботажниками» и «анархистами». Создана народная милиция – явно фашистского толка. Всем остальным жителям страны приказано сдать оружие под угрозой смертной казни. Таким образом, защищаться коммунисты не могут.
Единственное место, где еще, может быть, части коммунистов удастся спастись, уйдя в эмиграцию, это – Басра. Там коммунисты захватили тюрьму и сейчас идут кровавые бои.
Кончится это, по-видимому, поражением, потому что фашистская партия БААС насквозь пронизала всю армию. Касем узнал об этом заговоре в четверг (суббота по-мусульмански). В четверг были арестованы крупнейшие руководители заговора, а в пятницу (мусульманское воскресенье) младшие офицеры начали мятеж.
Я спросил у моего приятеля – прав ли я в оценке происходящего в Багдаде, прав ли я, оценивая гибель Касема как суммарный результат его политической непоследовательности. Он мне ответил, что я прав.
…На глаза мне попалась газета с любопытной статьей «Зрение в кончиках пальцев». Сначала я думал, что это какой-то очередной развлекательно-публицистический материал, в котором будут бичевать ворюгу с пальцами, которые видят, в какой карман государства надо запустить руку, или о чем-нибудь еще в этом роде, но был приятно удивлен, когда прочитал всю статью до конца и понял, что речь идет действительно о зрении в кончиках пальцев.
Девушка из Тагила – фамилию я забыл – обладает просто-напросто зрением в кончиках пальцев. Ученые сейчас экспериментируют с ней, пытаются разгадать смысл этого явления. Предполагается даже, что на ее примере можно и должно будет проследить генезис развития зрения в живом организме. Ее называют чудом.
Но вот что любопытно. Дня три тому назад, после беседы с Холодовым, я сидел в театре Пушкина, и заместитель директора Авенир Воронов совершенно точно определял цвет и форму фигур на телепатических картах, спрятав руки за спиной.
Я попробовал – может быть, он чувствует на ощупь. Нет, он чувствовать не мог, потому что карандаши все были очень мягкие, а бумага – плотная, поглощавшая грифель. Девять из одиннадцати! Что это – чудо?
Причем, как он мне потом говорил, он сначала чувствовал, какую бумажку, с какой фигурой и с каким цветом он вытащит, а потом он уже ее вытаскивал.
Все это ужасно любопытно. Но когда я рассказываю про все эти телепатические и парапсихологические штуки моим товарищам – надо мной подтрунивают, считая это очередной чудаковатостью. А мне кажется – в этой науке – будущее человеческих знаний...
Когда ехали мы из Бугров и за окном был черно-белый снег, и бело-черные деревья, и черное небо с рыжими звездами, я почему-то вспомнил прошлый год, этот же февральский месяц, и вспомнил, как мы с Юрой Казаковым и Юрием Осносом ехали из Польши в Чехословакию.
Такие же были ослепительные снега, и такое же гулкое высокое небо, и такая же тишина вокруг, сонная тишина, но не в поезде, а в маленьком автобусе, в котором мы ехали от границы.
Приехали мы ночью в Татранский заповедник. Высоко в горах фешенебельный отель. Где-то далеко-далеко под нами светятся крохотные огоньки городка. Воздух как хвойная ванна – весь пронизан запахом леса, снега и тишины. Мы поставили чемоданы и решили пойти перекусить. Было что-то около двенадцати.
В этом отеле отдыхали разные люди. Тут была финка с дочкой, несколько англичан, много немцев, организованных как батальон, и вот – мы. Англичане сидели в большом холле, рядом с рестораном, стайкой; женщины вязали и разговаривали, не глядя на вязанье, мужчины сидели вытянув длинные ноги, и смотрели себе на колени.
Странный ракурс – я пробовал смотреть себе на колени; по-моему, это удивительно скучно. Финка – необыкновенно женственная, белая, спортивного толка – была здесь вместе с дочкой, у которой подозрение на туберкулез. В ней был какой-то совершенно точный сколок ремарковской героини.
Мы сели за низенький столик втроем. Настроение у нас с Казаковым было какое-то звонкое, электрическое. В Польше нам уплатили очень много денег. Мы красиво – по-шляхетски – пили, сидели с писателями и редакторами до утра в ночных ресторанах, вознося и драконя и мировую, и современную литературу. И вся эта наша поездка шла некоей музыкальной фразой: тихо, громко, еще громче, совсем громко, невозможно громко.
Денег у нас в Чехословакии, на границе, было очень мало. А у Юры Осноса – ему пятьдесят лет – у него все время подергиваются веки и сводит лицо тиком. Причем чем дольше мы ехали, тем больше его сводило тиком.
Мы с Казаковым понимали, что смеяться над этим нельзя, но мы смеялись, смеялись до хрипоты, и он сам помогал нам в этом. У Осноса – идефикс. Перед отъездом жена ему написала на двух страницах, что ему надо купить (жена его – совсем молоденькая женщина, вдвое моложе его).
Ему там денег нигде не уплатили, и поэтому ничего из поименованного в списке Оснос купить не смог – на жизнь не хватало ему. Тогда он, старый теннисист, загорелся одной идеей, он был маникален в этой идее: он мечтал купить скарпетки, то есть шерстяные носки, необходимые при игре в теннис.
Мне кажется, что даже в ювелирных магазинах, не говоря уже о продуктовых и аптеках, он всюду задавал свой сакраментальный вопрос: «Прошу, пане, – не имеете ли вы скарпеток?».
У Казакова начинались судороги, когда он слышал слово «скарпетки». И вот здесь, в Татрах, Оснос, желая сэкономить свои скудные валютные сбережения, но стараясь сохранить при этом ту долю львино-светской элегантности, которая вообще-то его определяет, попросил подошедшего официанта:
– Попрошу вас два очень крепкого чая.
– Какой изволите? Может быть, египетский?
– Египетский, – согласился он.
– С вареньем розовым?
– С вареньем розовым, – согласился Оснос.
А мы с Казаковым попросили:
– Дайте-ка нам двести граммов водочки и пару бутылок пива.
Когда мы пили водку и запивали ее пивом, Оснос, прихлебывая черный чай, смотрел на нас с животной завистью. А когда принесли счет, мы с Казаковым начали кататься по креслам от хохота:оказывается, египетский чай считается здесь деликатесом и необыкновенно дорог. Так что двойной заварки чай вышел Осносу в два раза дороже, чем наша водка с пивом.
Когда мы поднялись наверх, к себе в номера, Оснос устроил нам с Казаковым истерику. Он кричал нам:
– Все равно вы обязаны купить мне шерстяную рубашку!
Почему мы обязаны, почему именно шерстяную, – понять никто не мог, но в Праге мы ему купили две шерстяные рубашки.
Когда мы вышли с поезда уже в Москве, после недели бурной и веселой пражской жизни, серый, заросший Оснос раскачивался, и тик стал постоянным состоянием его лица, а нормальное состояние его лица, спокойное – казалось тиком.
Недавно я говорил с одним моим другом – журналистом по целому ряду вопросов, связанных с положением дел в сегодняшнем искусстве. Говорили мы и о новых фильмах, и о молодой литературе, словом – по всем тем комплексам вопросов, которые не могут не вызывать пристального интереса к себе.
И мой товарищ, когда беседа уже подходила в общем-то к концу, – комментируя «ножницы» поведения некоторой группы молодых художников и кинематографистов на трибуне общественной, в личной жизни и в своем творчестве, сказал, что он многое может простить им за талантливость.
По-моему, это глубоко неверно. Талант – он как папское звание в Ватикане, как звание героя у нас, как выборная должность консула во времена Французской революции.
Талант это, с одной стороны, необыкновенно почетная обязанность, а с другой стороны – это святое следование законам чести. По-моему, не только можно простить талантливому человеку шатание и лавирование, а, наоборот, ему вдвойне этого прощать нельзя. Я лавирование могу определить проще, шире и грубее – я могу определить лавирование словом подлость.
По-моему, грубо социологичным и совершенно неправильным можно считать утверждение, по которому гениальный Андрей Рублев был чуть ли не воинствующим атеистом, членом клуба безбожников. Это глупо и гнусно.
По моему глубочайшему убеждению, Андрей Рублев был высоковерующим человеком, и только веруя, он мог создавать свои гениальные иконы. Если бы он на секунду изверился в своей вере, то – я совершенно убежден в этом – это сразу бы стало заметно в его картинах, сразу стала бы заметна на них фальшь…
Подлость съедает талант, как мартовское солнце пожирает снег: только три дня тому назад белел огромнейший сугроб – чистый, мощный, с ледяной оболочкой, а прошло три-четыре дня и вместо сугроба – желтая искалеченная трава...
Я беру, к примеру, искусство фашистской Германии, вернее я не вправе называть то, что было в фашистской Германии, искусством.
Но тот суррогат, который фашисты превозносили в качестве эталона искусства, – как он создавался? Он создался и сорганизовался из подлости.
Художник проявил махонькую непоследовательность и – он уже обязан курить фимиам звериному нацизму, антисемитизму, бредовой идее о расовом превосходстве немцев.
Те мужественные писатели, композиторы, художники, актеры, которые были последовательны, – они либо эмигрировали из страны, либо молчали, что уже было подвигом, либо томились в концлагерях, но и там оставались верны своей вере – будь то христианство, будь то коммунизм.
Следовательно, поэтому, как только мы начинаем говорить о том, что талантливому человеку можно многое простить, так – да простится мне столь страшное сопоставление! – я вижу тот самый суррогат, который в фашистской Германии именовался искусством.
Нельзя проводить никаких аналогий, нельзя сравнивать непоследовательные и трусливые выступления кого-то из моих знакомых с тем, что было в тридцатые годы в Германии, но надо же честно сказать самому себе, что либо, либо: либо нужно до конца отстаивать нашу правду; либо, если хоть в чем-то дать уступки, то это будет уже предательством той самой правды, в которую ты свято веришь.
Однажды я себя поймал на мысли, что, может быть, все-таки самым правым был Толстой, когда он утверждал и просил, повторяя Библию: «Не суди и не судим будешь». Так легче. Только правильнее ли?
Наверное, ребенок, у которого с самого детства всегда очень много игрушек, бывает лишен той непосредственной радости, которую всякий другой ребенок испытывает, получая игрушку время от времени: летом – одну, зимой – другую, осенью – третью.
Как это ни странно, я оказался в положении ребенка, у которого было мало игрушек, и сейчас для меня открывается страшно много радости, если только игрушкой можно назвать прозу Достоевского.
В прошлом году я перечитал «Братьев Карамазовых» и понял, что писатель этот – самая главная, наравне с Пушкиным, глыбина прошлого века, «Карамазовы» – страшная книга. Она страшна так, как бывает страшна истинная правда, но не абстрактная правда, а правда того или иного кровавого события. Сейчас я начал читать «Бесы».
Господи! До чего же мудр был этот писатель! И до чего же все-таки гениален был Кювье, утверждавший развитие общества по спирали!
(Замечу, кстати, любопытный факт: если сравнить прошлый век России с веком нынешним в хронологических таблицах, то можно обнаружить целый ряд небезынтересных совпадений. У нас Ленин умер в 1924 году, а в 1825 году Николай вешал декабристов. В 1853– 1855 гг. закончилось земное царствование Николая – в 1956 году был 257у нас XX съезд. Может быть, это уже пошла ерундистика и та аналогичность, против которой я всегда выступаю, но тем не менее для меня в этом есть что-то занятное.)
Так вот о «Бесах». Первые пять страничек романа. И как же похожа наша околоЦДЛовская публика на тех окололитературных башибузуков, которых выводит Достоевский! У Достоевского есть одна гениальная фраза.
Он пишет, что когда в салоне появлялись литературные знаменитости, они как бы заигрывали с развязными, волосатыми молодчиками, которые низвергали все и вся только потому, что им так хотелось. Мне кажется, что Достоевский, как гениальный провидец века, отсидевший страшные годы в кандалах в Сибири, лучше, чем молодчики нигилистского типа (Базарова я терпеть не могу, считаю его наглецом, не джентльменом, а так называемого отрицательного типа «Отцов и детей» – дядю Аркадия я глубоко уважаю, и мне он по-настоящему глубоко симпатичен.
Такие люди, если им приходилось погибать в какой-то определенный сложный момент истории, погибали достойно, не кричали о пощаде и не страдали медвежьей болезнью. А достойно умереть это так же трудно, как достойно жить).
Так вот, Достоевский, по-моему, продолжал пушкинскую мысль, обрисовывая этих самых молодчиков: «Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный.
Те, которые замышляют у нас невозможные перевороты, или молоды и не знают нашего народа, или уж люди жестокосердные, коим и своя шейка копейка, и чужая головушка полушка» («Капитанская дочка»I. Дополнение. – Из книги «Мысли Пушкина», СПб., 1911)
Читаю я Достоевского по страницам. Возвращаюсь к фразе один, два и три раза, потому что его литература где-то сродни иллюстрированному толкованию Библии.
Забавный факт. Где-то я читал, что премьер-министр Великобритании Дизраэли, лорд Биконсфилд – еврей по национальности – писал Достоевскому в прошлом веке: «Вот Вы ругаете нас, евреев, глумитесь над нами, а поверьте мне, господин Достоевский, в следующем веке самыми главными первыми истолкователями Вашего гения будут евреи».
Я нигде никогда не записывал историю одной забавной встречи, которая произошла у меня этим летом в Хельсинки. Был у нас такой дискуссионный клуб «Спутник».
В самом центре города, в одном из парков, построили серебряный павильон, разложили там газеты и журналы на четырех европейских языках, развесили стенды с фотоматериалами, повесили экран, на котором гнали бесплатные фильмы (а бесплатный фильм в Финляндии – это штука поразительная, потому что билет в кинематограф стоит 250 марок – столько же, сколько стоят хорошие нейлоновые носки).
Народ валил в наш клуб валом, конечно, не столько из-за того, что фильмы были бесплатные, но в основном потому, что сидели в этом дискуссионном клубе наши интересные ребята из «Комсомолки», из журнала «Молодой коммунист» – ребята зубастые, умные и веселые. К ним было очень приятно прийти вечером, когда уже работа заканчивалась, посидеть в маленькой комнатенке, выпить чая с пирожным и покурить советскую сигарету.
В первый день фестиваля ребятам было очень туго, потому что фашиствующие молодчики рвались к клубу, чтобы поджечь его, и наши ребята просто грудью защитили павильон, можно сказать, защитили его, рискуя жизнью.
Так вот там, в один из дней, когда фестиваль уже вошел в свое нормальное русло, я разговаривал с группой молодых американцев, причем разговаривал я с ними и по-английски, и по-русски.
Среди молодых людей, с которыми я говорил, была одна девушка, как выяснилось, – русская, Маша Воробьева, преподавательница одного из американских колледжей. По-русски она говорила со смешанным вологодско-американским произношением: у нее типично вологодские, окающие «о» и «а» и архитипичное американское «р».
Говорили мы долго, беседа у нас была очень доброжелательная, потому что большинство моих собеседников были членами социалистической организации американской молодежи «Эдванс». Все время нашей беседы чуть в сторонке стоял мужчина в серовато-зеленом костюме, седой, с голубыми глазами, с шрамом на носу – как будто кто кусал его.
Он внимательно слушал наш разговор, улыбался там, где улыбались все, одобрительно кивал там, где все одобрительно кивали головой, и, судя по его костюму, я бы сказал, ортодоксальному: мешковатый пиджак и широкие брюки – я, грешным делом, подумал, что это кто-нибудь из нашего посольства, и до конца убедился в этом, когда, окончив беседу с американцами, остался один.
Мужчина подошел ко мне и сказал:
– Здравствуйте, товарищ Семенов. С большим интересом я вас слушал – очень вы правильно и верно обо всем говорили.
– Спасибо, – ответил я. – Очень приятно встретить своего здесь, в Хельсинки. Вы что – из посольства?
– Нет.
– Из торгпредства?
– Нет. Я из Западной Германии...
Так я познакомился с Виктором Михайловичем Попом. Он – перемещенное лицо. Говорит, что его отец погиб в тридцать седьмом году, что он был студентом Ростовского университета, кандидатом в члены партии, попал в плен, мучился в лагерях в районе Орши и т.д. и т.п.
Через полчаса, когда мы разговаривали то ли о русской кулинарии, то ли о русской водке, он сказал мне:
– Я на всю жизнь возненавидел белорусскую самогонку. Я ее в сорок третьем году, ох, сколько перепил!
Тогда я подумал: чтоб военнопленный, да в лагере, да в сорок третьем году, да в оккупированной Белоруссии пил самогонку – свежо преданьице, да верится с трудом. Я познакомил Виктора Михайловича с моим приятелем – заместителем главного редактора журнала «Техника – молодежи» Витей Пекелисом, а сам ушел куда-то – куда не помню.
Мне вечером Пекелис рассказывает, что Виктор Ми– хайлович предлагал ему:
– У меня тут машина, жена с детьми живет в маленьком особ нячке на берегу моря – я здесь провожу отпуск. Хотите – съездим.
Пекелис счел за благо отказаться. Виктор Михайлович с самого начала проявлял поразительное знание самых тонких тонкостей в нашей литературной жизни.
В частности, когда только я кончил беседовать с американцами и только-только с ним познакомился, он мне сказал:
– Вы знаете, товарищ Семенов, я категорически не согласен с критикой вашей последней повести в «Литературной газете». В на ших газетах есть очень много критических статей о вашей повести, но со статьей Борисовой в «Литературке» мы категорически не со гласны.
В общем, в конце уже первого дня мне стало ясно, что этот, так называемый преподаватель Кильского университета кафедры русского языка – обыкновенный НТСовец, антисоветчик, который приехал на фестиваль ничуть не для отдыха, а для самой что ни на есть работы.
Кстати говоря, уже через три месяца в Москву он прислал мне письмецо и мою с ним фотографию. Значит, кто-то был с ним второй, который снимал нас, когда мы сидели на скамеечке. Он потом показывал мне крохотный фотоаппаратик, величиной со спичечный коробок, но это уже было в конце, после того как я и Пекелис поняли, что никакой он не военнопленный, а сражался против Красной Армии в рядах Власова. Получилось это так.
Американцы попросили меня подарить им мою книжку. Я пообещал им это сделать. Но их делегация жила за городом – в городе-спутнике километрах в двадцати пяти от Хельсинки.
С машинами у нас было трудно, а постольку-поскольку я там представлял газету «Известия», брать машину Юры Голошубова, собкора газеты «Скандинавия», было неудобно, потому что ему и Кривошееву, приехавшему вместе со мной, надо было все время быть около нашего штаба, чтобы знать все происходящее на всех аренах фестиваля: и в дискуссионных клубах, и на стадионах, и в других городах.
Так вот, как-то раз приехал Виктор Михайлович, который, кстати говоря, тоже умолял меня подарить ему книжку. Книжку я ему подарил и в придачу дал еще поллитра и написал на поллитровой этикетке: «Пей российскую русскую водку и не чихай, Виктор Михайлович!», или что-то в этом роде, точно я уже не помню.
Я попросил Виктора Михайловича отвезти меня к американцам, чтобы я успел им подарить книжку (это было накануне моего отъезда). Виктор Михайлович как-то засуетился, стал смотреть на часы.
Я его пристыдил:
– Что, Виктор Михайлович, боитесь, что свистну вас? Он засмеялся и ответил:
– Я чекистов за версту чувствую. Они прислали мне в ФРГ сообщение и приглашение в страну от моего двоюродного брата, но я воробей стреляный, меня на мякине не проведешь.
– Пасуете?
Виктор Михайлович покраснел и сказал:
– Ну ладно. Вы выходите к входу, а я сейчас подгоню машину.
Он подогнал голубой «фольксваген», и мы с Витей Пекелисом поехали к американцам. И вот тут у нас пошел разговор более или менее откровенный.
Витя Пекелис сказал, что он служил во власовской армии, вывел из окружения роту, расстреляв перед строем предателя – командира, за что был награжден орденом Красного Знамени и произведен из сержантов сразу в старшие лейтенанты.
Виктор Михайлович аж взвился и стал спрашивать: «А кого вы знаете из власовцев?» Мы с Пекелисом переглянулись, и в общем-то все нам стало ясно. Пекелис перечислил фамилии генералов и командиров, которые ушли с Власовым к фашистам.
Виктор Михайлович качал головой, что мол знает их, и говорил: «Этот в Париже... Этот в Мюнхене... Этот во Франкфурте-на-Майне».
Мне тогда – в Хельсинки – казалось, что Маша Воробьева и Виктор Михайлович знают друг друга. Даже Маша как-то мне сказала:
– Знаете, мне кажется, что Виктор Михайлович из прибалтийс ких немцев.
Я ее спросил:
– Почему вы так думаете, Машенька?
Она мне ответила:
– Я – филолог. Мне это кажется по произношению...
Но убеждение это у меня было совершенно точным.
У Васи Захарченко, в его дискуссионном клубе, который помещался в одном из фешенебельных районов Хельсинки, в фешенебельном трехэтажном здании, отделанном мореным деревом, – там был свой постоянный разведчик – Ли Ренс. Он ходил в рваном пиджаке и заштопанных джинсах, подчеркивая этим свой демократизм.
Одному из наших он сказал:
– Меня сейчас приглашают работать в радиостанцию «Голос Америки». Как вы думаете – стоит мне туда идти?
Сказал он это с наивным видом, стараясь позондировать почву и вызвать людей на дискуссию о передачах «Голоса Америки», но на дискуссию с ним никто не пошел, а так посмеялись, и разговор на этом закончился.
Так вот – Ли Ренс Машу знал очень хорошо, а Маша знала Виктора Михайловича.
А Виктор Михайлович в беседах со мной смертным матом ругал американцев и все время кричал: «Мы – русские люди, мы любим свою родину. Американцы негодяи!»
Кстати сказать, он мне говорил, что он сейчас ищет верного человека в Париже, чтобы открыть там переводческое бюро. Так как он – перемещенное лицо и у него нет паспорта, то ему обязательно нужно верное подставное лицо. В машине, когда мы подъехали к американской резиденции и я подарил ребятам-коммунистам свои книжки, мы потом долго сидели, пили шотландское виски и спорили с Виктором Михайловичем.
Он говорил:
– Ни одна нация в истории человечества не знала такой массо вой эмиграции, как это познала русская нация, если, правда, не счи тать жидов.
Он сказал не жидов, а жидов.
Я ему говорю:
– Виктор Михайлович, вот теперь вы начинаете говорить откро венно, своим лексиконом – евреев называете жидами.
Виктор Михайлович заторопился, засмущался и сказал:
– Да нет же, я не звериный антисемит.
Я ему сказал:
– Обыкновенный антисемитизм ничуть не лучше звериного.
Виктор Михайлович сразу же стал уходить от этого разговора.
Вообще я убедился, что они – живущие в эмиграции и активно выступающие против нас – ничегошеньки не знают и не понимают, не могут понять происходящего сейчас у нас на Родине.
Споря с нами, Виктор Михайлович очень волновался. Мне даже кажется, что мы зародили в нем семя сомнения в правильности его деяний. А в общем – черт его знает! Может быть, это – мимикрия.
Я его, кстати, спросил:
– А как же с самогонкой, Виктор Михайлович? Наши пленные ржавую воду пили, а что касается самогонки, так этого в литературе не было.
Виктор Михайлович засмеялся и сказал словами песни:
– Бабы кормили меня,
Парни снабжали махоркой...
Была у меня еще одна занятная встреча. На второй день фестиваля к пирсу Хельсинкского порта пришвартовалась шхуна «Матильда» – полупарусник, полутрубный корабль – Международного альянса студентов.
Мы туда с Генрихом Гурковым приехали поздно ночью. На рейде светились огоньки. Рядом с «Матильдой» – весь в джазовых песенках корабль «Гдыня» польской делегации.
Мы оставили свою машину и пошли на шхуну «Матильда». Рослый парень стоял в дверях и никого не пропускал. Мы показали свои корреспондентские карточки, сказали, что мы из Советского Союза, на нас посмотрели со смешанным чувством страха и удивления и... пропустили.
По вертикальной лестнице мы спустились вниз и попали в трюм. Полуосвещенный зал. Ревет джаз. За столиками пьют пиво и оранжад очаровательные девицы и зверообразные молодые люди в толстых джемперах. Прислуживают студенты негры, которых здесь рекламно обнимают, рекламно хлопают по плечу и рекламно подчиняются всем их просьбам: пересесть от этого столика за другой, взять этот бокал и поставить тот, отнести пепельницу и выбросить окурки в мусорный ящик. Мы стали разговаривать с одним негром.
В это время сверху нас стали снимать. Лица того, кто нас снимал, не было видно – просто объектив и несколько вспышек блица.
Спрашиваем негра:
– Кто дал шхуну?
Негр мнется – не знает, что отвечать. Его оттирает плечом здоровенный парень – белоглазый, беловолосый, белолицый – и по-русски спокойно нам отвечает:
– Шхуна арендована, средства собраны. Хотите взять литерату ру – вот, пожалуйста.
Он нас отводит в следующий отсек трюма. Там лежит в основном религиозная литература на русском языке. Сделана она пропагандистски очень точно и тонко.
Здесь хвалят достижения коммунистов, ругают капиталистов, но при этом протаскивают то, что им протащить надо; прямолинейности никакой.
К примеру, на обложке журнала «Свет и жизнь» на фоне прекрасно выполненной цветной фотографии химической лаборатории – ультрасовременной, а посему страшной – маленькая врезочка: «Малое знание удаляет от Бога, большое знание приближает к нему» и подпись: Луи Пастер.
Беседовали мы на «Матильде» довольно долго, но, говоря откровенно, когда я смотрел на окружавшие нас белые морды – злобные, холодные, мне было страшно, просто по-настоящему, по-человечески страшно.
Конечно, никто это судно не арендовал. Ничего себе – студенты могут арендовать огромнейшее морское судно! Кто разрешил им пришвартоваться к порту, когда все места в порту были забронированы для участников фестиваля?!
Рассказывают (я уже этого не видел), что поляки, ребята мудрые и смелые, сделали любопытную вещь: они с вечера занимали все места, все столики на «Матильде» и таким образом этот фашистский корабль превратили в коммунистический, потому что та шваль, на которую этот корабль ориентировали, не могла получить ни одного места за столиками: там сидели поляки, пили пиво, пели песни, танцевали.
Замученные негры носились с пивом, парочка белолицых организаторов растерянно хлопала глазами и ничегошеньки не могла поделать. По-моему, это – великолепный образчик той пропагандистской, правильнее сказать – контрпропагандистской работы, которую и надлежит вести.
Помню скандальную историю с пресс-конференцией негра Ононкво, который был выдворен из СССР и выгнан из института за то, что он на танцах избил девушку.
Вот этот самый негр, выступая в американском клубе – в крупнейшем антифестивальном центре, обрушился на СССР и на фестиваль с довольно старыми и затасканными штампами антисоветской пропаганды.
Мы там сидели вместе с Генрихом Гурковым и Сашкой Кривопаловым из «Комсомолки» и, разозлившись, сорвали к чертовой матери всю конференцию, а сорвать ее можно было легко, потому что Ононкво говорил примерно так:
– Один студент в СССР говорил мне, что он ненавидит комму нистический режим. Один студент говорил мне, что в стране цар ствует разнузданный антисемитизм. Один студент говорил мне, что он мечтает эмигрировать из СССР.
Тогда я спросил Ононкво: знает ли он, что такое телеграфное агентство ОГГ – «одна гражданка говорила»? Он сказал мне:
– Товарищ, я побеседую с вами с глазу на глаз.
Но почему-то потом беседовать со мной с глазу на глаз он отказался. В общем, была довольно топорная инсценировка, никак не отличавшаяся той изысканностью, которая может ложь сделать на какое-то время правдой.
7 марта 1963 года
Когда я был у Коли Нечаева в Оренбурге (Коля Нечаев – парень необыкновенно славный, добрый, талантливый, только малость не по-русски истеричный), он меня познакомил с поэтом Робертом Казачковым.
Вернее – в ресторане Казачков подошел сам и по бороде признал. Человек он занятный. Забавно то, что фамилия у него не псевдоним, а настоящая – Казачков, но он – еврей на все 103 процента и даже говорит с небольшим акцентом.
Так вот, он откусил ухо дружиннику в вытрезвителе. Когда он рассказывал эту историю, я сразу я с необыкновенной нежностью вспомнил рассказ Куприна «Гамбринус».
Дело у Казачкова было так. К нему придрались ребята на улице, что он якобы пьян. А он просто шел, как поэт, чересчур валко, чересчур демократично, бесшапочно и читал какому-то приятелю стихи, в которых отнюдь не было матерной брани, но область седалища в этих стихах называлась не «попка», а более категорично.
Бедного Казачкова привели в вытрезвитель и, когда он сказал, что он – поэт и что он трезв, как профсоюзная директива, его стали вертеть и ломать, дружинники у нас очень любят показать свою властность.
И, когда на невиновного трезвого человека в вытрезвителе пятеро сильных парней набросились и ни за что ни про что, повалив, стали избивать, он увидел прямо перед своими глазами потное маленькое хрусткое ухо. И – завопив, он это ухо откусил. Раздался нечеловеческий вой.
От Казачкова все отпрянули. Он выплюнул ухо изо рта и, будучи по образованию биологом, сказал:
– Только не надо шуметь. Если есть холодильник, спрячьте ухо в холодильник – его можно будет потом пришить.
Дружинник тихо плакал, сидя на деревянной скамейке, причем плакал он не от боли, а от самого факта.
На утро Казачков освидетельствовал в больнице все свои ушибы и раны и сейчас, замирая и таясь, ждет суда.
Сидя с приятелем в ресторане «София», встретил Леву Петрова, ныне работающего в АПН во французской редакции. Мы с ним вместе учились в Институте востоковедения. И смешно – он мне рассказал, как я в 1950 г., когда мы ехали эшелоном на военные сборы в Колодища (под Минском), ходил в Смоленске, где мы стояли около суток, по вагонам проходивших пассажирских поездов и, закатив, как слепой, глаза, пел песню: «Подайте, подайте, граждане!»








