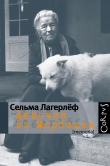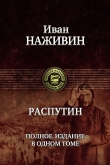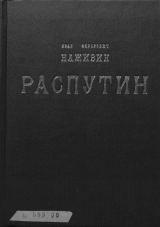
Текст книги "Распутин"
Автор книги: Иван Наживин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 75 (всего у книги 81 страниц)
«Но я не хочу обольщать себя сказками. Всю жизнь прежде всего я искал правды, – не откажусь я от нее и теперь никакой ценой. Мир… Так. Но возможен ли он?
Все человечество с самого начала его истории представляется мне разделенным на два количественно неравных лагеря: на людей с тихой и светлой душой Авеля и на людей с душой темной и жесткой Каина. И темный Каин всегда стремится захватить себе все. Разве не Каины поднесли чашу с цикутой светлому Сократу? Разве не темные Каины распяли Христа? Разве не Светлый крикнул в лицо Темным свое удивительное: «А она все-таки вертится!» И на всем протяжении истории видно это жуткое разделение. И нет никакого моста, который соединял бы эти два различных мира. А если иногда и происходило что-то такое похожее на соединение, то становилось еще страшнее: у светлого Авеля вдруг вырастали страшные клыки Каина и щетинилась на загривке звериная шерсть… Ведь из нежной галилейской сказки выросла инквизиция, ведь Его именем замучено людей, может быть, не меньше, чем замучил их какой-нибудь Аттила. Его имя оказалось знамением в волосатых руках Темных, и они залили мир кровью во имя Его, друга птиц небесных и полевых лилий… Мы все знали святых революционеров. Как ни далеки они от нас, людей с опаленными крыльями, все же мы не можем не сказать о них с умилением: да, это были светлые дети Божий. И на наших глазах пьяные матросы и проститутки, подлые карьеристы и беглые каторжники вырвали у них из слабых рук светлое знамя и сказали: «Это знамя понесем теперь жизнью мы». И тотчас же открылись смрадные вертепы чрезвычаек, реками полилась человеческая кровь, и содрогнулась земля от неслыханных преступлений. Все содержание истории представляется мне борьбой Темных за господство. И для борьбы этой они готовы принять какое угодно знамя: Любовь, Родина, Нация, Интернационал, Бог, Справедливость, Империя, все, что угодно… Темные Каины владеют жизнью, и все усилия Светлых победить их в течение тысяч лет не привели ни к чему. Мир – какой же возможен между ними мир? Мир может быть куплен только ценою отказа Светлых от того, что их светлыми делает…»
И сразу потемнел в тоске голубой, солнечный, прекрасный мир. Стало безвыходно и тесно. Евгений Иванович поднялся и снова каменистой тропой пошел вверх. И обессилила мысль, и снова жизнь представилась унылой дорогой, которая не ведет никуда. А это озеро? А солнце? А прекрасные вершины?.. Может быть, это только миражи, прекрасные обманы, которые только на время могут заглушить тяжкое сознание горького обмана жизни…
«Да, все маяки потухли, и нет у нас ни твердого знания, ни веры, ни надежды, ни любви. Но показать миру язык – как пресловутый Дьявол на церкви Notre Dame [117]117
Нотр Дам (фр.),собор в Париже.
[Закрыть]в Париже, которого совершенно напрасно прозвали Мыслителем, – всякий дурак может. Вот если бы найти ключ к загадке жизни, понять, почему – несмотря на ее кажущуюся глупость, бедственность, бесцельность – все с песнью приходит и с песнью уходити ни за что умирать не хочет, раскрыть до конца эти ее колдовские чары – вот задача для подлинного мыслителя… Ясно только одно: не политиками и не политикой могут быть раскрыты эти основные вопросы нашего бытия! Если бы Ленина, Маркова II, Милюкова, Вильгельма, Маркса высадить на какой-нибудь необитаемый остров, как Робинзона, к вечеру того же дня они поняли бы неизбежно, что все их кипение – это только результат самоуверенной глупости, что вся их политика вжизни ни на что решительно не нужна…»
Он, уже довольно усталый, вышел на широкую поляну Готценальма. Справа высился в лазурной вышине расколотый надвое Ватцман, слева – Высокий Гель, а прямо перед Евгением Ивановичем вдали ослепительно сверкал под солнцем серебряный панцирь Übergossene Alp… [118]118
Высокие Альпы (нем.).
[Закрыть]Среди поляны стоял старенький забуревший домик, где летом в сезон туристы находят отдых и подкрепление. Теперь вокруг все было пусто и торжественно. И это безлюдье одновременно и щемило немного сердце, и радовало: спокойно в мире было бы без человека!
И в сияющем мире гор точно чуялась какая-то перемена. Кое-где среди голубых гор показался туман, тихие белые реки, которые бесшумно обтекали скалы и точно искали соединиться. И как будто не так ярок был уже свет весеннего солнца…
Около серой хижины мелькнула вдруг сгорбленная фигура человека. Евгений Иванович подошел поближе. Это был старый рабочий, который с топором в руках что-то постукивал вокруг хижины. Его бритое морщинистое лицо показалось Евгению Ивановичу знакомым.
– Grüss Gott! [119]119
Здравствуйте! (нем.).
[Закрыть]– ласково сказал Евгений Иванович.
– Grüss Gott! – тоже ласково отвечал старик.
– А где это я точно видел вас? – спросил Евгений Иванович. – Да, вчера в Берхтесгадене: вы смотрели на митинг националистов. Так?
– Да, да… – отвечал тот и, тряхнув головой, прибавил задумчиво: – Ja, ja: grosse Worte und Federn gehen viel auf ein Pfund!.. [120]120
Да, да: большое слово и перо во многом происходят от таланта (нем.).
[Закрыть]
– Значит, не понравилось вам?
– Чему же тут нравиться? – сказал старик. – Слова… Reden kommt von Natur, Schweigen aber von Verstand… [121]121
Речь дается природой, а молчание – пониманием (нем.).
[Закрыть]А куда вы это собрались?
– Да так, в горы…
– Ну, это дело теперь не выйдет… Через полчаса погода переменится, и в горах вы пропадете… Всего лучше переждать бурю вот в хижине…
«Ведь вот не один же я в мире… – подумал Евгений Иванович. – И его вот мысль бродит в темноте, видимо, где-то совсем близко от моей…»
Старик, скрябая ногами, пошел за дом, и снова застучал там его топор.
Евгений Иванович, сняв рюкзак, с удовольствием отдыхал: он поднимался уже шесть часов. Белые реки тумана вздулись. Горы грозно посинели. И отделились от молочных рек белые облака и, как гонцы, побежали среди гор вдаль. И пропало солнце, и мир потускнел, и нахмурился, и похолодал… И резко ударил холодный ветер…
– Ну, а теперь пойдем в хижину… – сказал старик, появляясь. – Сейчас заревет…
И действительно, не успели они войти в домик с дощатыми нарами и грубым столом, как за стенами его взвыла буря, повалил густой снег, и в хижине сразу угрюмо потемнело. Старик развел на очаге огонек, оба закусили, и так как разговаривать было трудно – Евгений Иванович с трудом понимал баварское наречие, – да и не о чем, то оба на грубых холщовых матрасах, которые служат летом туристам для ночевки, укрывшись, легли подремать.
Но как ни устал Евгений Иванович, сон не шел к нему.
«Все равно: и несокрушимая власть Темных, и невозможность учесть даже приблизительно последствия деяний наших, и вечная сила слепого Случая, – думал он, – но все же жить как-то надо. И не следует бояться изменчивых текучих форм жизни. Был и исчез Вавилон, и Египет, и Греция, умерла Римская империя, отшумело Средневековье, отцвело Возрождение, и ничего страшного не произошло: жизнь продолжается. В Древнем Риме был удивительно поэтический обычай ver sacrum: [122]122
Для бога! (лат.).
[Закрыть]в случае какого-нибудь тяжелого общественного бедствия народ давал торжественное обещание посвятить всех родившихся в этом году детей богам. И вот как только дети эти достигали двадцатилетнего возраста, ранней весной первого марта все они, подняв знамена с изображением дятла и волка, прощались навсегда с остающимися и уходили куда глаза глядят. Веселое солнце священной весны, первые цветы на чуть зазеленевших полянах, манящие, как и теперь, дали, и по солнечным дорогам идет эта молодая толпа в неведомую даль, идет месяц, идет три, идет до тех пор, пока не придет в такое место, которое ей понравится для постоянного поселения. И песни, и опасности, и любовь в сиянии звезд, и смерть среди полей, и горы, и реки, и глушь, и восторг, и воля. Так пришли из древней Бактрии, из Гималаев, сами римляне, так вышли оттуда родоначальники всех других европейских народов, так потом стали отстраиваться в сиянии ver sacrum молодые рои от самого Рима. Мне жаль, что прелестный обычай этот забыт народами: места на земле, куда могли бы направиться наши sacrani, [123]123
Посвященные богом (лат.).
[Закрыть]еще очень много. Но не должна ли быть и вся жизнь человечества такой вечной ver sacrum, таким радостным походом в неизвестное? И если люди, в бешенстве разрушив старое, ошиблись в выборе пути к новому, то из этого никак не следует, что надо возвратиться назад, к заведомо плохому, но надо, оставив ложные пути, в поте сердца искать путь правильный: semper idem [124]124
Всегда то же самое (лат.).
[Закрыть]– смерть. Жизнь в semper ad astras! [125]125
Всегда к звездам! (лат.).
[Закрыть]Бедный Станкевич в его наивной легенде «О чем говорят звезды» был в тысячу раз более прав, чем все миллионы самоуверенных охранителей…
Semper ad astras!»
В волнении он даже приподнялся на своем сеннике. Старик, протрудившись весь день, мирно спал. За стенами бешено металась буря. И Евгений Иванович опять лег и, глядя широко открытыми глазами в сумрак, который сгущался все более и более, продолжал думать:
«Жить как-то надо… Как же жить? Как те Светлые, что, стремясь к звездам, осветили и согрели нашу жизнь. Не неизвестному солдату, который где-то когда-то как-то осквернил Божью землю кровью человеческой, должны мы ставить памятники, но неизвестному предку, впервые открывшему лен, неизвестному поэту, впервые подметившему неподвижность Полярной Звезды, неизвестному мыслителю, восторженно прошептавшему первую молитву. Всех их били, бьют и будут бить святейшие синоды, папы, чекисты, артиллеристы, кавалеристы, сотни черные, и сотни красные, и сотни белые, и сотни всякие, а они все стоят бессменно на страже своего сокровища, у чаши святого Грааля, у святых огней Человечности. Пусть даже нет у них ни малейших шансов на победу, но все же, все же правы только они, только они святы, только в них человеческая гордая и прекрасная жизнь! И что же в них самое главное, самое существенное? Самое существенное в них это: будь самому себе верен до конца и ничего не бойся: она все таки вертится!Рви цепи и поднимайся к звездам! Будь сам собой!.. Кто мне сказал, что я какой-то там окшинский домовладелец и редактор-издатель какой-то там газеты? Как мог я поверить такой лжи? Я в душе своей охотник-дикарь, я пастух, зачарованный звездами, я кочевник, влюбленный в землю, я жрец великого и таинственного Бога Неведомого, – ибо Бог ведомый, Бог названный уже не Бог!.. И я должен быть в жизни тем, чем я чувствую себя в душе…»
…Мягкая, теплая волна вдруг бархатно накрыла его, запутала своими ласкающими тканями и понесла, понесла, баюкая, в даль блаженную…
Он проснулся от ощущения необычайной тишины, В хижине никого уже не было. В маленькие, занесенные снегом оконца ласково светил розовый рассвет, и, точно подчеркивая торжественную тишину гор, за стеной радостно и нежно уже звенела капель: люли-люли-лель-лель… люли-лель… люли-лель…
Он бодро встал с своего сенничка, распахнул дверь и – замер на пороге: все вокруг было бело, и над белой землей этой, как горние алтари, сияли в тихом чистом небе алые вершины гор. Сразу потеплело, и нежно звенели жемчужные капели, и торжественными голосами лавин перекликались рдеющие в небе великаны. Земля казалась белоснежным храмом Богу Неведомому, и он, одинокий, был в этом бездонно-великом храме в эту минуту светлым жрецом… И в ожившей душе его пели сладкие, горячие, крылатые молитвы Богу Неведомому, и прекрасному храму его, и всем жрецам его, которые, не проливая и капли крови, – разве только свою! – двигали жизнь вперед, расчищали пути человечества от диких зарослей суеверий, давали братьям своим хлеб телесный и духовный, творили красоту и радость…
И радостный, восторженный, по чистой пелене снега, как был, без шапки, он прошел к краю скалы, на которой стояла хижина. И на краю голубой бездны под старыми дубами, на которых сохранилась еще желтая листва, – дуб долго держит старые листья – он остановился и смотрел вниз на густо-изумрудное теперь озеро, и восторженно дивился душой радостно-солнечным просторам земли, и все его существо было одним певучим, торжественным гимном… Он поднял глаза на горы. На самой вершине могучей расколотой пирамиды Вацмана, у Hocheck, [126]126
Горная вершина, пик (нем.).
[Закрыть]точно зацепившись за что, застыло небольшое, все золотое облачко: казалось, что кто-то молодой и дерзкий развернул там, среди торжественной переклички грозных лавин, золотое знамя, радостно возвещая миру спасение… Это было так прекрасно, так радостно, что Евгений Иванович невольным жестом ответно протянул туда руки и про себя воскликнул: «Да, да, к звездам! Под золотое знамя, ввысь! И если придут к твоему алтарю другие – радуйся, не придут – не печалься нисколько и никого не зови! Радость, радость!..»
Из голубых ущелий вырвался вдруг утренний ветер, пронесся по белым, тихим пастбищам и шевельнул старые дубы вокруг. И на Евгения Ивановича тихо посыпались листья, точно золотые кораблики, неслись они в солнечном воздухе, колебались, кружились и, тихо скрываясь в голубых безднах, нежно напоминали о конце всех концов. И вдруг вспомнилось осеннее утро в золотой Засеке, и вся та старая, безвозвратно ушедшая куда-то жизнь, и седая женщина в черном с трясущейся головой… И точно невидимая рука какая-то тихонько спустила радостно вибрировавшие струны его души, и печально зазвенели в памяти печальные слова поэта-тамила, жившего тысячу лет тому назад, слова, которые он поставил эпиграфом к своей тайной тетради, к Книге Живота своего:
Господи, в темноте хожу я…
Где же свет? Есть ли свет?
Ничего не знаю. Только спрашиваю себя:
Есть ли свет? Где же свет?
Господи, в пустыне брожу я!
Где же путь? Есть ли путь?
Как прийти мне к тебе, спрашиваю я себя.
Неужели нет пути? Где же путь?
«Да, жизнь кончается, и вся она была тихое страдание… – подумал он печально, поднимая свои мученические глаза в ясное небо. – Зачем? За что? Почему? Почему бросил ты меня в пучины жизни таким беспомощным? Зачем нужны тебе страдания мои? Никак не могу я поверить, чтобы ты хотел, чтобы я страдал! А я вот страдаю, страдаю, страдаю – и оттого, что не так прожита жизнь моя, и что скоро конец ей, неудачной, и что ничего мною не сделано, и что нет у меня сил вырваться из плена ее, и что за моментом подъема, когда душа, как проснувшийся лебедь, заплещет вдруг белыми крыльями, у меня идет всегда опять безверие, сознание бесполезности всяких усилий, отчаяние, потому что около памятника неизвестному предку, открывшему впервые лен, я буду непременно думать, что из этого льна сделали веревки, чтобы вешать людей, около памятника неизвестному поэту, впервые восторженно уронившему в бездны мира первую молитву, я буду думать, что из первой молитвы этой выросли религиозные войны, и инквизиция, и Святейший Синод, и Иван Кронштадтский, потому что знаю я, что стоит красиво сказать людям о лозунге сегодняшнего утра моего ad astras, [127]127
К звездам (лат.).
[Закрыть]как тотчас же будут образованы общества, союзыи лиги «Ad astras!», и будут члены почетные и непочетные, и интриги, и газеты, и расколы, и вражда, и будут люди во имя светлых звезд поливать друг друга помоями и кровью, и Тарабукин, может быть, будет избран почетным председателем такой лиги… Господи, Боже мой, я пошел бы на Голгофу без колебания, если бы знал я, что из подвига моего вырастет хоть немного радости, но я знаю, что радости не будет, и вот я боюсь и пальцем шевельнуть… И в конце всех этих терзаний моих, и близко, знаю я, стоит неразгаданная загадка могилы, в которой, по-видимому, кончается все…
Да, я не то, что я есмь… Но как, как стану я пастухом, кочевником вольным, светлым жрецом Бога Неведомого? Только изредка, на мгновение могу я сбросить оковы свои, а затем снова становлюсь я не тем, что я есмь, и иду жизнью чужими дорогами под какою-то и мне самому противною маской. Я раб, который только на минутку может вообразить, что ржавые цепи его – гирлянда цветов. Я только маленькая буква в Поэме Жизни, буква, которая о смысле Поэмы не имеет ни малейшего представления, но должна покорно стоять там, где неумолимыми законами какой-то гармонии ей от века предназначено стоять… Назад же, на свое место! Жизнь – это заботы о куске насущного хлеба, и вечерние зори, и бесплодные ссоры с женой, и гнет Тарабукиных, и вопли Голгофы, и пошлость, и измены, и безрадостный труд, и смех мимолетный, и улыбки детей, и звон сребренников Иуды, и женская ласка, и зловонное дыхание толп, и падающие звезды, и тяжесть незнания, и тяжесть познания, и – могилы, могилы кругом… Придет ли когда час освобождения, час торжественного преображения жизни, светлый час воскресения человека?.. Не знаю, не знаю, не верю!..»
И торжественно звучали вокруг хоралы грозных лавин, и нежно пела свою вешнюю песнь жемчужная капель, и кружились со старых дубов в бездны золотые кораблики, а из мученических глаз сына земли, червя мыслящего, по уже увядшим землистым щекам катились тяжелые, горькие, отравленные слезы. А там, на Вацмане, вверху радостно пылало золотое знамя – точно кто-то молодой и дерзкий восторженно возвещал оттуда усталым и запутавшимся детям земли спасение: Свободу и Радость…
Конец

ПРИЛОЖЕНИЯ
КОММЕНТАРИИ
Распутин. Исторический роман в трех частях. – В России издается впервые. Текст воспроизводится по первому изданию романа: Ив. Наживин. Распутин. Роман. Тома 1–3. Книгоиздательство д-ра Фритца Фикенчера. Лейпциг, 1923.
Переводы на иностранные языки: немецкий – Rasputin, роман в 3-х томах, авторизованный перевод Эдуарда Зиберта, Лейпциг, 1925; английский – Raspou-tine, роман в 2-х томах, перевод Э. Моод, Нью-Йорк, 1928 (плохой перевод, по замечанию автора романа); чешский – Raspoutine, роман, перевод В. О. Червинка, Прага, 1928.
После выхода переводов роман быстро получил мировую известность, популярность у читателей и высокую оценку критики. Знаменитый немецкий писатель, академик Томас Манн писал И. Ф. Наживину: «…Вы, вероятно, знаете о глубоком уважении и симпатии, которую я издавна питаю к литературе Вашей страны, и потому для меня было особенной радостью познакомиться с русским писателем, который совершенно непонятным образом до сих пор ускользал от меня. Ваш «Распутин» – монументальное произведение и был для меня во всех отношениях – в историческом, культурном и литературном – большим открытием…»
Восторженное письмо прислала автору «Распутина» всемирно известная шведская писательница, лауреат Нобелевской премии Сельма Лагерлёф:
«…Прочитав Вашего «Распутина», я чувствую себя исполненной величайшего удивления перед той силой и значением, с которыми Вы картина за картиной представляете русский народ… И Вам удалось достойным всякого удивления образом заставить эти картины жить. За чтением Вашей книги почти забываешь, что это лишь поэтический вымысел… Вы сумели, например, так изобразить Распутина, что он возбуждает интерес, которого я никогда раньше не испытывала к этому человеку. Неслыханные страдания, которыми должен был пройти Ваш народ, в Вашем рассказе захватывают…»
Знаменитый датский критик, автор фундаментального шеститомного труда «Главные течения в европейской литературе XIX века», профессор Георг Брандес так отозвался о романе в большой статье в газете «Politiken» (1926 г.):
«…Наживиным создано обширное и крупное произведение, которое по праву может стать рядом с не менее обширным романом Льва Толстого «Война и мир»… Этот эпос в прозе охватывает подавляющую массу лип всевозможных положений и может быть рекомендован всякому желающему познать современную Россию, как совершенно необходимое и мастерское произведение… Аристотель спрашивает себя, может ли художественное произведение в сто стадий длиной считаться действительно художественным произведением. Пусть Наживин не сердится на это напоминание о сотне стадий Аристотеля: написавший в дни моей молодости книгу в шести томах, я не могу делать упрека тому, кто выпустил труд в трех томах. Я могу только аплодировать».
Восторженные отзывы посвятили роману почти все литературные обозреватели Германии:
«… Хвала писателю! Подумайте только: книга в 1400 страниц, история культуры и нравов великого народа! Создано произведение, в котором автор проявляет себя как могучая творческая сила. Необычайное искусство изображения и художественная обработка огромного материала – вот что придает этому русскому писателю большое значение… Охватывая годы 1910–1920, Наживин, подобно Гоголю, дает готовые картины из всех кругов русского народа. До этого Наживина в Германии едва знали – этот роман одним махом сделает его у нас знаменитым».
«Hamburger Neueste Nachrichten», 14 ноября 1925 г.
«… Эти три тома рисуют упадок русского общества и причины, приведшие ею к этому разложению. Тут нет обвинительного стиля Кропоткина или Толстого. Роман написан с безграничной грустью, со всепонимающим сочувствием… Поэт стоит высоко над партийной грызней и одушевлен лишь одним желанием: служить бедной измученной России. Глубокомысленно изображающее современность и опережающее ее, произведение это принадлежит к числу тех, которые образуют как бы вершины своего времени… Для Наживина слова, которыми так часто злоупотребляют, человечность и справедливость не являются пустой фразой, но составляют задачу и содержание жизни…»
«Hamburgischer Korrespodent», 11 ноября 1925 г.
«…Наживин делает глубокий взрез, обнажающий русскую душу до дна. В этом романе мы получили культурно-исторический документ особой ценности… Наживин настоящий поэт, рассказчик чарующей силы, одно из самых могучих литературных явлений в тех поколениях, которые идут за Достоевским, Лесковым и Толстым…»
«Münchener Neueste Nachrichten», 4 ноября 1925 г.
А всего в германской печати было помещено более трех десятков восторженных отзывов о романе «Распутин».
После выхода английского перевода в Нью-Йорке к европейскому хору похвал присоединились и американские обозреватели.
Солидная «New York Tribune» в октябре 1929 г. писала:
«..Это огромное произведение некоторые европейцы сравнили в своем энтузиазме с «Войной я миром» Толстого. Если мы скажем, что один из этих критиков был ни много ни мало, как сам Георг Брандес, читатель поймет, что «Распутин» не обыкновенный роман. Так это и есть. В картине, созданной Наживиным, есть что-то подавляющее. Его творческие способности высокого и разнообразного порядка. Его подготовленность для такой задачи не оставляет желать ничего лучшего…»
Не менее солидная газета «Daily News» в статье со знаменательным названием «Великий русский» («A great Russian») так оценивала роман «Распутин» (12 февраля 1930):
«…Наживин более беспощаден, чем Толстой. Местами он прямо невыносим в своей силе. Но так как он крупный романист, даже самые мрачные страницы его смягчаются изяществом, красотой или иронией…»
Не остался незамеченным и чешский перевод романа. Газета русской эмиграции «Вечер» (март 1928 г.) сослалась на авторитет Г. Брандеса:
«…Ценность романа Наживина определил очень известный датский критик Георг Брандес, который заявил, что по широте горизонтов роман походит на «Войну и мир» Толстого».
А чешский критик Милослав Хисек в газете «Narodny Listy» уверенно заявил, что «…труд Наживина можно поставить рядом с «Войной и миром» Толстого».
Что касается советской печати того времени, то она постаралась роман Наживина не заметить, что ей и удалось. Лишь значительно позже в «Краткой литературной энциклопедии» 1968 г. промелькнула строчка о том, что существует такой роман «Распутин», «призванный доказать, что в социалистической революции в России «виновно» бездарное правление Николая II».Автор этой энциклопедической фразы вероятнее всего даже не читал романа.
Содержание:
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.
I РАСТАЩИХА 3.
II НОВЫЙ МУЖИК 6.
III ТИХАЯ ДРАМА 10.
IV ЯКОБИНЦЫ 15.
V В ТЕМНОТЕ 18.
VI ВАЖНЫЙ ГОСТЬ 22.
VII КОШМАР 27.
VIII ЦАРЬ, ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦ 29.
IX МОЛОДЕЖЬ 34.
X ГЕНИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 40.
XI ЖЕНОЛЮБ 44.
XII ФАНТАЗЕР 48.
XIII НА НИВЕ НАРОДНОЙ 51.
XIV ГОСТИ 55.
XV ГЛАС ВОПИЮЩЕГО В ПУСТЫНЕ 58.
XVI ЗОЛОТЫЕ КОРАБЛИКИ 62.
XVII ГЕРМАН МОЛЬДЕНКЕ, НАРОДНЫЙ ИЗБРАННИК 65.
XVIII КНЯЖОЙ МОНАСТЫРЬ 68.
XIX НА СОЛНЕЧНОМ БЕРЕГУ 71.
XX НА ПОРОГЕ МИРОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ 75.
XXI ПЕРВЫЙ УДАР ПО СТАРОМУ МИРУ 79.
XXII «ЖИВАЯ ВОДА» 81.
XXIII В ОДИНОЧЕСТВЕ 84.
XXIV ДЕД БУРКА 86.
XXV РАДОСТЬ ШАКАЛАМ 89.
XXVI ОБРАЗОК 91.
XXVII СМЕНА 93.
XXVIII В ПЕТЕРБУРГЕ 97.
XXIX МЕДНЫЙ ВСАДНИК 103.
XXX ВЕСНА 106.
XXXI ПОДВЯЗЬЕ 110.
XXXII У ОДНОГО КОЛОДЦА 115.
XXXIII ГОЛОД 118.
XXXIV ЦАРСКИЙ ПОСОЛ 122.
XXXV ЛЕСНАЯ ЯРМАРКА 125.
XXXVI ЛЕГЕНДА 129.
XXXVII КОНЕЦ ЛЕГЕНДЫ 131.
XXXVIII ТАЙГА 133.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ.
I «ВОЛЯ БОЖИЯ» 137.
II РЮРИКОВИЧ 141.
III ДОН КИХОТ САМАРСКИЙ 145.
IV ТРИСТА ШЕСТЬДЕСЯТ ПЯТЬ ЖИЛЕТОВ 147.
V МАДАМ АЛЕКСАНДРИИ ИЗ ОДЕССЫ 151.
VI ЗАСОХШИЙ БУКЕТИК 154.
VII «ВСЕ ДЛЯ ВОЙНЫ!» 158.
VIII ОСКАЛ ЗВЕРЯ 163.
IX ЗАПЯТАЯ 166.
X «ДОМОВЫЕ» 170.
XI ГРИГОРИЙ ГУЛЯЕТ 173.
XII «ПЯТЬ ЧАСОВ У ФОНТАНА» 176.
XIII УЧИТЕЛЯ НЕ ОТСТАЮТ 179.
XIV ГИБЕЛЬ ДЕРЕВНИ 184.
XV БОЙКОЕ ВРЕМЯ 188.
XVI ГОЛОС ИЗ МОГИЛЫ 192.
XVII ДЕСАНТ 198.
XVIII КОГДА ПОТУХАЮТ ОГНИ… 203.
XIX СЕМЬ МАГИЧЕСКИХ БУКВ 207.
XX НА БРОШЕННОМ ХУТОРЕ 211.
XXI ВЕЛИКОМУЧЕНИКИ 215.
XXII В ОКОПАХ 220.
XXIII В ЛАЗАРЕТЕ 224.
XXIV МАЛЕНЬКАЯ ЖЕСТОКОСТЬ 229.
XXV ГОСПОДА ЗОРИНЫ 233.
XXVI НОВЫЕ ДУМЫ 236.
XXVII МАТРОСИК КИРЯ 239.
XXVIII ИСПОВЕДЬ МИЛОСЕРДНОЙ СЕСТРЫ 242.
XXIX МАЙН ЛИБЕР АВГУСТИН 245.
XXX СУМАСШЕДШАЯ 248.
XXXI СТАРОСТА 251.
XXXII ЭНЕРГИЧНЫЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ 254.
XXXIII ЧЕРНЫЙ СТЕЖОК 257.
XXXIV СТРАННИК 260.
XXXV ПОХОД К ЦЕРКВИ 264.
XXXVI У ВРАТ ЦЕРКОВНЫХ 267.
XXXVII ПОД КОЛЕСАМИ ДЖАГГЕРНАУТА 270.
XXXVIII АГОНИЯ 273.
XXXIX О САМОМ ГЛАВНОМ 277.
XL ОБРЕЧЕННЫЕ 282.
XLI БЕСПОЛЕЗНАЯ КРОВЬ 286.
XLII ВЗРЫВ 292.
XLIII ШЕСТВИЕ В РАЙ 298.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.
I МАЛЕНЬКОЕ ЗЕРКАЛО 302.
II ВОДЫ ПОТОПА ПОДНИМАЮТСЯ 307.
III ПЕТЕРБУРГСКИЕ СТАРУШКИ 310.
IV КРАСНОЕ ЯИЧКО 313.
V ЦАРКОСЕЛЬСКИЕ КОСУЛИ 315.
VI В КРОВАТИ АЛЕКСАНДРА III 319.
VII ОТЕЦ ФЕОДОР 324.
VIII КОНЕЦ ПОДВЯЗЬЯ 327.
IX ЗАВЕТНАЯ МЕЧТА 331.
X СТУК В ДВЕРИ 335.
XI ВАСЮТКА НЕ ОТСТАЕТ 340.
XII ДЯДЕНЬКА ПРОКОФИЙ ДЕЛО УЛАЖИВАЕТ 342.
XIII СВАРЬБА 345.
XIV А ДЕЛО ВЫХОДИГГ, РЕБЯТА, ОБМАН! 349.
XV В ЛЕДЯНОЙ СТЕПИ 352.
XVI АРМИЯ III ИНТЕРНАЦИОНАЛА 355.
XVII НА ПРИВАЛЕ 358.
XVIII В ЗАСТЕНКЕ 362.
XIX ЧУДО МАТУШКИ БОГОЛЮБИМОЙ 365.
XX ВСТРЕЧА 369.
XXI СВОИМИ СРЕДСТВИЯМИ 372.
XXII БЕЛЫЕ АКАЦИИ 374.
XXIII 16 ИЮЛЯ 1918 376.
XXIV ВЕСТЬ ИЗ ПРЕКРАСНОГО ДАЛЕКА… 381.
XXV В КРАСНЫХ ВОДОВОРОТАХ 383.
XXVI ОДИН ИЗ СПАСИТЕЛЕЙ 388.
XXVII НОЧЬ В КРЕМЛЕ 390.
XXVIII ПОСЛЕДНИЕ ПОХОЖДЕНИЯ ВАСЮТКИ 394.
XXIX ЕЩЕ ОДНИМ ФЕДЕРАТИВНЫМ СОЦИАЛИСТОМ МЕНЬШЕ 398.
XXX КОНЬ КОМИССАРА 400.
XXXI ФИНАЛ 404.
XXXII В БЕРЛИНЕ 407.
XXXIII НАСТЯ 412.
XXXIV ГРАФ ВСЕ ЖЕ НЕ УНЫВАЕТ 415.
XXXV МАШИНКА ПРИНЦА ГЕОРГА 419.
XXXVI СОБАЧЬЯ СВАДЬБА 422.
XXXVII ВЕСТИ ИЗ ДОМА 427.
XXXVIII ОДИН ИЗ ОБЛОМКОВ 433.
XXXIX СТИХИ ВАНИ 437.
XL ВОЛГА, РУССКАЯ РЕКА 440.
XLI ГИБЕЛЬ КОЛДУНА 444.
XLII ОТВЕТ ХРИСТА 448.
XLII ЗОЛОТОЕ ЗНАМЯ 453.
ПРИЛОЖЕНИЯ459.
КОММЕНТАРИИ459.
КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ СПРАВКИ474.
СЛОВАРЬ РЕДКИХ И УСТАРЕВШИХ СЛОВ И ВЫРАЖЕНИЙ494.
При подготовке текста настоящего издания редакция столкнулась с рядом текстологических проблем, для разрешения которых пришлось допустить небольшое вмешательство в авторской текст.
На с. 235 (т.1) лейпцигского издания 1923 г. в средине абзаца «Сняв шляпу, Евгений Иванович отер с лица пот…»допущена, вероятно автором, ошибка в предложении – «Там на грязной сырой соломе валялись, как мертвые тела, еще четыре оборванных и совершенно пьяных человека…» —и далее автор перечисляет валяющихся; их оказывается не четыре, а пять: Григорий, Дмитрий, Иван, Петро и Алешка Кривой. Поэтому мы взяли на себя смелость исправить эту ошибку (см. с. 153 настоящего издания).
В том же томе лейпцигского издания на с. 303 жена учителя Алексея Васильевича названа Аксиньей Григорьевной,тогда как далее у нее всюду отчество Ивановна.Поскольку Григорьевнавстречается лишь однажды, мы решили исправить эту ошибку (см. с. 196 настоящего издания).
Во 2-м томе лейпцигского издания на с. 15 явный пропуск слова во фразе: «Пусть! Может быть, с военной точки зрения эти семь немцев на одной пике и нелепость, не знаю, так как я никогда – ха-ха-ха-не держал лики в руках, может быть, даже никакого Кузьмы Крючкова и на свете нет совсем и не было, но это воодушевляет, это поддает жару нашим добросовестным <…>, и поэтому это нужно».Знаками <…> обозначено место, где явно пропущено слово, вероятно, <воинам>или <солдатам>.Скорее всего, это типографская ошибка, которую мы посчитали необходимым исправить (с. 249 настоящего издания).
На с. 165 3-го тома лейпцигского издания во фразе: «4 пока Алексей делал подробный доклад о своей разведке в Екатеринодаре, о безумных расстрелах и бесчинствах, творимых большевиками, о все <…> недовольстве населения, а в особенности казаков…» – явно пропущено какое-то слово, возможно <растущем>.Этот текст в настоящем издании на с. 631 опубликован с использованием угловых скобок.
На с. 251 того же тома лейпцигского издания явная ошибка во фразе: # – Вы правы, генерал… – сказал Троцкий. – Я не только не могу пойти навстречу желаниям товарища Троцкого, но в наше время…»Судя по контексту вместо товарища Троцкогодолжно быть товарища Бонча,что и исправлено в нашем издании (с. 686).
В том же томе 3 (с. 363) допущен явный типографский брак – очевидно пропущена строка во фразе: «И есть у меня дружок один, тоже священник, в Самарской губернии; так пишет мне он, что после того, как очистилась Церковь от этого зла многовекового, множество сектантов-отщепенцев радостно вернулись к бедной и убогой Церкви, и их руками Церковь освобождается от этой <… > любимую так, как чтят Ее теперь, как никогда не припадали с таким усердием к мощам великой благоверной княгини нашей, как после их вскрытия большевиками…»
Знаками <…> обозначено место, где пропущен текст. Конец фразы можно восстановить более или менее достоверно: *…Церковь освобождается от этой <ереси>».Начало же следующей фразы не восстанавливается, хотя смысл понятен: никогда не чтили Церковь любимую так, как чтят ее теперь.
Рукописи И. Ф. Наживина (если они, конечно, сохранились) недоступны; других изданий «Распутина» не было; поэтому пришлось сократить текст так, как это сделано у нас на с. 757.
На с. 416 того же тома напечатано Николай Иванович(Гвоздев), хотя всюду он Иван Николаевич,что мы и учли в нашем издании (с. 791).
В тексте романа исправлены явные ошибки и опечатки.
В остальном редакция стремилась сохранить своеобразие стиля автора, приведя только орфографию и пунктуацию к современным нормам, но не исправляя некоторые особенности авторской манеры: например, его любовь к употреблению тире либо употребление в авторской речи искаженной лексики героев.
Редакция выражает искреннюю благодарность за помощь в работе над этим томом Гельмуту Гансовичу Геннису и Георгию Гельмутовичу Теннису.
Ниже помещается реальный комментарий к роману, при этом мы должны предупредить, что не все реалии нам удалось раскрыть. Особенно это касается реальных исторических лиц, поскольку наряду с подлинными историческими деятелями, с одной стороны, и вымышленными персонажами, с другой, в романе присутствует целый ряд лиц, о которых автор говорит намеками, изменяя их имена и фамилии, но так, что об их прототипах можно догадаться и по звучанию придуманной фамилии, и по событиям, связанным с ними. Так например, выведенный в романе главнокомандующий Добровольческой армией Гай-Гаевский невольно ассоциируется с подлинным лицом – Владимиром Зеноновичем Май-Маевским (1867–1920), генералом, участником белого движения. Другой герой романа – казачий генерал Белов, поднявший на юге мятеж против красных, а затем перессорившийся со своими соратниками по белому движению, вызывает в памяти реально существовавшего атамана Войска Донского с такой же «цветной» фамилией, но другой окраски – Петра Николаевича Краснова (1869–1947), который создал белоказачью армию, служил у Деникина, но не поладил с ним. В таких случаях полностью отождествлять литературные персонажи с реальными лицами нельзя, тем более, что и сам автор этого явно не хочет: в случае с Беловым – Красновым автор даже упоминает реального П. Н. Краснова отдельно, как бы подчеркивая, что Белов – это не Краснов. Естественно, что такие намеки мы не имели права вносить в реальный комментарий, поскольку в их истинности никто, кроме самого автора, не может быть уверен.