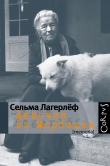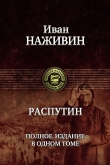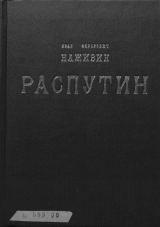
Текст книги "Распутин"
Автор книги: Иван Наживин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 81 страниц)
Они отобрали стопку пластинок и, поручив вертеть граммофон Стеше, глазастой горничной с белой штучкой, вышли снова на террасу.
– Еще бутылочку?
– Можно, можно…
– А что же персиков никто не попробовал? Свои ведь, не елисеевские…
Смеркалось. Сильно пахло росой и цветами. Город затихал. Мустафа грустно смотрел на суету людей на террасе – его тяготила и музыка эта, от которой хотелось выть, и весь этот ненужный, по его мнению, шум. А граммофон валял вовсю.
– Эх, только вот дамы тут, а то я такие пластинки закатил бы вам, пальчики оближете!
– Ну, не институтки, Степа! – сказала Люба.
– Не говори, Люба: есть такие, каких ни одна институтка не выдержит… – возразил Степан Кузьмич. – Пойдемте, кавалеры, в кабинет ко мне, я там заведу…
– Нет, тогда уж лучше мы с Анютой к реке пока пройдем… – сказала Люба, вставая. – Надо освежиться немного – я так вся и горю… Пойдем, Анюта!
Степан Кузьмич тут же услал горничных, достал из запертого ящика письменного стола запретные пластинки и, сияя, вышел с ними на террасу.
– Ну-ка вот, послушайте… – сказал он и, скомкав салфетку, заткнул ею горло граммофона, чтобы не было громко. – Слушайте…
Бойко, с необыкновенным азартом машина отрапортовала чрезвычайно сальный анекдот, от которого дядя Вася так расхохотался, что даже стал, как ребеночек, икать. Ваня лаконически протелеграфировал свое полное удовольствие, но смеяться себе не позволил: он думал, что американцы смеяться не должны. И еще анекдот, и еще. Дядя Вася таял, умирал и приговаривал:
– Да, вот это бы институточкам-то!.. Это вот как раз для них… Что за прелесть… Хе-хе-хе…
– Что? А? – гордился Степан Кузьмич. – А ну-ка вот эту…
Ваня незаметно вытащил из жерла граммофона салфетку, и оттуда посыпалась вдруг отборная, необыкновенно замысловатая ругань. Степан Кузьмич бросился было заткнуть горло машины, но Ваня не пустил его. Ругались пьяный извозчик, городовой и дворник, да ведь как! Собравшаяся за чугунной решеткой толпа замерла в восхищении.
– Огооо! – восторженно протянул кто-то в сумраке из-за решетки, где собрались кухарки, раненые, рабочие, дети. – Вот это я понимаю!
– Кончили? – с милой наивностью спросила, появляясь внизу террасы, Люба. – Дайте мне пить…
Пластинки показались ей довольно интересны, но все же ничего такого уж особенного она в них не нашла…
Мустафа, утомленный всем этим шумом и гвалтом, глубоко и тяжело вздохнул…
– А ну, шампанчику! Господа, шампанчику… Холодненького!..
– Степан Кузьмич, вас Кузьма Лукич к телефону просят из Москвы… – доложила вдруг Стеша.
– А-а, иду, иду… Извините, гости дорогие…
Он прошел в свой кабинет и взялся за трубку.
– Это вы, папаша? Что это вы застряли там? Я думал, что вы уж дома…
– Маленько вчера вожжа под хвост попала, вот и застрял… – отвечал Кузьма Лукич. – А я, сынок, вот насчет чего: тут от Земского суюза большой заказ дают на табак, ну только я отказаться думаю: уж очень крадут… В такую кашу со стервецами ввалишься, что потом и не расхлебаешь…
– Ну ежели мы так разбирать все будем, то тогда и торговать нельзя. Это ихнее дело… – сказал Степан Кузьмич.
– Ихнее-то ихнее, да смотри, как бы и нам не ввалиться… – сказал старик. – Давненько я работаю, а таких живоглотов не видывал еще… Ставь двойные цены в счетах, а излишек чтобы весь им…
– А вы вот что, папаша… того… по телефону насчет этого надо бы полегче…
– Ну чего там? И так все знают… По-моему, надо бы послать их куды подальше…
– А по-моему, кто смел, тот и съел…
– Ну, твое дело… Смотри сам!
– Пущай едут, сговоримся…
– Ладно, скажу… Ну, прощай покедова…
– Будьте здоровы, папаша. Ожидаем…
И Степан Кузьмич весело вышел снова на террасу.
– Папаша велел всем кланяться… – сказал он. – Что это у вас бокалы-то опустели?.. Ну-ка, холодненького…
XVI
ГОЛОС ИЗ МОГИЛЫ
Тяжелый кошмар войны все более и более давил Евгения Ивановича. Он просто места от тоски себе не находил, и мученическое выражение в его глазах стояло теперь почти всегда. Он исписывал в своей секретной тетради бесконечное количество страниц на темы войны с целью выяснить себе смысл происходящего безумия, но тщетно: эти интимные страницы его пестрелисотнями знаков вопроса, а ответа на эти вопросы не было никакого. Борьба за рынки? Оскорбленное национальное чувство? Жажда власти немногих? Грабеж? Борьба с милитаризмом? Борьба за гегемонию в Европе? Свобода морей? Made in Germany [55]55
Сделано в Германии (англ.).
[Закрыть]и английская промышленность? Проливы? Что бы со всех сторон не подсказывали ему умничавшие впустую идеологи войны, ему было ясно, что цели эти были надуманы, что все эти этикетки на страшной катастрофе явно не исчерпывали ее грозного значения, потому что тотчас же вставали новые вопросы: прекрасно, пусть эти придуманные цели действительно существуют для небольших групп людей или пробравшихся или пробирающихся к власти, но какое дело до свободы морей, до английской промышленности, до проливов мне?! Какое до всей этой дребедени дело калужанину-мужику, индусу, сингалезцу, черногорцу, провансальцу, баварскому горцу?! Как могут идти покорно на страшные страдания и смерть миллионы этих людей, для которых все эти соображения так называемой высшей политики совершенно чужды? Как может участвовать в страшном деле этом и оправдывать его культурнейшая европейская интеллигенция? Как могут оправдывать его и участвовать в нем все эти миллионы социалистов, строителей нового мира? Мало этого: как не видят руководители этого преступления, так называемый государственно мыслящий элемент, что нельзя платить такую страшную цену за достижение этих призрачных, противоречивых, никому серьезно ненужных целей, вместе взятых, что достижение их – если они даже и будут достигнуты, не окупит и сотой доли тех страданий, тех бедствий, тех разорений, которые эти будто бы государственно мыслящие люди обрушили на мир, что нельзя для того, чтобы подгадить соседу, зажигать свой собственный дом со всех четырех углов, что нельзя для торжества цивилизации, свободы, принципов демократии распинать людей на колючей проволоке, душить их тысячами удушливыми газами, держать их годами в сырых, вонючих и вшивых окопах… А вот тем не менее всеэто делалось!
Мобилизации все ближе и ближе подходили к нему, и это тяготило невероятно. Надо ли защищать Россию? – спрашивал он себя тысячи раз бессонными ночами и отвечал неуверенно: надо. Могу ли я для этого выпустить кишки незнакомому мне человеку или оторвать ему голову, человеку, которого я никогда и в глаза не видал? Нет, не могу! Так что же мне делать? Не знаю… Окопаться?Безобразно, во-первых, а во-вторых, Россию защищать надо! И не могу истреблять ни в чем не повинных людей… Практический выход из этого положения у него был: он не только мог поступить в разные общественные учреждения, работающие на оборону, или в те же земгусары, он просто мог взять редактирование газеты своей на себя и благодаря этому остаться в тылу. Но все это было в своем отталкивающем безобразии настоящей нравственной пыткой: другие пусть бьются до последней капли крови, а я вот буду сидеть в тылу и науськивать их. Просто отказаться от военной службы, как то советовал Толстой и как это делали некоторые сектанты, о которых писал из Самарской губернии совсем застрявший там Григорий Николаевич? Было страшно военной тюрьмы, возможного расстрела, не хотелось быть выскочкой, а кроме всего этого, хорошо было отказываться сектантам, у которых была какая-то вера, что из этого их подвига вырастет на земле какая-то новая, светлая, хорошая жизнь, а у него этой веры совершенно не было…
В конце концов он, стиснув зубы, взял на себя номинальное редакторство газеты – фактическим редактором ее был Андрей Иванович, писатель-народник, – но с этого дня он совершенно перестал брать свою газету в руки, не спал ночами, не ел, и, несмотря на то, что ему было всего тридцать восемь лет, он стал быстро седеть и все больше и больше уходил от людей подальше.
Семейная жизнь его все более и более разлаживалась. Дети не только не связывали супругов, но еще более разъединяли, потому что и в воспитании у них не было ни одной точки соприкосновения: у Елены Петровны на первом месте была книга, книжные и чужие идеи, а у него был какой-то внутренний голос, какой-то точно наследованный опыт, который говорил ему, что и в этом отношении книгам верить очень нельзя, что надо и тут быть как-то проще, яснее, спокойнее, а главное, проще, проще, проще. Чаще чем прежде между ним и Еленой Петровной вспыхивали горячие ссоры из-за всякого пустяка, и чувство не только отчуждения, но даже и глухой вражды все более и более усиливалось. Он добросовестно пробовал урезонить себя. Он старался уверить себя, что и у его жены много добрых черт в характере, он старался вызвать в себе жалость к ней – ведь и ей очень тяжело с ним, как и ему с ней, – он старался вспоминать о смерти, пред лицом которой все эти стычки не только смешны, но преступны, но все эти усилия длились только короткое время, а потом все старое начиналось сызнова. И мелькала смешная мысль: вот с немцами и австрийцами ты не хочешь вражды, хочешь мира – как же не можешь ты жить в мире со своей женой, которую ты всего несколько лет тому назад так любил? Но резоны эти были бесполезны, враждебность увеличивалась с обеих сторон, больно отзывалась на детях, тяжко огорчала бедную мать, но сделать ничего было нельзя… Точно это была какая-то сила, извечная, непонятная, которая играла ими и с которой справиться не в уделе человека…
И с одной стороны, тяжелы ему были люди чрезвычайно, с другой, его томило какое-то беспокойство и не сиделось на одном месте. И он чаще чем прежде уезжал теперь за реку, в леса, на охоту или же под самыми пустыми предлогами ехал в Москву или Петроград. Но покоя не находил он нигде: везде дьявол войны преследовал его.
Он обошел с Муратом кошелевское болото и, не найдя ничего, заглянул в край Подбортья, где держались всегда глухари, но и там не нашел ничего – только тальник был свежее обкусан лосями, и везде виднелся их свежий, похожий на сливы помет, – потом на маленьком безымянном болотце среди серой вырубки, которая всегда так угнетала его, он взял случайную крякву, на Уж боле промазал в чаще по глухаренку и, так как уже сильно свечерело, потянул к Лопухинке на ночлег.
В кустах послышался шелестящий звук колес по песчаной дороге и пофыркивание лошади.
– Евгению Ивановичу почет и уважение! – снимая картуз, приветствовал его Прокофий Васильевич, славный мужик и хороший хозяин, к которому он иногда заходил попить чайку с охоты. – Тпру…
– А, Прокофий Васильич… Как поживаешь? Марья Михайловна, здравствуйте…
– Здравствуй, Евгений Иванович… – степенно отвечала сидевшая рядом с мужем Марья Михайловна.
– Похаживать? – спросил Прокофий Васильевич.
– Да, прошелся немножко…
– Доброе дело… Ну а в газетах как?
– Слабовато, Прокофий Васильич. Забивает нас немец…
– Эх, паря, негоже ведь дело-то!
– Это, бают, все этот, Гришка… Распутинов, что ли, пес его знает, мутит… – говорит степенная Марья Михайловна. – Колдунище, бают, такой, беда! Подадут царю гумагу какую подписать, а Гришка отведет глаза, тот не так и подпишет. А потом министры эти самые да сенаторы и не разберут ничего, а объяснить дело царю боятся. А правда, бают, из простых мужиков он?
– Правда. Сибиряк.
– Гляди, братец ты мой, как ведь человек произошел! А? – удивляется Прокофий Васильевич, и в голосе его слышится как будто и зависть. – Простой мужик, а куды сиганул!.. Не гляди вот, что сер… А у нас тут солдат один на побывку приезжал, Журавлев… он вот моей Марье Михайловне сродни еще, она от Журавлевых взята… так вот говорил, что солдаты будто крепко Гришкой этим недовольны… – Прокофий Васильевич осторожно понизил голос. – Да и царицей будто… Будто от их двоих и измена вся идет… Приехал, грит, надысь на фронт от нее генерал один важный, сел не ероплан да со всеми плантами к немцам и перелетел… Солдаты, вишь, начали было по еропланту палить, да нешто в его потрафишь? Так вот будто и улетел… И еще говорят солдаты промежду себя, что начальство будто нарочно везет хлеб да снаряды поближе к фронту, – знает, что наши отдавать будут, туда и везут, чтобы, вишь, все немцам доставить по царицыному приказу… Больно, бают, немец-то со всем этим бьется, а она вот и помогает…
– Что тут за диво? – заметила Марья Михайловна. – Чай, ей своих-то тоже жалко…
– А жалко, так и сидела бы дома… Кто ее больно звал? – немножко рассердившись, говорит Прокофий Васильевич. – И без нее нашли бы. Чуть не в одной рубашке взяли – должна чувствовать. А то что же это за порядки: хлеб ест наш, а радеть своим?..
– А Василий как твой? Жив, здоров? – спросил Евгений Иванович.
– Василей на румынскиим фронте. Пишет, слава Богу, здоров…
Побеседовав так среди безлюдной вырубки, Евгений Иванович простился с ними.
– Ты заходи чайку-то попить… – говорит радушно Прокофий Васильевич. – Медком угощу своим… В этом году на мед, слава Богу, урожай. Сахару стало мало – Господь медку послал… Заходи…
Над низинами стоит уже легкий туман. Кричит, надрывается где-то поздний коростель. Над лесной пустыней луна встала, большая, золотистая. А на душе муть, тоска, печаль: Гришка, измены, генерал с плантами, кровопролитие – где тут правда, где ложь, где путь?
А когда на другой день он с ружьем и с Муратом вышел в Окшинске из вагона и проходил платформой к выходу, он увидел толпу, которая что-то сгрудилась у вагонов встречного поезда. Он тоже подошел. Оказалось, везут куда-то пленных. Толпа молчала, как загипнотизированная, в тупом удивлении: так вот он какой, этот грозный враг! Германцы, видимо, уже освоившиеся с своим положением за долгий путь, смотрели на толпу и перебрасывались между собой короткими фразами. Некоторые ели что-то. Другие спали. Один из них, плотный румяный блондин в маленькой фуражке с красным околышем, высунулся из окна и протянул кусочек сахару маленькому ребенку, которого держала на руках пожилая брюхатая баба, глядевшая на врагов с тупым любопытством и недоверием. Завидев протянутую к ней руку, она невольно пугливо подалась назад. Толпа вдруг разом точно очнулась.
– Чего ты? Ишь, дуреха! Не видишь, что ли, он дите сахару дает? – раздались голоса. – Може, и у его дома эдакий-то остался. Бери, бери… Вот так-то…
Баба с неловкой улыбкой взяла сахар и дала его ребеночку, который тотчас же неуверенно обеими ручонками потащил его в рот. Невысокий худой мастеровой с измазанным сажей лицом и большим кадыком на тонкой и длинной шее захотел объяснить германцу, что у бабы муж на войне.
– Ты, твоя, слушай мала-мала… – уверенно обратился он к немцу и, делая массу всевозможных движений совершенно ненужных и руками, и головой, и всем телом, продолжал, тыкая в бабу коротким грязным пальцем, а потом махая рукой за леса: – Хозяин… понимаешь?.. Ее хозяин… айда на война… туда… понимаешь?.. Пук-пук… понял?.. Ее хозяин…
У бабы глаза налились слезами. Германец сделался серьезен: понял. Обернувшись к своим в вагон, он пролопотал им что-то и указал на плачущую бабу. Те высунулись из-за его спины и тоже молча с серьезными лицами смотрели на нее. И все молчали тяжелым, недоумевающим молчанием. Тот, что дал ребенку сахар, протянул руку, дотронулся слегка до ребеночка, потом ткнул себя в грудь и, показав три пальца, замахал рукой вдаль за леса…
– Трое! Троих, вишь, дома-то оставил… – загалдела толпа. – Эх, сердяга! Глянь-ка, братцы, смотри: плачет!
Лицо германца вдруг сморщилось, дернулось, и он торопливо спрятался в вагоне. Толпа взволновалась.
– Ерманцы, ерманцы… – певуче проговорил маленький, в тяжелых сапогах стрелочник с желтыми усами на маленьком в кулачок лице, с красным и синим флагом под мышкой. – Вот гляди на его: он весь тут. Сперва сахарку, а потом в слезы, и больше никаких… Так ли? А то пишут: ерманцы, ерманцы… – протянул он с укоризной. – Так ли я говорю?
У многих женщин на глазах были слезы. Не одно лицо затуманилось суровой думой.
– Вешать вас, сукиных детей, мало! – злобно проговорил сквозь зубы мастеровой с кадыком и, энергично плюнув, хмурый, быстро зашагал по платформе, над которой там и сям светились бледными, холодными и острыми язычками штыки: вокзал охранялся запасными.
У Евгения Ивановича снова мучительно заныло сердце. Как это понять? Как остановить? Как от этого уйти? Ведь вот, вот она, жалость, вот любовь, вот спасение, а нет!
Не легче было и в его поездках в даль, в Петроград и Москву. В то время как огромное большинство людей старалось не видеть, не слышать, не понимать того, что вокруг них происходило, – они скрывали правду от себя в ужасе перед тем, что они наделали, – он по своему характеру, наоборот, старался открыть эту правду всюду и везде. И он видел все нарастающее разорение, все нарастающую ложь, все нарастающее безумие, которые дьявольским кошмаром давили людей все более и более. Как можно было не видеть тихой тревоги его старой матери? Как можно было не видеть исхудавшей и строгой Серафимы Васильевны, которая почти уже не выходила из церквей? Разве не сгорала на его глазах милая Таня? Разве не терзались так же, как он, миллионы людей по лицу земли? И вот все же они были бессильны!
Ах, уж эти ваши тыловые настроения! – слышалось со всех сторон от военных. – Поезжайте на фронт: там совсем другое… Все сознают там серьезность положения, но никто не отчаивается, и все твердо уверены в окончательной победе не только над германцами, но и над собственными безобразниками…
В это Евгений Иванович не верил. Он очень ясно понимал, отчего происходят эти другие, будто бы бодрые настроения фронта. Это происходило потому, что там люди, из всех сил сцепив зубы, старались не видеть ужаса своего положения. Стоило им только на одну минуту дать себе усумниться, стоило только раз мимолетно взглянуть страшной правде в глаза, как они в исступлении побросали бы все и ринулись бы кто куда… Но как всегда, Евгений Иванович себе не верил – он думал, что в самом деле, может быть, там, на фронте, видно что-то такое, чего здесь видно не было. И вот он снова поехал в Москву, чтобы посмотреть, нельзя ли как устроить себе там поездку на фронт. Конечно, он легко бы мог поехать просто корреспондентом от своего же «Окшинского голоса», но этого он не хотел: нужно было проехать совсем незаметным человеком, чтобы видеть и слышать то тайное, что не может не быть скрыто от газетного человека, во-первых, а во-вторых, нельзя было брать на себя обязательства писать не то, что следует писать, а сообщать только те условные лжи, которые будто бы требовались моментом.
Прежде всего он поехал в Земский союз на Маросейку: у него было письмо от окшинских земцев к самому князю Г. Е. Львову. И первое, что он там увидел, в этом котлом кипящем учреждении, это солидный автомобиль, в котором подкатил к подъезду Георгиевский со своим серым Догадиным, оба во френчах и галифе, оба с желтыми портфелями под мышкой, оба озабоченные до такой степени, что едва успели на ходу поклониться ему: не до поклонов! Эта встреча сразу расхолодила его, и он, точно потухнув, замешался в толпу просителей, которая теснилась в этом огромном вестибюле с белыми колоннами, загаженном выше всякого вероятия. И изредка проходили в кабинет князя без всякой очереди разные знаменитости – то седенький хромой М. В. Челноков, то чистый улыбающийся Н. И. Астров, то рыжеватый торопливый, точно ничего не видящий князь Д. И. Шаховской, и тогда по толпе просителей пробегал почтительный шепот. И высились вокруг какие-то тюки и какие-то ящики, и стрекотали бешено машинки, и носились взад и вперед молодые люди и всякого рода девицы с полоумными лицами: до такой степени все у них было важно и срочно!
– Иван Сергеич… Иван Сергеич… – отчаянным шепотом взывала одна из барынек, давая угонки за каким-то тоже ополоумевшим молодым человеком с длинными волосами и строгим лицом. – Да погодите же одну секунду, ради Бога…
– Что такое? В чем дело? – обернулся он нетерпеливо. – Говорите скорее, пожалуйста…
– Мне дали ведомости по расходу муки… – заторопилась барынька. – И у меня получается какая-то дикая чепуха… Отпущено пекарням тысяча пудов муки, скажем, а хлеба ими выпущено значительно больше и подписано: припек – такой-то. Что это такое – припек? И как же это может случиться, что хлеба получается больше, чем дано муки?
– Ну, значит, ошибка какая-нибудь, только и всего… – рванулся тот в коридор. – Проверьте документы еще раз…
– Да я двадцать раз проверяла… – в отчаянии пролепетала барынька. – Все одно и то же… Да погодите же…
Но Иван Сергеевич уже умчался.
– Разрешите мне помочь вам, барынька… – сказал стоявший рядом с Евгением Ивановичем толстый старик с чугунным лицом и одышкой, по-видимому лавочник. – Вы напрасно смущаетесь: это так и быть должно.
– Но позвольте, почему? – покраснела дамочка. – Муки тысяча пудов, а хлеба больше…
– Но ведь в муку льют воду, чтобы получить тесто… – сказал, смеясь, лавочник. – Вот от воды и увеличивается вес муки в хлебе…
– Ах, вот что! – с восхищением протянула барынька. – Не понимаю, как могла я забыть это… Большое спасибо вам…
И она понеслась куда-то, где отчаянно стрекотали машинки.
Евгению Ивановичу стало скучно, и он, поколебавшись, снова вышел на Маросейку, решив зайти сюда еще раз, когда просителей у князя будет не так много.
И он побывал и в Городском союзе, где столпотворение было ничуть не меньше, и в Красный Крест зашел, куда у него было письмо от их уездного предводителя дворянства Николая Николаевича идольского, – он в Ниццу в этом году не попал и очень скучал у себя в имении, – и в редакциях газет, где были знакомые люди. И было удивительно: все очень сочувствовали– хотя чему тут было сочувствовать,было непонятно – его мысли проехать на фронт, все как будто хотели помочь, но толку определенно не выходило никакого. И у него очень скоро составилось очень четкое впечатление, что везде принимают только каких-то своих людей, что везде точно делается какое-то дело, которое показывать чужому человеку никак не следует. И во всех слоях общества шла упорная молва о том, что в учреждениях этих прячут молодых людей от военной службы – в самом деле, молодежи там встретил Евгений Иванович очень много, – а во-вторых, что грабеж там идет совершенно невероятный.
Он скоро потерял терпение в этой лихорадочной и бестолковой суете и решил ехать домой.
В самом деле, что он будет делать там, на фронте? Смотреть, как люди страдают и умирают? Но разве он не видел страданий и смерти несчастного Коли Муромского? Для того чтобы получить картину войны, нужно хорошо знакомый ему лазарет на Дворянской помножить на миллион, только и всего. А подвиги самопожертвования, геройство, любовь к родине? Да, он знает, что есть и это, но плачущий Коля Муромский и есть результат чьего-то самопожертвования, геройства и любви к родине, и Коль таких – миллионы, миллионы… Нет, он знает все, что есть там, и делать ему там нечего: сказать то, что у него в душе, ему не дадут, да и сам он не посмеет, а ходить и ужасаться можно и дома.
Усталый, он шел по Газетному переулку. Ему хотелось есть. Налево заметил он старинный белый особняк, на котором висела вывеска вегетарианской столовой. Он вспомнил, что Сергей Терентьевич, много работавший в толстовствующем «Посреднике», хвалил ему это учреждение: и чисто, и вкусно, и недорого, а в особенности нет этого кабацкого привкуса в обстановке. Евгений Иванович вошел в красивый вестибюль, разделся и, получив номерок, по довольно неопрятной лестнице с золочеными перилами поднялся в столовую. В больших комнатах с бесчисленными портретами Толстого по стенам было не особенно опрятно и пусто: обеденный час уже прошел. Несколько девиц лениво прибирали столы. Другие развязно сидели на окнах, на столах, на стульях и чесали языки. Одна из них, стриженая и явно с идеями, подошла к нему и невежливо вполоборота спросила, что ему надо. Он заказал себе два блюда, и девица, не торопясь, вразвалочку пошла куда-то. По всему видно было, что ей на посетителя наплевать. И долго ее не было.
В комнату между тем все собирались какие-то люди в косоворотках, блузах и скромненьких пиджачках, которые здоровались один с другим, садились группами и спрашивали себе чаю, кто фруктового, кто настоящего. Девицы с полным неудовольствием подавали им требуемое. Заведующая столовой, полная румяная дама, стриженая, в очках, и, видимо, ее помощник, высокий румяный и седой господин с постоянной ласковой улыбкой на губах, несколько раз присматривались к Евгению Ивановичу, и наконец помощник с улыбкой подошел к нему и очень важно осведомился, не из приглашенных ли он?
– Из каких приглашенных? – удивился Евгений Иванович.
– А у нас сегодня обычная беседа наша, так что…
– Ах, извините, я совершенно не знал… – сказал Евгений Иванович. – Я сейчас пообедаю и уйду…
– Нет, нет, зачем же? С кем имею я честь говорить?
– Мне рекомендовал вашу столовую мой друг Сергей Терентьевич Степанов, – назвав себя, сказал Евгений Иванович. – Вот я и зашел познакомиться. Я не знал, что в эти часы неудобно…
– Нисколько, нисколько, уверяю вас… – возразил настойчиво румяный господин, улыбаясь. – Напротив, мы будем очень рады. Но вы знаете, время какое! Хотя нам скрывать и нечего, но… тем не менее… А вот и Владимир Григорьевич… Сейчас начнется беседа… Пожалуйста, пожалуйста…
В комнату входил плотный тяжелый человек лет побольше пятидесяти, просто и даже немножко небрежно одетый, с длинными, зачесанными назад волосами. Евгений Иванович сразу узнал его по портретам: это был знаменитый друг Толстого – Чертков. Его встретили очень почтительно. Он был со всеми сдержанно любезен и говорил тихим, как будто даже вкрадчивым голосом. Из других комнат вышло еще десятка два-три таких же сереньких людей, которые скромно расселись по стульям и приготовились слушать. Евгений Иванович торопливо доел свои блюда, холодные и невкусные, – девица подала их оба сразу – и попросил себе чаю.
– Вам какого? – сурово спросила девица, глядя в окно.
– Чаю… Обыкновенного чаю… – как бы извиняясь, повторил он.
– И во фруктовом чае тоже нет ничего необыкновенного… – сказала девица и опять куда-то пошла, и по спине ее было видно, что и на гостя, и на чай, и на все на свете ей наплевать.
Евгению Ивановичу стало даже завидно на эту ее уверенность в себе.
Между тем беседа рассевшихся вкруг Черткова опростеновцевначала оживляться. Евгений Иванович заглазно не любил Черткова – как и вообще людей, которые все знают, – и потому старался быть особенно беспристрастным к тому, что тот своим тихим кротким голосом говорил.
– Но ведь нужна же последовательность… – срывающимся басом, хмурясь, говорил какой-то великовозрастный гимназист с лицом в прыщах. – Если нельзя зарезать теленочка, то нельзя раздавить и земляного червя.
– Разумеется, нельзя… – кротко сказал Чертков.
– А мы все-таки давим… – еще более нахмурился гимназист. – Да что черви – миллионы людей давят сейчас на фронте, и мы ничего, сидим вот, пьем какой-то ерундовский чай из листиков, ведем душеспасительные разговоры…
– Это очень русский подход к вопросу: или все, или ничего… – кротко отвечал Чертков. – Правильный подход к делу вот: если не все, так хоть что-нибудь. Мы должны поставить себе идеал, а затем по мере сил к нему приближаться. Я приближаюсь на один шаг, вы на десять, еще кто-нибудь на пятнадцать. Идеал вегетарианства ясен: не убий!
– Ничего не убий?
– Никого и ничего…
– И бешеную собаку, которая на вас бросилась? – взвился гимназист. – И змею, которая хочет укусить вашего ребенка? И разбойника, который хочет… ну, оскорбить вашу дочь?!
– Разбойника позвольте просто отвести… – уверенно улыбнулся Чертков. – Им аргументируют слишком уж часто. Но вот я прожил на свете больше пятидесяти лет, а такого разбойника не видел, и позвольте надеяться, что и вам не придется иметь с ним дело. Зачем же… ну, пугать людей понапрасну?
По аудитории прошел сочувственный смешок.
– Нет, нет, позвольте! – загорячился гимназист. – Позвольте просить вас осветить мне случай и со змеей, и с бешеной собакой, и с разбойником… Сегодня его не было, а завтра вдруг явится. Так вот я хочу знать, как мне поступить в таком случае…
– В идеале пред нами стоит: не убий никого и ничего, ни при каких обстоятельствах, ни в каком случае… – тихо и кротко отвечал Чертков. – Значит, не надо убивать ни разбойника, ни змею, ни собаку, если бы все это грозило даже вашему ребенку…
По собранию пробежало волнение.
– Послушайте, то, что вы говорите, это… просто чудовищно! – горячо сказал гимназист, глядя на Черткова изумленными, негодующими, бешеными глазами. – Это… это ужас что такое!..
– Почему? – еще более кротко сказал Чертков. – Все зависит от силы вашей веры в Бога. Поверьте, Он лучше нас с вами знает, кого надо укусить змее, на кого броситься бешеной собаке, на кого разбойнику…
Евгений Иванович с недоумением слушал эти нечеловеческие слова и внимательно вглядывался в это тихое, уже пожилое лицо, и вспоминалась ему необъятная засека в золоте и багрянце осени, и тихий полет золотых корабликов, и та старая, седая, замученная женщина, которая не хотела простить этого кроткого человека даже на смертном одре. Евгений Иванович ни на секунду не сомневался ни в искренности Черткова, ни в подлинности голоса его сердца, который слышался в его странных речах, ни в чистоте его веры. Да, но из этой вот всеобъемлющей жалости и любви – не вопреки ей, а именно благодаря ей – получилась замученная старуха с трясущейся головой! Он вспомнил свою жалость к пленным германцам на вокзале: ему показалось тогда, что жалость – это тот золотой ключ, который разомкнет ад современных кошмаров. Но вот жизнь устраивает как-то так, что жалостивый человек, жалеющий и змею, и бешеную собаку, и разбойника, этим самым разбойником, и змеей, и бешеной собакой безжалостно бьет насмерть по голове несчастную старуху!
Он встал и тихонько, на цыпочках, пошел из столовой. Чертков бросил ему вслед недовольный взгляд: надо было остаться и послушать полезной беседы. А Евгений Иванович заехал к себе в гостиницу за вещами и поехал на вокзал. И в вагоне он развернул одну из новых книжек, которые он купил в Москве. Это был труд одного известного англичанина по истории Востока. И сразу Евгений Иванович наткнулся на стихотворение одного поэта-тамила, жившего на земле более тысячи лет тому назад:
Глубоко в темноте хожу я —
Где же свет? Есть ли свет?
Ничего я не знаю, только спрашиваю себя:
Есть ли свет? Где же свет?
Господи, в пустыне брожу я!
Где же путь? Есть ли путь?
Как прийти мне к тебе, спрашиваю я себя.
Неужели нет пути? Где же путь?
Под мерный стук вагона он долго грустил над этими старыми строчками. Да, и тогда, и всегда чуткие люди понимали, что ничего они не знают и знать не могут. Ветры страсти гонят их то туда, то сюда, то опять назад, и напрасно старается слабый разум найти и придать этим вихрям какой-то смысл. И всплыло тяжелое воспоминание о той жуткой ночи, когда к нему на Кавказе пришла эта женщина в то время, как под окном его комнаты погибал под ударами бури старый человек. Один погибает, другие грешат, третьи смеются, и никто, никто ничего не знает…