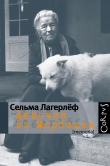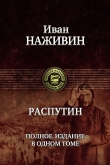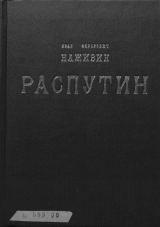
Текст книги "Распутин"
Автор книги: Иван Наживин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 68 (всего у книги 81 страниц)
XXXIII
НАСТЯ
Евгений Иванович, отдыхая, – он проходил весь день по Берлину в поисках работы – сидел в одном небольшом кафе на Вестей и передумывал уныло эти отравленные думы свои в то время, как глаза его рассеянно скользили по объявлениям «Руля». И вдруг точно что толкнуло его:

Боже мой, в Японии!
Он даже задрожал весь, торопливо рассчитался с кельнером и бросился на телеграф. «Я в Берлине, – написал он на разлинованном бланке. – Адрес: Charlottenburg, Kantstr., 22. Немедленно телеграфируй есть ли средства переехать Европу. Где мама?»Телеграмма по беженскому масштабу стоила больших денег, но он был так рад возможности соединиться с семьей, что буквально не спал, не ел, ничего не мог делать и только все ждал звонка рассыльного с телеграфа, уже заранее приготовив ему хороший Trinkgeld. И наконец ответ пришел, и у Евгения Ивановича просто руки опустились: адресат выбыл неизвестно куда. Он заметался: что делать? И решил напечатать объявления во всех русских заграничных газетах о розыске семьи.
И потянулись сумрачные тяжелые дни ожидания…
И вдруг телеграмма: «Мы Марселе все живы здоровы мама осталась Окшинске подробно письмом». Опять все просветлело. И пришло престранное письмо, целая русская обывательская Одиссея, похожая на роман Жюля Верна.
Не получая никаких известий от мужа из Казани, Елена Петровна не вытерпела, наконец, и вместе с детьми выехала на розыски его на восток. Анфиса Егоровна ни за что не хотела покинуть Окшинска, говоря, что единственное место, куда ей осталось теперь ехать, это Княжой монастырь, где у нее уже давно была откуплена семейная могила. С ней осталась Федосья Ивановна, которая в провожатые своей молодой хозяйке дала свою племянницу Настю, бойкую и толковую девицу, занимавшуюся в последнее время мешочничеством: этим способом она кормила и свою семью, и даже семью Евгения Ивановича. Уже проехав Казань, они нашли в каком-то глухом городке Николая Николаевича Ундольского, который, беспомощный и жалкий, не знал, что делать среди этой до дна взбаламученной жизни. Он лихорадочно вцепился в земляков, и Настя приняла его под свое ловкое покровительство. Они пробрались к Колчаку и вместе с отступавшими, разлагаясь, белыми докатились каким-то чудом через всю Азию до Японии. Николай Николаевич, превратившийся под влиянием перенесенных ужасов – они не раз попадали даже под обстрел – и лишений в какого-то ребенка, давал на все средства – у него за границей оказались большие суммы, – только бы не покидали его на произвол судьбы. И он уговорил Елену Петровну кружным путем проехать в Европу, и вот они через Китай, Индию, Египет приехали в Марсель и увидали в русских газетах объявление Евгения Ивановича.
Теперь предстояло решить, что делать дальше. Елена Петровна писала, что там очень хорошо и что французы относятся к русским беженцам прекрасно, а Евгений Иванович писал, что и в Германии недурно и что немцы относятся к русским – надо бы лучше, да нельзя. Они попробовали нейтральную и тихую Швейцарию, но свободная демократическая республика отказала бесприютным в приюте: это не голланды с гульденами, не англичане с фунтами, не американцы с долларами… В Германии было значительно дешевле, и поэтому было решено устроиться в Германии. Как раз в это время Евгений Иванович получил письмо от Фрица Прейндля, который уговаривал его приехать в тихую Баварию и предлагал даже небольшой теплый меблированный домик неподалеку от себя в тихом, уютном, зеленом местечке К.: они будут вместе работать над его книгой о Russentum. Николай Николаевич умолял позволить и ему жить у них пансионером: он боялся новых революций, новых потрясений, он боялся решительно всего, а тут была, по крайней мере, Настя, которая уже провезла его чрез бескрайнюю Сибирь, всю объятую огнем бессмысленных восстаний…
Начались бесконечные хлопоты с визами. Государственно мыслящий элемент сделал из переезда через границы дело государственной важности. Тысячи и тысячи всяких мазуриков, игнорируя все эти рогатки, делали свое дело и чрез границы, но зато миллионы лояльнейших людей выли волком. Бесконечное количество нужных дел стояли несделанными, жизнь расползалась по всем швам, а государственно мыслящие с важным видом вели бесконечные рассуждения и переписку о том, можно ли одной семье снова соединиться вместе! Но все препятствия были, наконец, побеждены, и вот снова вся семья радостно соединилась на небольшой, хорошенькой виллочке «Bergfried [92]92
«Горный мир» (нем.).
[Закрыть]» среди зеленых гор и лесов.
А через день-два в уютном хорошеньком домике Елена Петровна уже хлопала – нечаянно – дверями, и валялся в столовой на стуле чей-то заношенный носовой платок, и у Наташи на пальто не хватало двух пуговиц. Николай Николаевич не замечал ничего этого – он все искал в местных газетах и в разговорах с соседями-баварцами подтверждения того, что никакая революция в Баварии больше уже невозможна. Он очень подружился с детьми, хотя и считал их почему-то большими чудаками, – раньше детей он как-то не видел близко, считал их nuisanct [93]93
Вред от загрязнения (фр.).
[Закрыть]и даже говорил, что вообще дети заводятся от нечистоты. Евгений Иванович уходил один в зеленые горы, и иногда в глазах его – чаще, чем прежде – проступало свойственное ему мученическое выражение. Дом держался, в сущности, на Насте, крепкой девице с татарским скуластым лицом, белокурыми волосами и маленькими бесцветными глазками. Она все прибирала и налаживала, молча и естественно, считая, что в этом и есть главная задача ее жизни, пекла чудесные пироги, варила квас, устраивала удивительную окрошку, штопала, шила и, выучив десять-двенадцать слов по-немецки, учила немцев, как надо правильно говорить по-немецки:
– Говорит: саляд… Какой это такой – саляд? – выговариваю я ей. – Что ты маленькая, что ли, картавить-то так? Не саляд, а надо говорить твердо, правильно: салат. К чему это пристало так коверкать язык?
И немцы относились к чистоплотной, расторопной и уверенной в себе Насте с полным уважением: nettes Mädel, sehr brav… [94]94
Миленькая девушка, очень добрая (нем.).
[Закрыть]Настя во многом одобряла заграничные порядки, но все же находила, что «раньше у нас было куды лутче». Китайцев порицала она за косы – словно девки какие да опять же и морды обезьяньи… – а индусы и черны уж очень и вроде ряженых, какие у нас на Святках бывают, африканцы уж больно губасты, а французы в Марселе, хотя в работе и усердны, но очень уж шумят. Как раз, когда были они на юге Франции, там происходили какие-то выборы: собрания, афиши, крик… Настя чрезвычайно не одобрила это.
– Скажи, пожалуйста: и здесь эта глупость завелась! – проговорила она с удивлением.
– Да почему же – глупость? – возмутилась Елена Петровна.
– А мало мы выбирали? А что получилось? – возразила Настя. – Как еще у нас первые выборы были назначены, подбили меня кавалеры всякие: клади по третьему номеру, Настя!.. Какая-то там, пес их знает, земля и воля, что ли, будет… А я с дуру и послушалась… А потом без хлеба сидели… Нет, нет, скажи теперь: иди опять выбирать – да ни в жисть! В острог сажайте, что хотите делайте, а уж на такое дело не пойду, нет! Царя будут выбирать, так и то не пойду, а не то что… Я свое дело справляю как следоваит: и постирать там, и в комнатах подмести, и обед вам сготовить – все, что полагается, а пустяками, уж извините, больше заниматься не буду…
Здесь, в Баварии, не одобряла она, что гор много – земля зря пропадает, а кроме того, и не видно ничего, – и язык немцев она не одобряла: наш куда понятнее. Вообще она русское знамя держала твердой рукой и, имея в своем распоряжении два десятка слов, Россию в обиду не давала. Впрочем, никто ее обижать и не думал: все баварцы, побывавшие в России в плену, в один голос говорили, что это schönes Land, [95]95
Красивая страна (нем.).
[Закрыть]и только и мечтали, что о переселении туда, «когда все эти ваши глупости кончатся…»
Но все-таки кое в чем и Настя уступала Европе. Виллочка «Bergfried» от базара была довольно далеко, и Елена Петровна долго уговаривала Настю выучиться ездить на велосипеде.
– Ну вот… К чему это пристало? – отнекивалась Настя. – Совсем это бабам не идет…
– Да ведь все крестьянки тут ездят!
– Мало там чего! Здесь вон они все в шляпках ходят, так вы хотите, чтобы и наши понадевали шляпки?! – фыркнула она со смеху. – Что к чему идет…
Но когда Николай Николаевич подарил велосипеды детям, Наташа уговорила-таки Настю попробовать, и та быстро наловчилась и – стала ездить на базар на велосипеде.
– Оно, конечно, непривычно… – говорила она, все еще чего-то смущаясь. – А уж удобно, говорить нечего… А то сколько времени здря на ходьбу эту уходило…
Рвался в Россию и Фриц Прейндль, который часто навещал своих русских друзей на виллочке «Bergfried». Он тщетно производил через немцев, ездивших в советскую Россию, розыски о Варе и решил, что если до весны он следов ее не найдет, то сам поедет опять в Окшинск. Евгений Иванович по своим объявлениям в газетах получил письма от Володи Похвистнева и Вани Гвоздева. Володя после Крыма побывал как-то и в Египте, и в Палестине – там его чрезвычайно поразило страшное запустение Гроба Господня, о чем он писал между прочим и Евгению Ивановичу, который весьма отметил у себя эту характерную черточку. Ваня после Крыма прошел чрез все унижения и страдания Галлиполи, подвергся издевательствам со стороны болгар при Стамболийском и теперь, израненный и больной, дробил камень на новых шоссе в Македонии. И чувствовалось по письму его, что что-то в нем в душе точно стронулось и что это пишет какой-то совсем новый человек. Фриц сперва очень обрадовался этим письмам окшинцев, но и чрез них о Варе он не узнал ничего… Он энергично работал над своей книгой о Russentum. Работа его чрезвычайно увлекала, и он часто беседовал с Евгением Ивановичем на интересовавшие его темы, и как-то раз в хорошую минуту Евгений Иванович прочел ему несколько отрывков из своих секретных записей.
– Но почему же вы не напечатаете этого? – удивился Фриц. – Это очень интересно… И для моей книги, например, это ценнейший материал…
Но что особенно поражало Фрица в его работе и о чем он еще не говорил – это было совсем неясно и все спутано, – это то, что многое из того, что говорил он о Russentum, с большим основанием могло быть отнесено теперь и к новой послевоенной Германии, а пожалуй, и ко всей Европе: точно тяжкая русская душевная смута неуловимым туманом просачивалась чрез границы и мутила души людей и здесь, хотя бы и не в такой степени. И иногда он осторожно подходил к вопросу: да уж болезнь ли это? Не есть ли это просто естественное отмирание отжившего старого, везде изжитых форм жизни и медленное набухание молодых почек?
И все чаще и чаще появлялся он на уютной виллочке «Bergfried», чтобы снова и снова говорить с Евгением Ивановичем на эти темы…
XXXIV
ГРАФ ВСЕ ЖЕ НЕ УНЫВАЕТ
– Guten Tag! Ich mochte Herrn Gromoff... [96]96
Добрый день! Мне нужен господин Громов… (нем.)
[Закрыть]
– Гер Громов? Евгений Иванович? – переспросила Настя. – Зетцен зи… [97]97
Setzen Sie (нем.) – садитесь…
[Закрыть]Сичас скажу…
– Ба, да вы русская! – удивился гость.
– Ах! – радостно ахнула Настя. – И вы русские?.. Очень приятно… Входите, пожалуйста… Сичас позову Евгения Ивановича…
В переднюю из столовой выглянуло бледное, подслеповатое, в золотом пенсне, с козлиной бородкой лицо Николая Николаевича.
– Боже мой, Николай Николаевич! Какими это судьбами?
– Граф! Вы как здесь?! Очень рад вас видеть! Входите, входите… Что?
– Опять – что?Исправитесь вы когда-нибудь или нет? Ну, здравствуйте…
Граф Михаил Михайлович устроился тоже в Баварии – и подешевле, и спокойнее, – хотя медлительных байюваров [98]98
Баварец (нем.).
[Закрыть]он и недолюбливал. Не трогая своих припрятанных в Финляндии капиталов, граф мирно и очень удачно спекулировал на валюте и процентных бумагах. Война закончилась совсем не так, как он ожидал и предсказывал, но это ни в малейшей степени не поколебало его веры в свой ум: война должна была кончиться так, как он говорил, а если она кончилась иначе, то это только потому, что в решение задачи привзошли новые, неожиданные данные, которых предусмотреть никто не мог, вот и все. Он жил теперь в К. со своей сестрой Варварой Михайловной, которая потеряла мужа – большевики расстреляли Бориса Ивановича, – потеряла все свое состояние и прямо чудом выбралась заграницу. Брат заставляет ее вести жизнь строго экономную, и ей было очень тяжело с ним, но пока деться было некуда. Граф по-прежнему очень много читал – теперь он штудировал знаменитое «Der Untergang des Abendlandes [99]99
«Гибель западных стран» (нем.) – в нашей литературе перевод этого труда известен как «Закат Европы».
[Закрыть]» Шпенглера – и по-прежнему любил побеседовать с интересным человеком.
– Что это вы забросили ваш Париж и Монте-Карло и с вашими миллионами забились в такую глушь? – спросил он Николая Николаевича.
– Нет, мне здесь чудесно… – отвечал тот. – Я французам не особенно доверяю: в Одессе их броненосцы подняли, говорят, красный флаг. Что? Да и вообще вся эта республиканская разнузданность… А здесь идеально… Здесь все только и мечтают, что о восстановлении Виттельсба-хов. Я даже толстеть стал… Что? – засмеялся он. – А вот и Евгений Иванович! Как, вы уже знакомы?..
– Да, мы познакомились в К. на почте и уже не раз интересно беседовали. А я к вам с особым поручением… – сказал граф, поздоровавшись с Евгением Ивановичем и снова сев на диван.
– Чем могу служить?
– Тут неподалеку живет наш соотечественник принц Георг… – сказал граф. – Раньше он занимался исключительно лошадьми, женщинами и изучением оттенков в шампанском разных марок, а теперь вдруг набрался солидности и решил спасать Россию. Впрочем, pardon: [100]100
Извините (фр.).
[Закрыть]если я буду продолжать в том же духе, то внушу вам недоверие к моей миссии. Поэтому буду серьезен: в воскресенье у принца будет собрание нескольких русских… ну, скажем, патриотов, что ли, которые проектируют издание русской газеты и книг. Кто-то принцу дал из Берлина знать, что здесь живете вы, человек в этих делах сведущий…
– Довольно мало… – вставил Евгений Иванович.
– Во всяком случае в сто раз больше, чем принц Георг… – заметил граф. – И вот принц просил меня навестить вас и просить пожаловать к нему на это собрание. Конечно, он сам сделал бы визит вам, но изучение оттенков и другие удовольствия на нем начинают сказываться: у него что-то вроде припадка подагры. В случае вашего согласия мы можем поехать вместе: это недалеко, и если у вас там ничего и не выйдет, то во всяком случае вы посмотрите разных людей и нас накормят хорошим обедом. Погреб у принца, должен сказать вам, прямо изумительный… А замок?! Ведь ему тысяча лет! Он заложен кельтами тогда, когда в России был еще Рюрик, то есть, когда, собственно, и России не было. Очень интересно… Вот и Николай Николаевич составит компанию…
– Нет, нет, на меня не рассчитывайте… – живо возразил тот. – Никаких принцев, никакой политики, никаких разговоров! Спасать Россию – это, конечно, чудесно, – что? – но я в этих делах решительно ничего не понимаю, и потому в воскресенье мы поедем лучше с детьми на Konigssee [101]101
Королевское озеро (нем.).
[Закрыть]и будем кататься на лодке и пить шоколад… На меня решительно не рассчитывайте…
– Ну а вы, Евгений Иванович?
– Должен откровенно сказать вам, что ваш тон меня, действительно, смутил… – заметил Евгений Иванович. – Да и потом… едва ли мы сойдемся с принцем в понимании задач момента…
– Ради Бога, простите! Это, во-первых, просто очень дурная привычка, – спохватился граф. – А во-вторых, и у меня лично большой веры нет, но свой скептицизм я поберегу для себя. А может быть, что-нибудь и выйдет путное?
– А почему у вас нет веры? – спросил Евгений Иванович.
– Во-первых, я считаю, что опыты Колчака, Деникина, Врангеля, Юденича, Дитерихса, который только что провалился в Сибири со своим царем-боговидцем, по-моему, весьма показательны, и повторять их значило бы просто напрасно тратить порох, а во-вторых, потому, что… что очень еще смутны горизонты. Не только мы, но и вся Европа стоит на каком-то распутье, и никто не знает, что делать…
– Это очень интересно, что вы говорите… – сказал Евгений Иванович. – Но мы, зная Россию, не можем поверить в прочность РСФСР, не можем поверить в возможность осуществления у нас социализма и вообще в какие бы то ни было планетарные задачи наши. А раз мы более или менее ясно очертим круг того, что невозможно, то тем самым приблизимся к определению возможного…
– Боюсь, что это не так… – сказал граф. – Возможно… Что возможно? Монархия? Вы, конечно, не ожидаете, что я, камергер и граф, предки которого уже упоминаются на страницах русской истории тогда, когда о Романовых не было еще ни слуху ни духу, окажусь республиканцем или социалистом, но тем не менее я все же должен сказать, что шансы монархии везде невелики, что эта форма как бы изжила себя. Возьмите любого из известных нам монархов – хотя бы нашего последнего государя. Разве это был подлинный царь? Ведь ни один из них уже не верит не только в божественное происхождение своей власти, но даже и в L'état с’est moi [102]102
Государство – это я (фр.).
[Закрыть]Людовика. Все это не монархия Божьей милостью, а какие-то по недоразумению коронованные… интеллигенты…
И граф, довольный метким словечком, рассмеялся.
– Да так ли это? – усомнился Евгений Иванович.
– Так. Вильгельм пишет оправдательные мемуары, кронпринц пишет мемуары, все пишут мемуары – все объясняются, все оправдываются, все ждут отзывов газет о своих трудах… Где уж толковать тут о Божьей милости? И жизнью – ее сложностью – они вынуждены созывать так называемых народных избранников, они часто заключают уже сомнительные браки и бегают на поклон к могущественным банкирам, и то или иное распределение политических сил в стране их не только уже интересует, но часто и тревожит, с этим они должны считаться, а там идут секретные фонды министерства внутренних дел, а там полки филеров… И в кино после американской драмы в семнадцать километров и похождений Глупышкина в Париже нам показывают императора Вильгельма на маневрах – после Глупышкина!.. Монархическая идея стерлась, опошлилась, как старый пятиалтынный, и если в нее не может быть уже веры у монархов, то как могут уверовать в нее народы?
– Виноват, я на минутку… – сказал Николай Николаевич и торопливо вышел на цыпочках, точно боясь, что его поймают и остановят.
– Так что же, республика?
– А кто верит теперь в спасительность республики кроме тех, которые добиваются министерских портфелей в ней? – вопросом же отвечал граф. – Мы в случае нужды можем принять республику, покориться ей, но верить в нее мы уже не можем. Возьмите хотя серию современных романов Анатоля Франса – а ведь они имеют колоссальное распространение во всем свете, – посмотрите, как разобрана там по косточке вся закулисная жизнь республиканской машины. Да что Анатоль Франс?! Из каждого номера газеты кричат нам о кризисе в этой области, и наш знаменитый матрос Железняк, разогнавший один все российское Учредительное собрание, право, бьи не так уж глуп, как это сперва многим показалось. Куда идти, чего добиваться, этого мы, если мы хотим быть добросовестными сами с собой, не знаем… Катастрофа наша – а, может, правильнее сказать, европейская, мировая – несравненно глубже, чем это казалось…
– Так что же, может быть, просто оставить наш большевизм?
– Да его давным-давно уже не существует! – воскликнул граф. – То, что существует в Москве и России под этим именем, это одно сплошное или недоразумение, или надувательство, или то и другое вместе. Вы встречались в Берлине с красными аристократами и в особенности с аристократками?
– Как же… – усмехнулся Евгений Иванович.
– Так вот я думаю, что туалеты и бриллианты красных дам для РСФСР несравненно страшнее белых авантюр наших бездарных генералов… – засмеялся граф. – Вы, может быть, плохо знаете генералов, но я эту разновидность российского человека изучил отлично, знаю их близко и прямо скажу: глупее и бездарнее русского генерала я не знаю на свете ничего. А туалеты от Борта и коронные бриллианты вещь тут вполне надежная и бьет в цель без промаха. Сперва коммунистическим дамам, а потом и их счастливым супругам понадобились вечерние туалеты – помните, какую сенсацию произвел в Генуе фрак Чичерина? – потом свои автомобили, а там дворцы, спальные вагоны, золотой запас в аглицком банке – согласитесь, что ничего нет более несовместимого со всем этим, как баррикады, вонючие рабочие массы, кровь и прочие неудобства революции… Они потрудились, хорошо заработали и теперь, конечно, вполне естественно, хотят отдохнуть и использовать плоды своих трудов, и поэтому, продолжая восхвалять социальную революцию и украшать себя красными звездами, они, конечно, будут потихоньку отступать – и уже отступают – на заранее подготовленные позиции удобной буржуазной жизни…
– А массы?
– А массы… Mon Dieu, [103]103
Мой Бог (фр.).
[Закрыть]массы… – развел граф руками. – Массы и останутся массами и будут работать на своих новых господ. Соусы, конечно, разные, но суть одна: раньше – отечество, теперь интернационал, раньше Борис Иванович фон Штирен, теперь социалисты, раньше царь, теперь Троцкий…
– Только и всего? – спросил Евгений Иванович, отлично про себя зная, что другого ничего и не бывает.
– Только и всего… – сказал граф. – Хотя, чтобы быть точнее и в учете сил жизни не ошибиться, надо принять во внимание совсем неотмеченный новый фактор: и в массы проник теперь скептицизм, и в массе люди покрупнее стали думать не по указке, разрешенной правительством или рабочими вождями,а самостоятельно. И до любопытных вещей иногда договариваются. Мне посчастливилось несколько раз встречаться с Григорием Ефимовичем Распутиным – вот один из очень ярких образчиков Неверов из народа…
– Да какой же он невер? – спросил Евгений Иванович. – Он все насчет божественного больше действовал…
– Это был скептик подлинной марки, который сомневался во всем, а в том числе и в собственных утверждениях… – сказал граф. – А отсюда – широкая терпимость к отрицаемому. И он отвергал не только батюшек с их дряхлыми текстами, он шел много глубже. Вот толькона днях моя сестра рассказала мне о нем прелюбопытный факт. Позвали его как-то в одну очень аристократическую семью, где был тяжело болен единственный ребенок: авось поможет… И вдруг Григорий Ефимович уперся: не хочу… «Что такое, в чем дело?» – «Не люблю я помогать ребятам… – сказал он. – Жизнь-то его, может, и спасешь, а из него потом, может, разбойник какой выйдет али еще что похуже. Возьмешь ли на душу его грехи?» Если расшифровать эти его слова, то получится уже сомнение в самом добре и зле. Их относительность тут твердо установлена. И я раз деликатно посоветовал ему не так уж крепко напирать на «Cordon rouge [104]104
«Кордон руж» – «Красная лента» (фр.) – марка вина.
[Закрыть]», а он с большим чувством сказал мне: «Дума меня заедает, потому и пью… Думать боюсь, думать не хочу…»
– Это чрезвычайно интересно… – сказал Евгений Иванович, – И как странна наша жизнь!.. – вдруг задумчиво усмехнулся он. – Вот мы, двое русских, никогда раньше друг друга не знавшие, встречаемся в глуши баварских Альп и разговариваем о полуграмотном тобольском мужике и видим, что и он болел какою-то темною болью века…
Настя внесла в уютную столовую начищенный на удивление самовар и позвала Елену Петровну.
– Милости просим… – пригласила та графа, поздоровавшись с ним.
– Благодарю… С величайшим удовольствием… – отвечал граф. – Давненько не видал я самовара…
– Это наша Настя от самого Иркутска через Владивосток его сюда притащила… – сказала Елена Петровна. – Сколько раз, когда приходилось особенно туго, уговаривала я ее бросить его, не затруднять так себя лишним багажом, ненужною, в сущности, вещью, но она настояла на своем. А теперь, действительно, очень приятно… Садитесь, пожалуйста…
Граф отодвинул стул и вдруг засмеялся.
– Это что такое? – воскликнул он, поднимая кончиками пальцев со стула весь выпачканный в грязи детский башмачок.
– Ах, это башмак Тата… – сказала хозяйка. – Надо было отнести его к сапожнику в починку, и вот бросили тут и забыли…
Евгений Иванович опустил глаза и незаметно вздохнул. Но справился с собой и посмотрел на жену. Как она поседела, как исхудала, какие у нее тревожные глаза: за детей, за их будущее все боится… И стало жалко ее… Он, смеясь, взял у графа башмачок и вынес его в коридор…
– А где же наш Николай Николаевич? – спросил граф.
– Он с детьми в саду что-то устраивает… – отвечала Елена Петровна. – Да вот они…
В столовую вошли, смеясь, Николай Николаевич и дети.
– Ну что, кончили о политике? Что? – спросил Николай Николаевич. – А мы на лугу мертвого крота нашли и сейчас торжественно похоронили его в саду и даже памятник поставили… Что? Дети были публикой, а я – военным оркестром…
– Aber um Gottes willen! [105]105
Но ради Бога! (нем.).
[Закрыть]– вдруг воскликнула заметно подросшая Наташа, схватившаяся за местную газетку, которую Настя внесла вместе с самоваром. – Папочка, а доллар-то как опять поднялся! Ужас! А фунты!
Все засмеялись.
– А разве у тебя есть доллары? – шутя спросил граф.
– У меня нет, а вот у Николая Николаевича есть… – отвечала девочка. – И у многих наших школьников валюта есть: у кого доллары, кто франки имеет, а кто стал покупать теперь леи: надеются, что леи пойдут в гору…
– Вполне основательно… – сказал граф. – У леи есть будущее… Евгений Иванович вспомнил свои кубанские мечты о здоровой немецкой школе и тихонько вздохнул…
Вскоре после чая Николай Николаевич опять куда-то незаметно исчез, а граф, уговорившись с Евгением Ивановичем относительно поездки к принцу, стал прощаться.
– Только вы уж сделайте милость, проводите меня до дороги… – сказал он. – А то я, пожалуй, запутаюсь…
– Конечно, конечно…
Они вышли. Были тихие сумерки. Горы потемнели, и жидко горела над одной из вершин Венера. Тишина была полная. Но смутно и тревожно было на душе Евгения Ивановича. Граф на ходу много рассказывал о Распутине, и Евгений Иванович внимательно слушал, а потом опять зашел разговор на ту же тему, что всю жизнь окутали сумерки, что не видно путей, что все маяки потухли.
И уже подходя к К., граф вдруг остановился и проговорил:
– Вы не обижайтесь, но вы удивительно напоминаете мне временами… Распутина…
– Да чему же тут обижаться? – пожал плечами Евгений Иванович. – Такой же человек, как и все. Я никогда не верил газетной болтовне на этот счет: уж очень мы любим расправляться с людьми одним махом… И ведь все мы, в сущности, Распутины… – усмехнулся он. – Распутинпроисходит не от распутства,а от распутья,а если даже и есть распутство,то оно опять-таки от распутья.Все мы стоим на распутьях. А вокруг только развалины. Церковь, государство, семья, запутавшееся искусство, явно заблудившаяся наука, парламентаризм, социализм – разлагается все. И наша европейская катастрофа – это не причина болезни, а ее следствие: болезнь началась задолго до катастрофы…
– Разумеется… – согласился граф. – Недавно в одной немецкой газете я прочел тяжеловесно-ученый фельетон о том, как похоже наше время на эпоху крушения Рима. Но, по-моему, это мысль совершенно неверная, потому что психологическая подпочва у нашего крушения совсем другая: те не сознавали, что умирают, а мы, прожив на полторы тысячи лет больше их, поняв, что все культуры должны умереть, это сознаем. Это огромная разница…
– И что тяжелее, так это то, что, имея за собой этот тяжелый тысячелетний опыт, мы не можем, умирая, воскликнуть: ave, vita nova: morituri te salutant! [106]106
Здравствуй, новая жизнь, обреченные на смерть приветствуют тебя! (лат.).
[Закрыть]Мы уже знаем, что молодая жизнь эта та же сказка про белого бычка, только другими словами…
– Увы!
Они простились до послезавтра. Евгений Иванович зашагал темными полями домой, а граф зашел в кафе, чтобы заглянуть в вечерние газеты: что биржа? Бумаги его – и Badish Anilin und Soda, и Dusseldorfer Mashinenbau, и Gotaer Waggonfabrik, и Nobel-Dynamit, и Chemishe von Heyden, и Montana, [107]107
«Баденские анилин и сода», «Дюссельдорфское машиностроение», «Готарский Вагоностроительный завод», «Нобель-Динамит», «Химия Хайдена», «Монтана» (нем.).
[Закрыть]и другие – дали очень резкое движение вверх. Это было очень, очень приятно. Граф тут же, на краешке газеты, подсчитал карандашом свои прибыли – вышла очень кругленькая сумма – и, купив себе и Варваре Михайловне на ужин полфунта сосисок, в самом приятном расположении духа отправился домой…
Евгений Иванович перед сном отметил в своей тетради беседу с графом и приписал:
«Он нашел во мне сходство с Распутиным, о котором он много мне рассказывал. И я чувствую это сходство. Распутин чрезвычайно русский человек – так же, как и Платон Каратаев. Разного у них только психологическая подпочва. Если подпочва мягкая, мечтательная – получается Платон Каратаев, а если бурная, страстная – Распутин. А я стою как-то между ними, близкий одинаково и тому, и другому…»