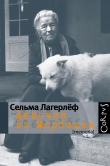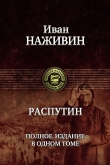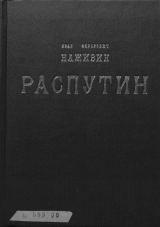
Текст книги "Распутин"
Автор книги: Иван Наживин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 60 (всего у книги 81 страниц)
XIX
ЧУДО МАТУШКИ БОГОЛЮБИМОЙ
Еще с глубокой старины заведен был в Окшинске обычай: 21 мая, в день матери Елены, чаря Каскянкина,как говорили окшинцы, чудотворная икона Боголюбимой из Княжого монастыря при невероятном стечении народа – иногда сходилось более двухсот тысяч человек – шла гоститьв Окшинск, который столько раз избавляла она от всяческих бедствий. Неделю гостила она в одном приходе, неделю – в другом, потом – в третьем и так, обойдя весь город, с великим торжеством снова возвращалась к себе в Княжой монастырь. В этом году за несколько дней до праздника в народе пошли слухи о том, что большевики решили не допускать крестного хода ни в каком случае, а если бы, тем не менее, народ собрался на обычное торжество, то – заготовлены пулеметы. Слухам этим верили: только что в Туле большевики так обстреляли крестный ход и перебили немало народа. Многих это смутило, и они малодушно остались по домам, многих остановила тяжкая железнодорожная разруха, но зато все те, которые захотели и могли попасть на торжество, точно вдруг просветлели и окрылились. Настоящий голод и холод – крестьяне не везли теперь в город ни хлеба, ни картофеля, ни дров, ни молока, ничего, – нарастающее озлобление и кровопролитие, нарастающее озверение и падение человека уже пугали людей, и им то хотелось мучительно возвратиться к привычному, старому, мирному, то хотелось оторваться страдающей душой от всего земного. И уже накануне праздника было видно, что если прежних размеров он и не примет на этот раз, то все же народу будет очень много: со всех концов окшинской земли к сияющему на крутом берегу светлой реки старому монастырю шли и шли богомольцы. Слухи о возможном кровопролитии, вероятность смерти заставила многих из них по древнему обычаю исповедоваться и причаститься и надеть новые, чистые рубахи. И были тихи и значительны их умиленные лица, и истовы те крестные знамения, которые полагали они на себя, когда над темной лесной пустыней видели они сияющие кресты древней обители. Все монастырские помещения, весь огромный двор обители, все окрестные деревни, все поляны в Серебряном Бору поближе к монастырю были полны богомольцами, которые, закусив черным сухариком, не раскладывая огней, сосредоточенно и торжественно коротали под звездами теплую душистую майскую ночь, всю опутанную соловьиными трелями из зеленой поймы… И когда по вершинам старых сосен брызнуло жидкое золото первого солнечного луча, точно черное море подступило вдруг к старинным белым зубчатым стенам монастырским, и могуче запел в солнечной вышине старый колокол, и зашумело море народное: все набожно, с сияющими лицами крестились, многие, которым посвободнее стоять было, пали на колена, многие умиленно плакали, и все жарко молились на старинный храм, в глубине которого в самом сердце в сиянии огней и облаках благовонных курений отец Феодор торжественно и умиленно отправлял богослужение…
Богослужение кончилось. Старая колокольня запела вдруг всеми своими колоколами, и вот из врат церковных показались сверкающие на солнце золотые хоругви, а вслед за ними на длинных носилках огромный, тяжелый – несли его человек двадцать – темный старинный образ Матушки Боголюбимой в простой серебряной ризе. Молитвенное напряжение толп, их восторг, их умиление, их жаркие молитвы, их слезы – увсе понеслось навстречу Боголюбимой. Многие крестьянки через головы толпы бросали ей свои домотканые холсты. Те, что стояли у самого шоссе, бросались на жаркие камни его, чтобы Матушка прошла над их головами… Вслед за иконой в сияющих ризах, умиленный и торжественный, шел отец Феодор с целым сонмом городских священников и огромный, неустанно поющий хвалебные песни хор… У одного из узких старинных окон в келиях появилось бледное красивое лицо молодой послушницы; Ирина печально смотрела на развертывающееся пред нею торжество: она чувствовала себя отщепенкой, чужой, которой во всем этом нет доли, и невольно слезы выступали на прекрасные глаза…
И как только под гуд колоколов вышел крестный ход из старых монастырских ворот на широкую, залитую солнцем дорогу к городу, как все эти тысячи и тысячи богомольцев устремились вслед за Боголюбимой, и скоро широкое шоссе и всегда пыльный резерв были залиты этим темным, медленно плывущим морем народным. Мужики и бабы, студенты и рабочие, купечество, солдаты и гимназисты – все было тут, в этой необозримой, многоцветной, глухо шумевшей лавине, над которой сверкали острыми огоньками хоругви, а в солнечном небе, над цветущими, благовонными ширями полей пели, тоже точно молясь, жаворонки… И было теперь в этих толпах людских немало людей, которые раньше в таких процессиях никогда не ходили, которые пошли только для того, чтобы присутствием своим сказать большевикам, что вот они не с ними. И было немало шпионов…
А на окраине города у Проломных ворот, там, где последний татарский потоп пробил брешь и ворвался в оцепеневший от ужаса город, уже толпились тысячи горожан, ожидавших Боголюбимую, и как только в солнечной дали под серым облаком пыли засверкали острыми и горячими искорками золотые хоругви, вдруг разом загудели все старые колокольни городка торжественным гудом и зашевелились толпы горожан в горячей молитве, которую воссылали они навстречу небесной гостье. Большевики, сняв свои кожаные куртки и красные звезды, ходили по толпам и слушали. Эти древлие настроения окшинской земли были совершенно чужды им, новым людям, и они чувствовали себя тонущими в этом море молитвенного настроения и глухой вражды к ним и были тревожны. И невольно и уши и сердца толпы были настороже: вот-вот заговорят пулеметы…
Шел в крестном ходе и Евгений Иванович, пришедший послушать народи сразу услышавший основной тон: так было десять лет назад, так было сто лет назад, так было триста лет назад – тот же народ, та же наивная вера, та же душа, ничего не изменилось. Он в это тревожное время с любовью переводил Анатоля Франса, и Анатоль Франс ничуть не мешал ему в крестном ходе… Рядом с ним с одной стороны шли тихие и умиленные мать и Федосья Ивановна, а с другой – печальный и растерянный Евдоким Яковлевич, придавленный крушением Временного правительства и всех своих чаяний, ненавидевший всеми силами души насильников большевиков и совершенно не знавший, ни куда идти, ни что делать.
– Евгению Иванычу почет и уважение… – услышал Евгений Иванович сзади.
Он обернулся: то был Левашов, уланский лавочник, со своими кудрями и добродушным носом картошкой.
– И ты помолиться вышел? – ласково спросил Левашов, здороваясь. – Доброе дело, доброе дело… Здравствуй, Евдоким Яковлич…
– А ты как сюда затесался? – спросил тот. – Ты ведь коммунист теперь…
Левашов, давний член Союза русского народа, в самом деле одним из самых первых записался в коммунистическую партию, как только верх взяли большевики.
– Так что? Одно другому не мешает… – отвечал тот, не понимая, в чем тут дело. – Я человек торговый и должен антирес свой соблюдать всеми мерами возможности. Нешто можно нам, маленьким людям, против начальства идти?
– А посадят завтра царя, ты опять флаги да патреты вытащишь и будешь «Боже, царя храни» петь? – зло усмехнулся Евдоким Яковлевич.
Левашов боязливо оглянулся.
– А что же? Как люди, так и мы… – отвечал он тихонько. – Лбом стены не прошибешь, милай…
– Да ведь большевики против Бога, а ты вот Боголюбимую встречать пешком за двадцать верст пришел…
– Против Бога? Не слыхал… – заметил спокойно лавочник. – Ну что же, всякий по-своему с ума сходит, говорится. И дураков не сеют, а они сами родятся. Я от веры не отрекался… А гляди-ка, Евгений Иваныч, это никак твой Личарда тебя зовет… – перебил он себя.
В самом деле, на тротуаре стоял похудевший и озабоченный старый Василий и украдкой делал хозяину знаки. Тот, шепнув два слова матери, перебил толпу и вышел к старику.
– Я упредить тебя… – пугливо озираясь, проговорил тихонько Василий. – Опять сичас приходили… жандары-то эти новые… ну, из анхирейского дому… насчет тебя выспрашивали… Видится так, что опять с обыском к тебе метятся, – лутче бы тебе домой пока не ходить, Евгений Иваныч. Перебудь пока что, хошь у Евдокима Яковлича, а я в случае чего прибегу сказать…
– Ладно. Спасибо, старина… – сказал Евгений Иванович. – А ты помолись, да и иди домой, а то там Елена Петровна с детьми перепугается, если они нагрянут. Побудь около них. Я и Федосью Ивановну потороплю…
– Это ты уж не беспокойся… Я свое дело знаю… – сказал Василий. – Матушку я встретил, сподобился, а теперь побегу… Да я и не бросил бы дома, только вот тебя упредить надо было…
Евгений Иванович ласково кивнул старику головой и пробрался снова к матери. Ей он не сказал ничего, но пошептался с Федосьей Ивановной. Та внимательно и значительно, как всегда, выслушала его и только молча кивнула в ответ.
– Анфисе Егоровне лутче всего сказать тоже… – прошептала она. – А то они хуже забеспокоются…
Шествие, войдя в город, остановилось: Матушка дошла до старых соборов, до самого сердца старого города, где по древнему обычаю всегда бывал под открытым небом молебен всенародный. Справа над головами толпы виднелся обезображенный Пушкин, а слева уездный совет – раньше уездная земская управа, – где на стене огнем горела красная вывеска, а по ней были выписаны стихи:
Ты ходи-ка, народ, ко свободе
По советско-федеративной дороге!
В глубине виднелся белый губернаторский дом, где теперь помещался Совет рабочих и солдатских депутатов; он весь был изукрашен красными флагами, которые весело вились и играли на солнышке. А у подъезда замерли, присев к земле, два пулемета, направленные вдоль улицы…
Раньше во время этого торжества порядок охранялся войсками, не говоря уже о полиции. Теперь не было ни войска, ни полиции, а потому напор толпы к святыне был так велик, что буквально повернуться было невозможно. По обычаю же для всенародного молебствия икону надо было обязательно повернуть ликом к следовавшему за ней народу. И вот с балконов, из окон – везде было черным-черно от народа, – даже из толпы было видно, как хоругвеносцы старались в гуще народной повернуться с огромной иконой, но все их усилия оставались тщетными: толпа при всем добром желании не могла осадить, не могла очистить места для иконы с ее длинными носилками. Еще и еще усилие… Все бесплодно!.. И вдруг точно море зашумело:
– Матушка прогневалась на нас… – Боголюбимая и смотреть на нас не хочет… – Да ты видишь, теснота какая: как ей повернуться? – Ишь тожа умник выискался: Матушка с теснотой совладать не может, силы небесные с мужиками не справятся!.. – Надел очки-то и думает, что умный!.. – Смотрите, смотрите: никак Матушка не хочет! – Господи, Владычица, прости и помилуй нас, грешных!
И нарушая многовековой обычай, духовенство должно было начать молебен, так и не повернув иконы ликом к народу. И как только раздались первые слова молебна, точно косой вдруг скосило первые ряды богомольцев, а за ними и весь народ: все повалилось на пыльную мостовую в тоске бесконечной: Матушка прогневалась, Боголюбимая отвернулась от земли своей!.. И женский надрывный плач смешивался с пением хора и перезвоном колоколов. И может быть, за все века, что Боголюбимая посещала свой город, не было на старых улицах его еще ни разу такого смятения, такого отчаяния, такой безбрежной жажды чудесного вмешательства Божия в совсем запутавшуюся жизнь человеческую…
– Евгений Иванович, в каком же это мы веке? – взволнованно прошептал Евдоким Яковлевич, стоя на коленях рядом с Евгением Ивановичем.
– А это что? – указал тот на весело игравшие над совдепом красные флаги.
– Кошмар!
– Кошмар…
– И что же победит?
– Никто этого не знает…
Молебен кончился, и Матушка отправилась гостить к Николе Мокрому. Народ, чрезвычайно возбужденный и сумный,расходился. Провожали Боголюбимую только уже прихожане от Николы, гордые, что, как всегда, Матушка навещает их первыми.
Переговорив тихонько о положении дома, все решили, что Евгений Иванович пойдет пока к Евдокиму Яковлевичу, а Анфиса Егоровна с Федосьей Ивановной домой, а там видно будет, что дальше.
– Чайком попою вас, – сказал Евдоким Яковлевич, – но только с сахарином. Сахару у меня нет ни куска.
– Я вареньица вам пришлю сейчас… – сказала Федосья Ивановна.
– Неужели еще есть?! – удивился Евдоким Яковлевич.
– Поищем, найдем… – значительно улыбнулась домоправительница.
Но не успели Евгений Иванович с Евдокимом Яковлевичем и отдохнуть в его маленькой бедной квартирке с оборванной полуголодной детворой, как вдруг явилась сама Федосья Ивановна, запыхавшаяся и взволнованная.
– Анфиса Егоровна приказали вам, Евгений Иваныч, ни под каким видом дома не показываться… – сказала она, присев на краешек колченогого продавленного стула. – Советские по случаю крестного хода прямо на стену лезут и, говорят, опять хотят всех кадетов арестовать. И вас никак не минуют. Анфиса Егоровна велят вам беспременно сегодня же в ночь выехать хошь в Москву, что ли… А как стемнеет, попозднее, приходите в наш сад от реки, и мы к вам выйдем. И посоветуемся…
Светлый ликующий майский день потемнел и налился каким-то темным и сложным чувством, в котором был и страх за себя и за близких, и отвращение к такой жизни, и холодная тоска. Вспомнилась ужасная и бессмысленная гибель святого Митрича и страшная нищета его семьи, которой он тайком по мере сил помогал… Чай даже с чудесным малиновым вареньем, которое не забыла захватить Федосья Ивановна, прямо в горло не шел, не говорилось, не читалось. Душа тяжело болела, и хмуры и грозны были дали жизни… И когда, наконец, стемнело, Евгений Иванович осторожно, обходами, пробрался призатихшим городом в свой сад – там густо пахло черемухой и щелкали и рассыпались над светлой рекой соловьи – и у старой беседки под липами, откуда он так часто смотрел в синие лесные дали и тосковал о вольной, лесной, дикой жизни, нашел мать и жену.
– Ты, Женюшка? – тихонько спросила мать. – Ну, слава Богу… Обыска пока не было, и Василий пронюхал где-то, что будто те, хахали-то советские, поуспокоились маленько и дела эти отложили… Ну только вот посоветовались все мы – и я, и жена твоя, и Федосья Ивановна, и Василий, – и все порешили так, что тебе надо уехать отсюда беспременно…
– Ну что вы говорите? Как же я оставлю всех вас?
– Нет, нет, это ты не так толкуешь… – возразила мать. – Без тебя и нас никто не тронет… Что с нас, баб, взять? Им не нас надо, а до тебя они добираются. Заладили свое, да и твердят: кадет да кадет, да газету буржуйную издавал, да за войну стоял… И если ты хочешь нас взаправду успокоить, уезжай! Мы все ночи из-за тебя не спим… Погляди-ка на Леночку, как она с лица спала… – сказала она.
Евгений Иванович посмотрел на жену – навстречу ему из звездного душистого сумрака смотрело бледное, исхудалое, жалкое лицо и большие знакомые глаза, в которых теперь чуялась и тревога, и грусть, и как будто далеко-далеко где-то запрятанное тепло. Сердце его сразу растопилось. Он забыл сразу всю рознь, все огорчения, всю взаимную вражду непонятную, и вдруг невольным жестом он протянул к ней руки… Елена Петровна точно только этого и ждала: она бросилась к нему на шею, прижалась к нему и вся затряслась, давясь рыданиями. Старая Анфиса Егоровна со слезами широко перекрестилась дрожащей рукой: слава тебе, Господи! Услышала-таки Боголюбимая горячие неустанные молитвы ее, сотворила-таки чудо примирения! Теперь может она умереть спокойно и за внучков милых, и за сына дорогого, единственного, и за Еленочку… И она обняла их обоих и целовала их головы попеременно, без счета…
И когда успокоились все немного, Анфиса Егоровна, сморкаясь в платочек, усадила их на скамейку в беседке, села сама, и снова началась тихая, тревожная беседа о близком, но грозном будущем. Евгений Иванович держал руку жены и все тихонько гладил ее, безмолвно прося у нее прощения. И было решено так, что Евгений Иванович сперва один проедет на Нижний и Казань к Сибири, откуда надвигался адмирал Колчак, и если дорога будет хоть чуточку выносима, то он сейчас же тайно вернется в Нижний, даст знать своим, и тогда все выедут к нему, и все вместе проедут в Сибирь, где, как говорили, все было спокойно, продовольствия было вволю, и переждут там где-нибудь в глуши революционную грозу.
– Только хватит ли у нас средств? – сказал Евгений Иванович. – Немного осталось у нас…
– Об этом, сынок, я, старуха, позаботилась… – проговорила тихо Анфиса Егоровна. – Вот тут, за беседкой под кленом, мы с Федосьей Ивановной кое-что зарыли: бралианты мои, серебро столовое, а в начале войны, как пошли наши дела плохо, золота я тысяч на сорок набрала. По теперешним временам и золото, и камни больших денег стоют, и жить пока вам будет чем. А там, Господь помилует, уляжется все и опять все за работу примутся. Только бы между вами-то мир был, а там все перетерпим… Услышал Бог да Владычица молитвы мои, смягчились сердца ваши, теперь все обойдется полегонечку… Только не медли, сынок, сегодня же в ночь и уезжай…
– Да, да… – сказала Елена Петровна. – Мы тебе все необходимое в чемодан уже собрали, и Василий уже отправился на Заречье. Там он подождет тебя. Теперь пойди только простись с детьми и поезжай…
Сердце его мучительно сжалось. Но надо было семью спасать. Хлеба уже не хватало, дров было на зиму в обрез, молока детям не было… И вдруг в темноте что-то забелелось, и с радостным визгом бросился на хозяина исхудалый Мурат – корма не хватало, и умная собака решительно не понимала, почему это всегда добрые хозяева ее стали ее так морить… Он визжал, прыгал, извивался и горячим шершавым языком лизал руки хозяина. А у того засосало в сердце: неужели и этого преданного друга бросить на голод и холод? Ведь это такой же член семьи…
Тихонько поднялись они садом к темному дому. Федосья Ивановна, спрятавшись, дежурила на всякий случай у ворот. И прошли в слабо освещенную детскую, где стояли две беленьких кроватки, в которых тихо посапывали смешными носиками детишки. И резнуло в глаза: на столике в простенке рядом с портретом бабушки валялись заношенные чулочки. Поднялось привычное недоброе чувство против жены, но он сильным напряжением воли подавил это чувство и подумал: ведь если бы она заболела чахоткой или ослепла, она не перестала бы быть его женой, самым близким человеком? Но чахотки у нее нет, она не ослепла, а есть у нее этот вот недостаток. А разве у меня мало недостатков? И разве мое раздражение не вносит в жизнь такого же безобразия, против какого я борюсь в ней? И разве я не виноват – он вспомнил ночь гибели деда Бурки – перед ней, перед всей семьей? Надо смириться и покорно нести это… И вдруг против воли всплыл образ желанной и страшной Ирины, точно утонувшей в пучинах революции… Но нет, эти посапывающие смешные носики, эти страдающие, большие глаза исхудавшей жены, эта милая, любимая мать – его место здесь и только здесь, кто бы ни встретился ему на запутанных путях жизни, кто бы и что бы ни манило его…
Он склонился над белыми кроватками вместе с женой – старушка в это время тихо и незаметно прибрала заношенные чулочки со стола – и поцеловал крутые теплые лобики.
– Благослови детей, Женя… – тихо сказала сзади мать.
И он, немножко стесняясь, но с теплым чувством перекрестил и Наталочку, и Сережу и снова протянул руки к жене, и снова, давясь рыданиями, забилась она у него на груди.
– Только при всякой оказии давай нам знать… где ты и как… – беспорядочно говорила она. – И, главное, возвращайся скорее в Нижний. Теперь нельзя разлучаться надолго… И пиши как можно чаще…
Он крепко обнял мать и, удерживая слезы, вышел в полутемный коридор. Мурат, тихо повизгивая, провожал его. Он посмотрел на исхудалого и печального друга своего, наклонился и поцеловал его в белую звездочку на умном выпуклом лбе. У подъезда он расцеловался с тихо плакавшей Федосьей Ивановной и, чтобы поскорее оборвать эти последние, мучительные мгновения, еще раз обвел глазами темные милые силуэты в темноте сада – все тихо плакали, Мурат, которого держала жена, точно предчувствуя что, тихо и жалобно визжал – и торопливо, осторожно зашагал вниз, к реке. Здесь, сзади, оставалось самое главное, самое дорогое в жизни, и никакие усилия, никакие жертвы не страшны для них…
И темная, теплая, душистая ночь поглотила его…
XX
ВСТРЕЧА
Белое движение – во главе его теперь, после боевой смерти храброго Корнилова, встал генерал А. И. Деникин – на Северном Кавказе развивалось все шире и шире. Зажиточные казаки-кубанцы, испробовав нового права,решительно повернули к праву старому. На помощь красным с севера прилетел отряд матросов, славившихся своей отчаянностью в боях, но с первых же шагов он, увлекшись, зарвался и почувствовал, что он в кольце. Выбора не было: или надо было любой ценой пробиваться к своим, или умереть. Пробиться, казалось, не трудно: кольцо белых было тонко, вооружены они были очень плохо, и много среди них было частей ненадежных, как молодые казаки, которые при первом серьезном напоре бросали оружие или же, перебив своих офицеров, переходили к красным: только бы выкрутиться, а там видно будет…
Белые залегли в густом кустарнике на опушке небольшой рощицы. Стоило смять их, и за лесом была вольная степь. Белых было немного, но почти исключительно офицеры и старые казаки, которые понимали, что в случае победы красных пощады им не будет, и приготовились биться до последнего…
Среди белых был и Фриц Прейндль. Революция захватила его в Тобольской губернии. Он увидел ее дикий разгул, ее ему непонятную и безобразную жестокость, и, когда началось движение, поднятое адмиралом Колчаком, он, выдав себя за прибалтийца, поступил в его войска и пошел с ними на запад, туда, где, он знал, ждала его Варя, от которой не было ни слуху ни духу.
Фрицу искренно хотелось помочь восстановить в России порядок и человеческую жизнь – он как-то сжился с ее бедным, темным и странным народом, – но с первых же шагов нового правительства его немецкий глаз, его прямое немецкое сердце подметило много нездоровых, опасных признаков в постановке дела, и часто сомнения брали в нем верх над желаниями сердца. Сам адмирал – ему часто приходилось встречаться с ним по делам службы – был рыцарем без страха и упрека. Революция захватила его на посту главнокомандующего Черноморским флотом, и когда возбужденные матросы, уже разоружившие и убившие много офицеров, явились, чтобы потребовать оружие и у него, он бесстрашно встретил их на палубе своего флагманского судна.
– Оружие? Все мое оружие – это только вот это… – с горящими глазами проговорил он, положив руку на свой золотой кортик, пожалованный ему за его бешеную храбрость и неукротимую энергию. – Но получил я его не от вас, и возвращу его я не вам…
Он быстро отстегнул кортик и одним энергичным движением швырнул его за борт. Матросы невольно остановились перед красивым жестом бесстрашного адмирала, оставили его в покое, а чрез некоторое время командировали сами своих водолазов на поиски адмиральского кортика в глубине моря, и когда кортик был найден, особая депутация матросов поднесла его неустрашимому адмиралу. И матросы поумнее, которых революция не очень опьянила, которые видели все ее опасности, не раз и не два между собой потихоньку говаривали, что будь среди начальства таких людей побольше, можно было бы революционный флот сохранить в полном порядке и боеспособности. Но таких людей было очень немного, но много было карьеристов, трусов и молодчиков, которым вдруг открылось, что они, в сущности, всегда были левее кадетов.Флот быстро и бесславно развалился, и адмирал после долгих скитаний по России попал в Сибирь, которую он избрал базой для организации восстания против власти красных. Адмирал был всегда справедлив, очень патриотически настроен, но вспыльчив невероятно, и чуть что он принимался топать ногами, брызгать слюнями и сыпать ругательствами. Политически же это был совершенный младенец: настольной книгой его были безграмотные «Протоколы сионских мудрецов», и он всей душой был убежден, что причиной гибели России была не вся ее тяжелая история, а интриги какой-то таинственной еврейской организации, заседавшей в Нью-Йорке.
И чрезвычайные тревоги внушал Фрицу какой-то странный паралич власти. Задачи и прямые приказы бешеного адмирала и его разношерстного правительства не ставились местными администраторами решительно ни во что. Они грабили население, спекулировали, брали взятки, пьянствовали, развратничали, расстреливали и вешали без удержа, и единственным результатом их патриотической деятельности были бесчисленные и жестокие восстания крестьян, которые били наступавшую армию по тылам, расстраивали всю жизнь и все красноречивее и красноречивее свидетельствовали о том, что база дела – гнилая, что никакого толка из всего этого озлобленного кровопролития определенно не будет. Виноватые в гибели России были под носом – вот эти самые самодуры, взяточники, воры, пьяницы, развратники, палаши, – но адмирал точно не видел ничего этого и искал виновников в Нью-Йорке, и тысячи и тысячи людей гибли за дело явно безнадежное…
Фриц участвовал в смелом налете чехов на Казань – ему так хотелось пробиться поскорее к Варе, – но когда красные снова отбили Казань у колчаковцев, он в отчаянии не отступил вместе со своими на восток, а превратился в немца мастерового и остался в городе. Там познакомился он с бежавшим из Окшинска Евгением Ивановичем. Узнав, что новый знакомый его окшинец, он первым делом спросил о судьбе Зориных.
– Зорины? – переспросил Евгений Иванович. – Был у нас один Зорин, совсем молоденький, но необычайно жестокий мальчишка… Сперва он газету мою экспроприировал, а потом стал свирепствовать в чрезвычайке…
– Шрам на виске?
– Шрам на виске…
– Митя, студент?
– Как его звали и кто он, не знаю. Но со шрамом от пули на виске.
– Значит, он… – задумчиво проговорил Фриц. – Но как же он даже при всем своем озлоблении попал в эту компанию, я не постигаю… А как его мать и сестра? – после небольшого молчания с вдруг забившимся сердцем тихо спросил он.
– О них ничего не знаю…
Везти семью сюда, где на новоселье красные смерчи революции гуляли вовсю, не было никакого смысла. Торопиться за Колчаком в Сибирь, судя по безнадежным рассказам Фрица и чехов, тоже как будто было незачем, возвращаться домой самому было немыслимо. Сперва чехи мужественно боролись с Красной армией, а потом, ближе познакомившись с глубоким духовным и хозяйственным развалом белых, совсем к борьбе охладели. А с юга, с Кубани, шли глухие и, как всегда, преувеличенные слухи об успехах там белых. И вот оба они – они очень сошлись под гул большевистских пушек с Волги – после головоломного и утомительного путешествия по Волге попали в Царицын, а оттуда и на Северный Кавказ. Евгений Иванович тотчас же поехал послушать новую жизнь в Екатери-нодар, а Фриц снова поступил в ряды белых…
И вот теперь он сидел в густых зарослях терновника, то наблюдая за едва заметным движением залегших по кустам матросов, то невольно впадая в забытье: последние две ночи были тревожны, и спать почти не пришлось. Был зимний ведренный день, и на пригреве было тепло.
И вдруг где-то справа совсем близко стукнул выстрел. Фриц встрепенулся и посмотрел из-за прикрытия вперед. У красных по кустам было заметно движение. Справа раздался еще выстрел и еще. И вдруг там, из кустов, высыпали цепи. Фриц направил туда своего Цейса – он снял его с убитого комиссара только три дня назад – и ахнул: матросы шли в наступление, сняв с себя не только бушлаты, но и рубашки, и на обнаженной груди их резко выделялись широкие красные ленты-перевязи чрез плечо! Вчера офицеры-добровольцы ходили на них в атаку и, как всегда, шли во весь рост, не ложась, не спеша, не пользуясь никаким прикрытием, – это было ответом. По перелеску зачахали выстрелы, но цепи матросов не дрогнули: во весь рост открытой грудью они без единого выстрела шли на смертельного врага. Это было так внушительно, так прекрасно, так мужественно, что было жаль стрелять. Но выстрелы по опушке все усиливались. В бинокль было видно, как чертили и пылили пули по сухой земле, чуть припорошенной снегом, как падали люди, но цепи все шли и шли, прекрасные в своем безграничном мужестве, в своей ненависти, в своем презрении к страданиям и смерти. И вдруг бинокль вздрогнул: да неужели же это Митя?! Да, он… И сдерживая невольную дрожь в руках, Фриц, не отрываясь, смотрел на Митю, который, весь бледный, с горящими глазами, так же, как и все, до пояса обнаженный, шел в передовой цепи, вдохновленный своей безграничной ненавистью… И вдруг он споткнулся, закачался и, выронив винтовку, упал. Его сосед справа – это был матросик Киря, по-прежнему пылавший революционным воодушевлением и ничего, кроме своей прекрасной мечты, в революции не желавший видеть, – бросился было к нему, но Митя справился и, подняв сам винтовку, снова с видимым усилием пошел, вдохновленный, вперед…
Был уже недалек тот момент, когда цепи должны были броситься в атаку, но этот момент так и не пришел: ловко скрытые на соседних ветряках пулеметы добровольцев вдруг начали поливать свинцовым дождем матросов вдоль по рядам. Все закружилось в последней пляске смерти. И не выдержав, с громким ура,винтовки наперевес, офицеры бросились на погибающего врага. Уцелевшие матросы отстреливались до последней возможности, отбивались штыками и прикладами, а среди уже валявшихся по полю раненых застучали револьверные выстрелы: то раненые сами добивали себя…
Стрельба затихла. Фриц бросился к валявшемуся на снегу Мите. Тот поднял на приближающегося офицера свои палящие глаза и вдруг нахмурился: узнал.
– Митя!.. – невольно участливо вырвалось у Фрица.
– Никакого Мити для вас здесь нет… – сплевывая кровавую слюну в снег, чрез силу зло отвечал раненый. – А есть только ваш враг, революционер и мститель. Если я не покончил с собой, как многие из моих товарищей, то только для того, чтобы плюнуть вам, золотопогонникам, свое презрение в глаза… Вот!
– Митя, я вам не враг… Я не могу быть врагом вам… – сделав шаг к нему, с жалостью проговорил Фриц.
– Не сметь подходить! – подняв браунинг, с бешенством проговорил Митя. – Застрелю, как собаку…
– Скажи мне только одно слово: что с Варей?
– С Варей? И ты смеешь еще спрашивать… – он снова схватился было за браунинг, но страшная боль свела его всего, он выронил револьвер, упал лицом в снег, но скоро без кровинки в лице снова приподнялся и с безграничной ненавистью через силу едва выговорил: – Вы идете с теми, кто погубил Варю, мать, меня, миллионы людей, и потому вы не услышите от меня о ней ни единого слова… Поняли? Прикажите вашим идиотам казакам взять меня и посадить на кол, а я буду плевать вам с кола в лицо… Эй, бородачи! – напрягая последние силы, крикнул он сам казакам. – Берите меня: я – комиссар!