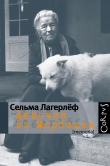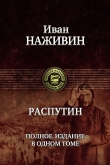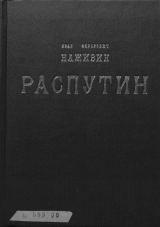
Текст книги "Распутин"
Автор книги: Иван Наживин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 81 страниц)
XIV
ГИБЕЛЬ ДЕРЕВНИ
Сергею Терентьевичу жилось очень тяжело. Бессмысленный и ужасный скандал в школе точно скалой придавил его. Пусть это был случай исключительный, но и жизнь повседневная, ровная и серая, тяготила его не меньше, если не больше: разложение народа под ударами войны пошло еще быстрее, чем прежде. Точно какой-то жуткий антонов огонь съедал деревню. Она и раньше тяжело болела, и болезнь эту подмечал не один он. Не так давно ездил он в глухое Славцево, в леса, приторговать себе для хутора готовые срубы и разговорился там с лесником-стариком, хмурым молчаливым человеком с тяжело нависшими лохматыми бровями, из-под которых умно и проницательно смотрели серьезные глаза. Старик одобрил его мысль уйти на хутор.
– Трудно с вашим народом жить стало… – сказал он. – Народ легкий, все кнутоверт больше, барышник. Землю он бросил, а все норовит как бы торговлей заняться, как бы кого объегорить, как бы кого поднадуть. Вот и ездит туды и сюды, кнутом вертит: с косами, с красным товаром, со скотинкой, лошадьми барышничают… Пустой народ…
– Почему же пустой? – заинтересовался Сергей Терентьевич, слыша, как грубо и просто высказывал старик его же собственные думы.
– Нет в ём никакой силы… – сказал старик, двигая своими лохматыми бровями. – Так, видимость только одна. Девки в праздник выйдут, папоры эти наденут или какоры, что ли, пес их знает, а под папором-то вшей не огребешь. В руках у кажной мухта опять, а рубашки сменной в баню сходить нету. Необстоятельный народ… Город близко, и опять же и тут учителя эти, кушерки глаза мозолят, фиршала в манишках – вот от них и набаловались… Сегодни папор, завтра мухту подавай да лампасе к чаю, ан, глядишь, человек-то и пропал…
– Пожалуй, это и верно, дед, что ты говоришь… – сказал Сергей Терентьевич. – Но вот: что же делать? Как спастись?..
– А это уж сам гляди… – неохотно отозвался старик.
– Однако?
– Бога помнить, брат, надо… – сказал тот. – Читают ли когда ваши кнутоверты святоотеческие книги-то? Небось и не видывали, какие они бывают… А там все предуказано…
Сергей Терентьевич помолчал.
– А ежели в книгах твоих такая сила, почему же не спасли они людей? – тихо сказал он, несколько неожиданно для самого себя. – Тысячи лет читают их люди, а что-то жизнь вот по ним не наладилась…
Старик угрюмо промолчал.
И под ударами войны эта вот болезнь, это разложение народа пошло гигантскими шагами.
На фронт из окшинского края попадали только разве очень уж большие ротозеи, а остальные все пристраивались к оборонев тылу: на железные дороги, на фабрики, работающие для армии, при госпиталях. Да и те, которые попадали на фронт, с быстротой невероятной оказывались в плену, и когда родители после долгого перерыва получали, наконец, открытку из Германии или Австрии, они истово крестились и с гордостью говорили:
– Ну вот и слава Богу… Наш Ванятка парень ловкай. Вот теперя в плен исхитрился сдаться…
Подошел раз Сергей Терентьевич незаметно к сходу. Мужики галдели вокруг Федьки Кабана, которого только что привезли из Окшинска, из лазарета: с отбитыми ногами, совсем без голоса, смотреть не на что…
– И дивлюсь я на тебя, Федька, парень ты словно был не промах, а дал себя так обработать… – говорили мужики. – Чего ж ты зевал-то?
– А чего поделашь? – натужно чуть сипел Федька. – Она, брат, не смотрит, куды бьет…
– Она не смотрит, ты смотри… Ты погляди-ка, все твои приятели целы – один ты опростоволосился…
Но Федька только глаза отводил: по деревне на костылях ползет, едва сипит, будто голоса совсем решился, а чуть отвернутся, глядишь, – с ружьем за лосями на Уж бол бежит, за охотой. И эту комедию свою с увечьем проделывал он всю войну и так перещеголял даже всех своих приятелей: те в плену томились, а этот дома жил с бабой, зайцев жарил и способие получал, а на дураков-докторов смотрел с величайшим презрением.
И если какой ловкач являлся домой с Егоргием,то домашние его гордились им и говорили:
Ловко Петька, подлец, к начальству подольстился: крест дали… Петька он парень ловкай…
И – торопились в город за очередным способием.
Вокруг этого способияшла настоящая свалка. За способием лезли решительно все, даже те, кто не имел на него по закону никакого права. «У царя денег много, на всех хватит, – говорили окшинцы, – а не хватит, так велит еще отпечатать, рази ему долго?» Сергей Терентьевич, как человек письменный, осаждался просьбами написать прошеньице беспрерывно. Когда по совести это было нужно, он писал, а когда просьба была явно беззаконна и бессовестна, отказывал. И этим он нажил себе еще больше врагов, чем прежде. В особую ярость пришла семья беспоповца Субботина, Смолячихи, сын которой устроился писарем в Пензе и которая, тем не менее, будучи к тому же весьма зажиточной и даже просто богатой, способие хотела непременно получать: чем же мы-то хуже других? Бешеный Субботин грозился даже сжечь проклятого шелапутаза его сопротивление в деле способия.
Несмотря на совершенно небывалый приток денег в деревню, денег шальных, – кроме способия, мужики имели теперь неслыханные доходы от продажи дров, картошки, крупы и прочего, за которые они гнули прямо сумасшедшие цены, – деревня определенно беднела. Шальные деньги эти шли и здесь, в лесном краю, на наряды, на тувалетное мыло, на косы накладные, никелированные кровати, которых в избе нельзя было поставить за отсутствием места, перчатки, духи и на всяческую другую роскошь, которая никак не сливалась с тысячелетним укладом деревни, но была на ней каким-то уродливым горбом: девки душились духами, а в избе полозили тараканы, и ночью житья не было от клопов, покупали ребятам в гостинец щикалад «Золотой ярлык», а молоко для них было синее, противное, да и его не хватало, покупал мужик шикарные городские санки для выезду, а тасканскую лошаденку свою по-прежнему кормил соломой… Хозяев, которые употребляли бы эти большие деньги на постройку хорошей избы, на замену поганенькой коровенки ростом с крысу настоящей коровой, на устройство в складчину моста чрез бурную и топкую Оферовскую речку, где топились и рвали снасть все и в весеннюю и в осеннюю распутицу, на обзаведение хорошим инвентарем – таких хозяев почти не было, и с легкомыслием совершенно невероятным мужики, а в особенности бабы разбрасывали шальные деньги на все стороны. В лучшем случае те, которые были поскареднее, собирали эти бумажки в кубышку и жадно прятали, и тряслись над ними, но так как ценность рубля быстро таяла, то получалась совершенно дикая бессмыслица: число бумажек у скопидомов быстро росло, а они разорялись.
Разорялись все – чрез обесценение денег, чрез мотовство, чрез беспрерывные реквизиции скота и лошадей, чрез все усиливающееся пьянство, чрез все усиливающийся картеж. И безумные мобилизации, которые следовали одна за другой с небольшими перерывами и отнимали у деревни последнюю рабочую силу, добивали народ. Рабочих рук не хватало все более и более, площадь засева, и без того небольшая в этом краю, заметно сокращалась, падали лесные заготовки, не хватало людей на фабриках и заводах. Но на грозные признаки усиленно старались внимания не обращать, и жизнь деревни все более и более превращалась в какую-то широкую, разливанную, пьяную масленицу, изредка прерываемую короткими драмами мобилизации. Но запасные со своими котомочками и сундучками, галдя, уходили в город, рев их семейных затихал, и уже через месяц они неслись в город закупать материи, тувалетное мыло, адикалон и всякие другие специи…
Что добром это кончиться не может, это было Сергею Терентьевичу совершенно ясно, но лишь очень немногие понимали его и тревожились вместе с ним – огромное же большинство все еще кричало о последней капле чужой крови, восхищалось успехами общественности, которая посылала уже на фронт не только гнилые селедки, но и изумительные по устройству бани и даже снаряды. Проклятого Гришку кляли все. И все утопали: одни – в шампанском, другие – в самогоне…
И личные дела не веселили Сергея Терентьевича. Еще по осени он как-то выбрал время и съездил на Высокую Реку – так называлась местность верстах в тридцати от Уланки, где по каким-то неуловимым причинам народ был крепче привязан к земле и где еще до войны многие крестьяне вышли на хутора. После недельного пребывания среди хуторян Сергей Терентьевич вернулся домой одновременно и радостный, и расстроенный: радостный потому, что он своими глазами увидел нового мужика, мужика-хозяина, пришедшего на смену мирскому быдлу, ленивому и ко всему равнодушному, того мужика, о котором он столько мечтал, увидел правоту свою, а огорченный чуть не до слез потому, что он это дело с выходом на хутор по малодушию затянул, а теперь все дорожало не по дням, а по часам, и дело выстройки хутора становилось уже почти непосильным. Он увидел на Высокой Реке молодые, прочные и веселые хозяйства, увидел хороший скот, увидел пасеки с американскими ульями, выписанными из вятского земства, увидел плуги, сепараторы, клевера, хорошо посаженные сады, а главное, главное, увидел настоящего хозяина, радетеля, уверенно ждущего завтрашнего дня, настойчиво ищущего путей для еще большего преуспеяния своих молодых, но уже цветущих хозяйств. А он вот запоздал, и кто знает, когда теперь в обстановке проклятой войны удастся ему осуществить свою мечту. Война погубила уже и его «Улей» вскоре после выхода первых же книжек: слишком дороги становились рабочие руки, дорожала бумага, дорожал цинк для клише, продажа пошла туже, и дело надо было остановить, что было тяжело, так как было это дело полезное и нужное. Работа в газетах и журналах не удовлетворяла теперь его, потому что и казенная, и редакторская цензура становилась все строже и строже: люди в испуге всячески старались замазать страшную правду войны и гибели. Он сперва обрадовался, когда воинственный Петр Николаевич ушел из «Окшинского голоса» и на его место стал Андрей Иванович Сомов, старый писатель-народник, гуманист, но скоро оказалось, что замена одного редактора другим существенной перемены в дело не внесла, ибо и Андрей Иванович должен был, хотя и сопротивляясь, подчиняться тому возбужденному хору голосов, которые требовали прежде всего борьбы до последней капли чужой крови и кричали: «Все для войны!»
И в довершение всего самый факт войны тяжело угнетал его своей непроходимой бессмыслицей и жестокостью. Наивная вера, что война кончится в три месяца, давным-давно была разбита. Были уже опустошены огромные пространства, разбиты и сожжены сотни городов и тысячи деревень, потоплены тысячи судов, истреблены миллионы людей, миллионы людей были превращены на всю жизнь в калек, и растрачены такие суммы народных сбережений, которых при разумном употреблении хватило бы, чтобы миллионы людей навсегда вырвать из когтей нищеты и твердо поставить в жизни на ноги. А конца войне все еще не было видно. Ему лично как сорокалетнему ратнику II разряда война не грозила, но его хозяйственному сердцу было чрезвычайно тяжело это возмутительное разорение и мотовство, а как человеку гуманному, близкому по духу великому миротворцу Толстому, война была совершенно невыносима этим жестоким кровопролитием и роковым образом вытекавшим из этого кровопролития все большим и большим ожесточением, одичанием, озверением народных масс. И тяжелые, безысходные думы тяготили его и днем, и бессонными ночами…
Был праздник какой-то деревенский, один из деревенских праздников, которые празднуются, не зная даже толком, по случаю чего и кого все бездельничают. Чтобы не раздражать зря соседей, и Сергей Терентьевич на работу не выходил. Чтобы развлечься, он взял листок серой бумаги и, может быть, в сотый раз стал за столом рисовать план своего будущего хуторка Заячий Ключик. Загрубевшие в тяжелой работе руки плохо слушались его, но все в его представлении выходило так хорошо, что он и не замечал несовершенств своего чертежа. И вся эта такая, казалось, доступная прелесть, такое нужное не только для него самого, но и для всего народа дело теперь было неосуществимо… Он тяжело вздохнул… И вот если бы удалось исхитриться да перерезать небольшой плотинкой эту водоточину, этот самый Заячий Ключик, какой пруд вышел бы! И для скотины хорошо, и насчет пожара, и красиво, и птицы всякой можно бы завести, и карасей напускать… А слева, пониже, огород бы пустить, а справа лицом на полдень садок заложить… И он ясно, ясно видел в своем воображении все это…
На улице послышались вдруг возбужденные голоса и топот ног. Он прислушался: случилось что-то тревожное. Открыв окно, он окликнул бежавшего мимо белоголового мальчугана.
– Что у вас там, Васютка?
– Мирона из города привезли… – на бегу возбужденно бросил мальчонка. – Бают, без ног… Вот все и бегут смотреть…
Мирон был один из упорных недругов Сергея Терентьевича, тупой и упрямый мужик, который загодя был не согласен со всем, в чем хоть чуточку сказывалась какая-нибудь новизна. Его погнали на войну с полгода назад, а в его отсутствие у него померла чахоточная жена, и дети – их было пятеро – остались на руках старой полуслепой бабки и уже готовились идти в кусочки: по слепоте и тупости бабка нарушила постепенно все хозяйство, а на способие без своего хлеба жить было трудно. Сергей Терентьевич, смутный, надел картуз и направился к избе Мирона, около которой уже толпился народ.
Он подошел. На талом грязном снегу – был уже март – сидел безногий, худой, бледный и бородатый солдат в неловко подвернутой шинелишке и безобразной, расползшейся серой шапке. Грязным красным платком он вытирал свое каменно-безнадежное лицо: пошел хозяином, вернулся нищим-калекой. Толпа смотрела в землю, молчаливая и сумрачная – значит, кроме приятного способия у войны есть и вот этот еще лик. Ребята его с заплаканными лицами тупо смотрели на изуродованного отца.
– А вон и Корнюшка бежит… – сказал кто-то. – Корнюшка, беги скорея, тятька приехал… Скорей!
Корнюшка, трехлетний шустрый мальчугашка с вечной улыбающейся смуглой мордочкой, подбежал к толпе.
– Ну, где тятька? – улыбаясь, спросил он.
Толпа расступилась.
– А вон он… Иди, иди, что ты?!
Корнюшка с громким плачем бросился назад.
– Да что ты, голова? Аль тятьки не узнал?.. – раздались смущенные голоса. – Корнюшка, что ты, дурачок?..
– Это чужой… – тянул, плача, Корнюшка. – Тятька большой был… А этот страшнай. Боюса…
– Ну ничего, привыкнет помаленьку… – смущенно говорили в толпе. – Это что исхудал ты очень. Потому оно мало еще, не понимает ничего…
– А где это тебя, Мирон? – тихо спросил Сергей Терентьевич.
– Не помню, как место прозывается… – отвечал холодным и ровным голосом калека. – Как привезли, так прямо из вагонов и в бой погнали. Только было мы нашу орудию с передков сняли, как оттедова, от ерманца-то, р-раз, у самой орудии, и все… Опамятовался только в госпитале, без ног уже… И повезли назад… И ерманцев-то только вчерась в городе у нас увидал, пленных везли куда-то… – он тяжело передохнул и вдруг с непередаваемой горечью воскликнул: – И на кой только черт вылечили меня они, вот чего никак я понять не могу! Что им, сволочам, нужно было?!
И он грязно выругался.
Толпа стояла над изуродованным человеком, смутная и подавленная.
И вдруг страшный подземный удар потряс, казалось, всю деревню. В панике, ничего не понимая, все обернулись назад, к Медвежьей горе – звук шел оттуда как будто – и ахнули: красивая колокольня строившегося храма, видневшаяся из-за житниц, исчезла, и над местом постройки – там на бугре снег давно растаял, и было сухо – стояла густая туча желто-серой пыли.
Батюшки, да церковь-то наша упала! – вдруг крикнул кто-то.
Все сломя голову бросились за житницы. От училища летел без шапки бледный, с вытаращенными сумасшедшими глазами своими и теперь пьяный архитектор Боголепов. Василий Артамонович едва поспевал за ним. Матвей грохотал сапожищами сзади. И уже слышался вой и причитание баб: на стройке, подготовляясь к началу весенних работ, уже было человек пятнадцать рабочих. Из деревни народ несся на гору, а с горы навстречу, совершенно обезумев от страха, тоже бежали, задыхаясь, люди с бледными сумасшедшими лицами и развевающимися волосами.
Картина разрушения была ужасна. Вместо красивой церкви лежала огромная куча кирпича, из которой местами торчали балки и точно в судороге сведенные железные решетки. Удушливая тяжелая пыль медленно садилась на только что освободившиеся от снега зеленя. Бросились проверять рабочих: четверо оказались под развалинами. И прежде всего завязался бестолковый и ожесточенный спор: можно ли их откапывать без разрешения начальства или за это ответишь? Потом стали спорить, кому подать телеграм: анхирею, габернатуру али еще кому? Полупьяный архитектор плакал, трясся всем телом и едва держался на ногах… Сергей Терентьевич первый бросился разбирать кирпич. За ним разом последовали все. Вой и причитания осиротевших семей ужасали душу. Староста побежал в деревню, а оттуда на станцию подавать телеграм – куда, он еще не знал: телеграфисты там укажут…
XV
БОЙКОЕ ВРЕМЯ
Во все нарастающей суматохе неудачной войны падение церкви в Уланке и гибель нескольких рабочих не произвели на окшинское общество никакого впечатления. Начальству не хотелось разводить большого шума, тем более что Кузьма Лукич, надев все свои медали, поехал к губернатору, повинился за недосмотр и заявил, что на месте упавшего храма он сейчас же воздвигнет новый, еще лучший. Губернатору это было приятно, и он только молча посмотрел на тороватого промышленника, значительно, но скорее даже ласково погрозил ему белым пальцем и отпустил с миром. Наряженное для порядка следствие выяснило, что причиной катастрофы было беспробудное пьянство архитектора и невероятное воровство десятников, которые крали все, что только можно было украсть, и сложили большую церковь не столько на цементе и извести, сколько на глине и песке. Архитектора губернатор приказал подвергнуть церковному покаянию и вышвырнуть из губернии, ворам десятникам, пока они сидели под арестом, набили морды,а в «Губернских ведомостях», которых никто не читал, была помещена заметка, что главной причиной уланской катастрофы оказалось по расследованию очень плохое качество цемента и отчасти отсутствие хороших опытных мастеров, причем и то, и другое объясняется отливом в армию опытных работников и общей экономической разрухой.
На строителей катастрофа тоже большого впечатления не произвела. Благодаря войне они зарабатывали колоссальные деньги, и потеря каких-нибудь ста тысяч для них была теперь пустяком, о котором не стоит и разговаривать. Решенный было переезд в Москву затягивался. И на их окшинские дома, и на земли, и на табачную фабрику покупателей было сколько угодно, с руками прямо рвали, но жалко было теперь все это продавать: деньги валили валом. Кузьма Лукич стал куда аккуратнее: чертить, конечно, чертил, но с оглядкой. Лесное дело в Москве тоже шло великолепно: и на казну, и на Земский союз, и на Земгор были огромные поставки, а что при этих поставках делалось, так об этом Степан Кузьмич и говорить без смеха не мог. Все дела в союзах этих разные господишки забрали – земцы эти разные, учителишки, докторишки, газетчики, – которые, известно, в делах ни бельмеса не понимают. Их так разные ловкачи обрабатывали, что индо пух летел: и на войну эти ловкачи не шли, и зашибали здоровую деньгу. Ну и поставщикам, конечно, хорошо перепадало. Степан Кузьмич то и дело летал в Москву с курьерским, и целые дни звонил в его кабинете московский телефон. Бойкое, веселое было время – знай работай да не трусь!..
Лето подходило к концу. Стоял ясный и жаркий день. Над зеленым и раньше тихим, а теперь взбудораженным Окшинском с визгом носились черненькие стрижи и нарядные ласточки, усевшись рядком на телеграфных проводах, щебетали и радовались. Над сонной светлой Окшей звенели детские голоса…
Степан Кузьмич, пользуясь воскресным отдыхом, сидел у раскрытого окна своего пышного кабинета и читал газету. В окно виднелся большой старый парк, спускавшийся до самой реки, с желтыми дорожками, подстриженными газонами, пышными клумбами, зеркальными шарами. Слева серел искусственный грот и плескал большой фонтан в виде уродливого дельфина. На литом чугунном заборе сидел павлин, и хвост его пестрым водопадом падал на золотую дорожку, а на головке трепетала изящная коронка…
Самой интересной в газете была сегодня статья о борьбе с мухами в Америке. Один американский миллиардер отвалил огромные деньги на исследование вопроса о мухах. Быстро были построены соответствующие лаборатории, в которых известные ученые и подвергли муху самому всестороннему исследованию. Они пришли к заключению, что муха – это один из величайших бичей человечества: на крошечных подушечках своих лапок она всюду деятельно разносит самые ужасные микробы: тифа, холеры, дифтерита, скарлатины, чумы, туберкулеза и прочего. Узнав о результатах исследования, энергичные американцы тотчас же организовали широкую и планомерную борьбу с мухой, и уже теперь есть города, где мухи так же редки, как медведи…
– Анюта! – крикнул Степан Кузьмич в полуоткрытуюдверь столовой, где слышались звуки перебираемого серебра. – Анюта, иди-ка сюда…
– Что тебе? – появляясь в дверях, спросила Анна Егоровна, высокая, напудренная, но красивая женщина с всегда немножко сонным лицом, в красивом и дорогом домашнем платье.
– Вот прочти тут потом про мух… – сказал муж. – В Америке вывели их, оказывается, вчистую. И одна какая-то американка в течение лета убила триста пятьдесят две тысячи семьсот пятьдесят девять мух! Это рекорд…
– Интересно… Прочту потом… – сказала Анна Егоровна. – Ты собираешься куда сегодня?
– Не знаю еще. А ты?
– Куда же идти? Скука…
– Ну, скука… Это от человека зависит…
Она ушла. Степан Кузьмич думал о статье. Ему нравился и миллиардер, отваливший такой куш на мух, и ученые, уличившие муху в неблагонадежности, а особенно эта американка: триста пятьдесят две тысячи семьсот пятьдесят девять мух! Ведь если даже допустить, что она охотилась только сто дней лета, так и то получается три тысячи пятьсот двадцать семь с половиной мухи в день!..
Американка эта была душой, отчасти родственной Степану Кузьмичу. Он тоже любил рекорды, любил быть первым. Дом его – первый на весь город по своему убранству. У него первого был в старину здесь велосипед, у него первого телефон с заводом и дачей, у него – первый автомобиль. Ни у кого жена не одевалась с таким шиком, как у него, ни у кого не было здесь таких великолепных тяжелых сенбернаров, ни у кого не было павлина, цесарок, каких-то необыкновенных гусей с наростами, каких-то невероятных петухов, которые орали диким басом. Целые дни у его забора стояли любопытные и смотрели на все эти диковины. Немало было диковинок и в его огромном, красиво убранном кабинете с чудесным столом, с книжными шкапами, полными дорогих книг в великолепных переплетах – их никто никогда не читал: испачкают, жалко, – с дорогими пушистыми коврами. По стенам в дорогих тяжелых рамах висели картины, изображавшие большею частью голых женщин, а между голыми женщинами висели и царская грамота на пожалование ему потомственного почетного гражданства, и благословение Святейшего Синода с подписью митрополита Ардария, и благословение епархиального начальства с подписью архиерея, и фотография Степана Кузьмича в одной группе с губернатором Борисом Ивановичем фон Штиреном – губернатор был в белых штанах и с расшитою золотом грудью, и благодарственный автограф знаменитого писателя, который приезжал зачем-то в Окшинск и которому Степан Кузьмич устроил великолепные проводы, всех напоил и собственноручно усадил писателя в купе первого класса, оплаченное им из своего кармана, и серебряный кубок, полученный им в Ялте на битве цветов за лучшее украшение экипажа, и портрет Вяльцевой с ее автографом, и письмо от президента Французской республики, которому раз, подгуляв с приятелями у Яра, Степан Кузьмич закатил занозистую телеграмму насчет дружественного союза двух великих и благородных наций, и свидетельства на золотую медаль его сенбернару на выставке породистых собак в Москве… Придет кто-нибудь из окшинцев попить чайку вечером, оглядит все эти диковины, и невольно у него вырывается почтительное ого!и это огов полной мере вознаграждает Степана Кузьмича за понесенные труды по добыванию всех этих росчерков, благодарностей, призов и золотых медалей…
За чугунным забором на тихой зеленой улице вдруг послышался гнусавый властный гудок автомобиля. Степан Кузьмич с удивлением поднял голову. Гудок повторился у самых ворот, послышался мерный стук остановленного мотора и знакомые голоса.
– Анюта, Анюта!.. – весело крикнул Степан Кузьмич. – Ваня приехал… На автомобиле…
– Да не может быть!
Оба быстро сбежали с широкой террасы, где две кокетливых горничных в белых передниках и каких-то тоже белых штучках на голове уже накрывали стол для обеда, и устремились к воротам, за которыми виднелся остановившийся огромный автомобиль и трое гостей: двое в английских дорожных широких костюмах, а третий, шофер, похожий на водолаза или летчика.
– Ваня… Люба… Вот сюрприз… Боже, да и дядя Вася! Ну, можно сказать, утешили… Милости просим, жалуйте…
Ваня, брат Анны Егоровны, рослый, весь какой-то точно деревянный, с красивым, но отекшим от вина, бритым американским лицом, снял свои невероятные очки, огромные рукавицы с раструбами и, как-то особенно вывертывая локоть, пожал Степану Кузьмичу руку и поцеловался щека в щеку с сестрой. Люба, его жена, тонкая, изящная, с красивыми жадными глазами, уже щебетала и смеялась с Анной Егоровной, а дядя Вася, жирный, мягкий, как упитанный кот, старец, занимавшийся дисконтом, маслянистыми глазами ощупывал энергичный бюст хозяйки.
– Новый? – кивнул на мерно, как часы, постукивавший автомобиль Степан Кузьмич.
– Новый. Американец. Шесть цилиндров. Хорош?
– Хорош. Прямо из Москвы? Без енцендентов?
Говоря с Ваней, он всегда невольно принимал его телеграфический стиль речи. Ваня думал, что американцы всегда так говорят: тайм из моней. [53]53
Time is money – Время – деньги (англ.).
[Закрыть]
– Ничего особенного. Одного мужика опрокинули с возом. Переехали петуха.
– Ха-ха-ха-ха… А как шли?
– Семь часов… Шоссе разбито.
– Здорово! Что же, на двор?
– Не стоит. Отдохнем часок и назад.
– Вот пустяки! Ночуете…
– Нет. Завтра гонки.
– Ну, идемте, идемте…
Все, весело переговариваясь, пошли к заплетенной какою-то причудливой зеленью террасе. Горничные в белых штучках почтительно принимали от гостей верхнюю одежду и всею фигурой выражали полную готовность расшибиться для них вдребезги.
Анна Егоровна оторвалась на минутку, чтобы внести нужные изменения в обед, Люба пошла полоскаться и душиться в ее комнату, а мужчины приводили себя в порядок у Степана Кузьмича. И скоро все, чистые, душистые, самодовольные, уже сидели вокруг белоснежного стола, на котором благоухала какая-то совершенно необыкновенная окрошка и красовались – несмотря на торжественно предписанную трезвость – разные бутылки с водками и винами. Тут же лежал огромный Мустафа, имевший три золотых медали, и в его умных глазах стояла печаль.
– Ну а мобилизации не боишься? – наливая всем холодной водки, спросил шутя Степан Кузьмич Ваню.
– Нет. Все улажено… – отвечал тот, прожевывая какую-то удивительную рыбку. – Как директор не подлежу.
– Да ведь вы на оборону не работаете?
– Стали работать. Для меня. Материи защитного цвета.
– И вполне безопасно?
– Вполне. Для защиты отечества тяжел.
– Эдак все бы отяжелели!
– Их дело. Пусть устраиваются.
– А на это лето никуда? – спросила Анна Егоровна Любу.
– Нет, хочу прокатиться в Кисловодск… Вот и дядя Вася собирается.
– Ах, старичок, старичок, пора бы тебе и о душе подумать… – пошутил Степан Кузьмич.
– И думаю, и думаю…
– Думаешь ты о девочках…
– А что же? И девчоночек Господь сотворил… – сказал старичок. – Мы с девчоночками живем по-милому, по-хорошему. Жалеют они меня, старичка. Сударушки вы мои, для чего и на свете-то вольном жить, как не для своего собственного удовольствия? Нет, нет, я вот лучше красненького…
– Поедемте и вы… – сказала Люба. – Вот Ваня и отвез бы нас всех на машине прямо до места…
– Ой нет, куда там… – вяло проговорила Анна Егоровна. – Пылища, жарища… Нет, я ни за что!
– Распускаешься ты, вот что я скажу тебе, сестрица… – сказала, смеясь, Люба. – Разве можно жить этой вашей провинциальной коровьей жизнью? Спите, едите, зеваете…
– И я не поеду… – протелеграфировал Ваня. – Предполагается пробег Москва – Томск.
– Смотри, не сломай головы… Мужичишки теперь сердитые, черти… – сказал Степан Кузьмич.
– Нет. Я с графом Пустозерским. Поберегут. У него связи.
И была удивительная лососина, и ростбиф, и цыплята, и спаржа, и всякие вина. Лица раскраснелись, языки развязались, и глаза заблестели. Вдали у реки свистел паровоз. У чугунной решетки торчали любопытные, и у них текли слюнки. А Степан Кузьмич, как только замечал за густыми кустами эти фигуры любопытных, невольно поднимал диапазон выше, громче говорил, громче смеялся и возглашал во всеуслышание:
– А ну, еще шампанчику!
– Ого! – воскликнула Люба, вдруг заметив павлина. – Давно?
– Разве ты его раньше не видала? Давно… Правда, хорош?
– Нет, я не люблю их… – глотая холодный покалывающий огонь вина, отвечала Люба. – У них ужасно неинтеллигентные морды…
И она рассыпалась серебристым смехом.
Павлин взлетел опять на забор, дико вскрикнул и вдруг распустил свой хвост…
– Ого! – сказал кто-то за забором почтительно.
– А ну, еще шампанчику! – сияя, проговорил Степан Кузьмич.
– А не довольно ли тебе, дядя Вася? Смотри, развезет… – пошутила Люба.
– Могущий вместити да вместит, сказано в священном писании, милочка… – кротко отвечал старичок. – Разве ты не читаешь его никогда?
Все засмеялись, даже Ваня, густо налившийся кровью от выпитого вина.
– Эх, надо, что ли, граммофон завести на радостях! – воскликнул Степан Кузьмич. – Давай, дядя Вася, выберем пластинки – ты ходок по этой части…
В окно выставилось огромное серебряное жерло граммофона.
– Это вот все русские оперы… Это итальянские… – говорил Степан Кузьмич, указывая на полки огромного шкапа, набитого пластинками. – Тут вот шансонетка. Это рассказы. Это скрипка…
– Да позволь: сколько же у тебя этого добра? – изумился дядя Вася. – Это поразительно!
– Ну что там… – небрежно сказал Степан Кузьмич. – Каких-нибудь тысячи три пластинок, не больше…
– Ого!
– Тут есть вещи, которые и сами мы ни разу не играли еще… – сказал Степан Кузьмич. – Вот хочешь эту – «Дубинушку»? Шаляпин, соло? Или Вяльцеву вот: «Гайда, тройка…»
– Валяй лучше Вяльцеву!
– Ты на мембрану-то, брат, внимание обрати: антик муар [54]54
Antique moire – старинный муар (ткань) (фр).
[Закрыть]с гвоздикой! Ни у кого такой во всей России не найдешь, может…