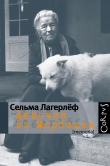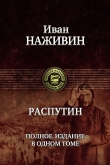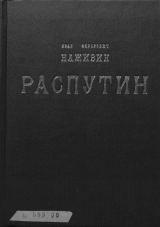
Текст книги "Распутин"
Автор книги: Иван Наживин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 81 страниц)
Еагений Иванович решительно сомневался в этом: в глазах его стояло и не проходило мученическое выражение. Но по обыкновению он не знал, что делать, то есть знал, но не находил в себе достаточной решимости: а вдруг он ошибается? Он сидел у себя над раскрытою секретной тетрадью и с отвращением передумывал сцену у губернатора во всех ее противных подробностях. И с еще большим отвращением вспоминал он о своей газете: из слабого, ничтожного, но все же культурного дела «Окшинский голос» точно чудом каким превратился в истерическую военную кликушу. Конечно, родину защищать надо, но нельзя же так изолгаться и исподличаться… И не умнее ли проповедовать вместо звериной резни до концанеобходимость соглашения и прекращение безумного преступления?
В дверьосторожно постучали. Спавший Мурат поднял свою красивую голову и с достоинством заворчал.
– Войдите, войдите…
В комнату вошла Федосья Ивановна.
– Я сичас в городе была, Евгений Иванович… – сказала она взволнованно. – И на Дворянской встретилась я с молодой княжной… с Сашенькой… Бегут, никого словно не видя, алицо все от слез даже опухло… Поздоровалась я с ними: что это с вами, говорю, барышня, милая? На вас и лица нету… Оказалось, Николенька, молодой князь, прибыл – ранненого привезли… Рана-то будто заживает уж, ну только сам он не в себе…
– Как – не в себе? – нахмурился, побледнев, Евгений Иванович.
– Они говорят осторожно, ну а я так поняла, что… не в своем разуме.
– С ума сошел?!
– Да. Будто бы от раны. Они в голову ранены…
– Где же он?
– Пока в лазарете на Дворянской… – сказала Федосья Ивановна. – А как с ними поступят дальше, еще неизвестно. Очень убиваются Сашенька-то… Конечно, единственный брат ведь… Велели вам передать…
Евгений Иванович тотчас же оделся и, взволнованный, вышел. Было начало весны. Бурое месиво разболтанного талого снега покрывало всю землю. Низко и печально было серое небо. По улицам, унылым и грязным, всюду и везде маршировали по всем направлениям, обучаясь, запасные бородатые мужики и совсем зеленые юнцы последнего призыва. Они нескладно, тяжело старались попадать в ногу, напряженно размахивали руками и с лицами, на которых была написана бесконечная скука и уныние, тянули:
Пишат, пишат царь ерманскай
Письмо нашаму царю…
И были все они без ружей, и на ушко шептали уже опасливо люди, что оружия у русских армий нет, но никто этому не хотел верить, и потому все повторяли, что такие слухи распространяются только германскими агентами. Но лавки бойко торговали, горожане шли туда и сюда, гимназисты, весело смеясь, возвращались по домам, перелетывали и ворковали по рядам сытые голуби, и купцы в лисьих и енотовых тулупах, сбившись кучками, обсуждали последние военные новости. Две собаки, сцепившись задами, стояли посреди улицы, и толпа детей со смехом кидала в них грязным снегом и палками, а взрослые смеялись и делали поганые замечания.
Поднявшись по сильно затоптанной, пахнущей лазаретом широкой каменной лестнице во второй этаж – здесь раньше помещался ресторан «Лондон», теперь, по случаю трезвости, закрытый, – у самой двери лазарета Евгений Иванович столкнулся с главным врачом его Эдуардом Эдуардовичем. Как немца его сперва решили было сослать куда-нибудь к Уралу, но так как губернатор к нему благоволил, то его как исключение оставили в городе, где он исстари славился как своим знанием, так и добродушием удивительным и прекрасной игрой на виолончели.
– У вас молодой князь Муромский? – поздоровавшись, спросил Евгений Иванович. – Как он?
Врач замялся.
– Тяжелая рана в голову… Его германцы, говорят, бросили, считая мертвым, – сказал он тихо. – Жить может, но…
– Душевное расстройство?..
– Да… – кивнул тот головой. – Только не говорите родственникам. Я их немножко обнадеживаю… Хотите повидать князя? Мы ему дали отдельную комнату. А старый князь в Москву поехал хлопотать, чтобы его приняли в клинику Кожевникова…
– Да зачем же вообще привезли его сюда? – идя длинным пахучим коридором за грузным белым доктором, спросил Евгений Иванович. – Ведь мимо Москвы провезли…
– Зачем, зачем… – вздохнув, повторил врач. – Многое делается низачем… Конечно, надо было не мучить, а сразу в Москве оставить. Много, много беспорядка в деле! Это хорошего ничего не обещает…
Он осторожно постучал в застекленную матовым стеклом дверь – тут раньше помещались отдельные кабинеты ресторана – и, не дожидаясь ответа, вошел. Евгений Иванович невольно остановился на пороге: на белой койке, сам весь в белом, с плотно забинтованной головой сидел Коля, исхудалый, прозрачный и – новый. Он остановил на враче и госте свои прекрасные чистые серые глаза, но в них не отразилось ничего: было совершенно ясно, что он не узнал ни того, ни другого.
– Зачем вы пришли? – с укором, тяжело спотыкаясь языком, сказал он и, не дожидаясь ответа, все так же тяжело заикаясь, с большим усилием продолжал: – Я же просил никого ко мне не приходить… Разве это так трудно… не приходить? Я не хочу видеть лжецов. Эти сухие цветочки у ног Мадонны были так… трогательны… А рядом – кишки изо рта лезут у раздавленных артиллерией… И бьются совсем уж ни в чем не повинные лошади… Тут великая ложь. Или цветочки, или это… А так, вместе непонятно… невозможно… – растерянно бормотал он с великим напряжением, от которого слушающим было мучительно, и вдруг на больших страдальческих глазах его налились крупные слезы, и он с мольбой, спотыкаясь языком, проговорил: – Уйдите… уйдите все! Я не могу видеть вас… Уйдите…
И он горько заплакал.
Евгений Иванович нахмурился. Душа его мучительно болела. Молчал – он знал, что разговор, слова тут бесполезны, – и грузный, добрейший Эдуард Эдуардович и тяжело сопел носом.
– Пойдемте… – тихо сказал он. – И так вот дни и ночи… Мадонна какая-то в цветах… И куда-то она исчезла… Ничего понять нельзя. Пойдемте…
Евгений Иванович, сгорбившись, с мученическим выражением в глазах вышел из госпиталя и, не подымая глаз, пошел домой. Дома он тотчас же сел за письмо к незнакомому ему писателю-народнику Андрею Ивановичу Сомову, в последних статьях и рассказах которого звучал протест – насколько только это было возможно в обстоятельствах военного времени – против войны и все растущего озверения и развращения масс. Евгений Иванович запрашивал старого писателя, не возьмет ли он на себя редактирования «Окшинского голоса» – просто закрыть газету теперь было нельзя, во-первых, потому, что это сочли бы за демонстрацию, а во-вторых, около нее кормилось несколько семей. И он подробно изложил свои взгляды на дело: как же не защищаться, если нападают, – писал он с мученическим выражением в глазах, точно не веря в то, что он пишет, точно подчиняясь какой-то посторонней воле, – но и защищаясь, все же надо помнить, что мы все же не орангутанги, а люди, и всемдля войны пожертвовать мы не только не можем, но и не должны…
И, взяв свою секретную тетрадь, Евгений Иванович наскоро записал:
«Толстой как-то заметил, что изобретение книгопечатания имело своим прямым следствием распространение невежества, его усиление. Люди прессы со смехом не раз повторяли эту, как они думали, шутку старика. Но это не было с его стороны шуткой, но наоборот, это были слова, серьезнее и тяжелее которых для нас трудно себе и представить, и нужно всю смешную самовлюбленность людей прессы, чтобы не понять тяжести и ужаса этих слов.
Да, если мы повнимательнее всмотримся в нашу литературу, в наши учебники для школ, а в особенности в наши газеты, затопляющие ежедневно наши города своим грязным, трухлявым потопом в ранние часы, когда вся земля должна бы молиться, то человек разумный и не совсем лишенный нравственного чутья не может не признать, что девяносто девять процентов всей этой запакощенной бумаги – пустая, жалкая, страшно вредная отрава… Достаточно посмотреть, как ведут себя эти светочи цивилизации в наше страшное время, чтобы понять весь ужас Гутенбергова изобретения. А борьба за власть, вся построенная на заведомой лжи, подлогах, клевете? А порнография? А популярные брошюрки, в миллионах экземпляров засоряющие собою нашу жизнь и внушающие своим читателям, что Бога нет и все очень просто произошло от обезьяны, а обезьяна от атома или электрона? Но главное, главное – газеты!..
Нет, нет, не просвещению, но невежеству главным образом служат эти многомиллионные рати свинцовых букв!
Война, в которой погибают теперь европейские народы, ужасна, но будущая война будет еще ужаснее. Недавно я читал у одного англичанина описание этой нашей будущей войны. Поведут ее главным образом, конечно, воздушные флоты, снабженные бомбами страшной силы. Собственно фронтов не будет – флоты эти понесут со скоростью двухсот верст в час смерть и разрушение сразу в тылы, в столицы врага, в его самые крупные и важные центры. Их величества, народные представители и газеты, начинающие и вдохновляющие теперь все войны, будут таким образом в будущем находиться под ударами войны наравне с простыми смертными, а не прятаться от ими же созданного и ими вызванного ужаса в прекрасном отдалении от него. Но, не дожидаясь неприятельских летчиков, все люди сердца, все люди разума, все, для кого человечность не пустой звук, должны принять самые решительные меры. Как только вспыхнет война, они должны не манифестировать, не исходить в бесплодных речах, а тотчас же организовать особые ударные отряды и динамитом смести с лица земли типографии газет, которые гонят своими статьями несчастные народы на взаимоистребление, сами оставаясь в глубоком тылу…
Бедный старый Гутенберг! Думал ли он когда-нибудь, что его изобретением завладеют дьяволы и обрушат на род человеческий столько ужасающих бедствий?! Вот еще яркий пример того, о чем я не раз уже писал на этих страницах: мы не можем предвидеть последствий наших поступков, и действия наши всегда дают результаты совсем не те, которых мы от них ожидаем. Если бы Гутенбергу приснился во сне наш современный газетный лист, то, конечно, добрый немец в ужасе сам разбил бы свой ужасный станок. Воевали и пакостили люди, конечно, и до Гутенберга, но все же невежество, лживость, подлость и кровопролития рода человеческого на ротационках увеличились в миллионы раз…
Нет, над толстовской шуткой умным людям подумать попристальнее не мешает…»
На третий день после отправки письма Андрею Ивановичу Сомову от него пришла телеграмма: «Согласен».И Евгений Иванович, тяжело мучаясь, написал обстоятельное письмо Петру Николаевичу, в котором мягко повторял ему все то, о чем они не раз с ним спорили, и заявлял о полной невозможности дальнейшей совместной работы. Он приглашал Петра Николаевича к себе на следующее утро для ликвидации дела. Василий, дворник, отнес письмо в редакцию и принес ответ:
– Петр Николаевич сказали, что завтра утром будут…
– Ну, спасибо… – облегченно вздохнув, отвечал хозяин.
– А на улицах опять гумаги расклеивают… – сказал Василий.
– Какие бумаги?
– Насчет небилизации… Говорят, восемь годов опять берут… А у вас в газете писали: чрез три месяца все кончится… – с легким упреком сказал он. – Нет, знать, немец-то, он зубастый, с им, пожалуй, и в три года не управишься… Эдак, пожалуй, и до вас скоро очередь дойдет…
Что-то тяжелое подкатило к сердцу. Не раз и не два думал он об этом бессонными ночами. Он не разбирался, не примешивается ли тут и трусость,он знал несомненно и твердо одно: принять этого он не может никак, ни за что!
– Только все говорят, что вас не тронут… – продолжал Василий добродушно и медлительно. – Потому у вас газета, а им это тоже во как требуется, чтобы народ поддерживать. Большие разговоры в народе про недостачи наши идут, а вы обскажете в газетине как покруглее, ан, глядишь, и то же выходит, да не то! С нашим народом чтобы напрямки никак нельзя, потому наш народ неверный. Положили, скажем, милиен людей – напиши милиен, а он будет думать десять милиенов, а напишете вы десять, к примеру, тысяч, он будет думать, что милиен, так дело-то точка в точку и выйдет… – сказал он и, вдруг вздохнув, неожиданно заключил: – За грехи, за грехи, знать, Господь нас карает…
VIII
ОСКАЛ ЗВЕРЯ
Бедному Коле улыбнулось счастье: внезапно по неизвестной причине у него произошло кровоизлияние в мозг, и он умер. И хоронили его ярким вешним утром в Княжом монастыре, где была у них родовая могила, и грустные погребальные напевы смешивались с щебетанием птиц в сводах высоких деревьев, и то дым кадильный покрывал своим тяжелым ароматом нежное благоухание цветов, то запах цветов побеждал этот торжественный запах смерти. Князь Алексей Сергеевич, понурившись, стоял над раскрытой могилой погибшего сына, и в душу его все сильнее и сильнее вкрадывалось сомнение: не за призрак ли погиб его милый святой мальчик? Не он ли виновен прежде всего в этой смерти? Но думать это было невозможно, физически невозможно, ибо это значило бы поставить крест на себе и даже истребить себя. И князь начинал с усилием думать, что нет, эти думы просто плод минутного малодушия, что жертва его сына – прекрасная жертва, что он умер за светлое будущее своей родины, за торжество цивилизации, за свободу. Княжна Саша, которая очень любила брата, горько плакала и находила какую-то странную отраду в том, что вот он умер и похоронен все же среди своих, что они будут носить ему сюда всегда свежие цветы, навещать его, в то время как другие несчастные брошены где-то там в чужой земле, и никто из их близких никогда, может быть, и не узнает, где их могила. Но слово несчастные,которое нечаянно вырвалось у нее, возмутило весь строй ее души, ее дум, нарушило на мгновение ее уверенность в том, что они с папой, приняв войну, поступили вполне правильно, и моментально закрылись у нее ее внутренние клапанчики, предохранители от неприятностей, и она, несмотря на всю искренность и глубину своего горя, осталась твердо на прежних позициях, что было хорошо и тем, что поддерживало отца. Княжна же Маша, более молодая и более мягкая, просто плакала надрывно, тяжело, больно, и интересы цивилизации и свободы в эти торжественные и жуткие минуты над открытой могилой милого брата нисколько не интересовали ее…
Ваня Гвоздев, уже студент, во время похорон Коли решил, наконец, идти на фронт: во-первых и прежде всего, надоело колебаться – идти или не идти, – во-вторых, Ваню все более и более прельщала мысль опрокинуть сперва Вильгельма II, а потом и Николая II, которые, по его мнению, были виноваты уже тем одним, что обрушили на человечество эти ужасы войны, а кроме того, ему хотелось доказать этим решением Фене, что она… ну, вообще доказать что-то такое смутное, но значительное. И он решил идти вольноопределяющимся, не офицером, как Володя, и не солдатом, как несчастный Коля. Этим он показывал, во-первых, полную самостоятельность в решении, а во-вторых, этим он немножко отгораживался все же от солдатчины, которая, несмотря на его твердые демократические убеждения, внушала ему страх своей несознательностью, а еще более матерщиной, которой он решительно не выносил…
Когда бедная Марья Ивановна узнала о решении своего сына, она, давно уже втайне готовившаяся к этому удару, все же немало плакала и все только покорно повторяла:
– Ну что же, у других поотнимали детей – пусть отнимают и у меня… Пусть… Бог не простит им эти материнские слезы, нет, не простит…
Кто были эти они,Марья Ивановна никогда не определяла точно, но пророчество свое, плача, повторяла много раз. Рассудительная Глаша, с необычайным азартом следившая за войной, очень жалела свою барыню и все настаивала, чтобы она велела Ване идти в антелерию, где, по ее справкам, было много безопаснее. И потому Ваня пошел в пехоту.
Ликвидируя свои дела с университетом, Ваня был еще в Москве, когда война неожиданно показала ему свой страшный оскал среди далекого от фронта богатого города: нежданно-негаданно в Москве разразился страшный немецкий погром. Как только смутные слухи о том, что на Кузнецком громят, долетели до ушей Вани, он бросил все и помчался, нахмурив брови, возмущенный до глубины души такой некультурностью москвичей, в центр. На Моховой, в Охотном, на красивой Театральной площади, всюду и везде была заметна тревожная суета развороченного муравейника. Народ торопливо тянулся, тревожно, оживленно переговариваясь, в сторону Кузнецкого – точно какой-то огромный магнит стягивал туда людские опилки со всего города. И как только, пройдя Мерилиза и обогнув ювелирный магазин Хлебникова, Ваня вышел на Кузнецкий, так весь он прямо затрясся от глубокого волнения, в котором отвращение, негодование и какой-то темный страх смешивались в одно.
На всем протяжении широкого Кузнецкого, и по Петровке, и по Лубянке, и по Неглинному стоял смутный и злой галдеж, бегали, махая руками, люди, звенели разбиваемые огромные зеркальные стекла, слышался грохот и треск ломаемой мебели и дверей, и ругань, и смех, и крики. Вдоль тротуаров уже протянулись баррикады, в которых в отвратительной мешанине виднелись и рваные ноты, и разбитые зеркала, и дорогие ткани, и великолепные книги, и в мелкие щепки разнесенные дорогие рояли, и оконные стекла, и бронза, и статуи, и хрусталь, и все, что угодно, все, чем торговал богатый Кузнецкий в дни мира и труда. А из окон, из всех этажей вместе с звенящими стеклами летели вниз комоды, книги, стулья, велосипеды, граммофоны, часы, огромные рояли, белыми мотыльками порхали изорванные в клочки бумаги. И магазины других иностранцев толпой обходились – разносили только фирмы немецкие…
Вот из огромного развороченного окна громадного венского магазина вдруг вылетел большой кусок дорогого зеленого плюша и, зацепившись концом за железный карниз, развернулся ввоздухе до самой мостовой красивой, густо-зеленой лентой. Какой-то старенький генерал с красными отворотами на груди и в потускневших эполетах вдруг выхватил из ножен свою тупую и смешную шашку и в диком исступлении начал рубить ею дорогой плюш. Вокруг послышался грубый хохот, крики одобрения, заливистый свист хулиганов. На другом углу из окон художественного магазина Брокмана летели беспрерывно на мостовую прелестные акварели, рамки, статуэтки, линейки, готовальни, мольберты. Из окон музыкального магазина Циммермана тяжело валились пианино и с страшным грохотом и тревожным звоном струн разлетались вдребезги на плитах тротуара, звенели жалобно и тревожно гитары, гулко стучали барабаны, и черненькие флейты летели вперемешку с ярко блестящею медью труб. И чем драгоценнее была выбрасываемая вещь, тем глубже и громче был восторг и одобрение толпы, в которой были не только оборванцы-хитровцы, но и барыни, и студенты, и офицеры, и проститутки, и гимназисты, и франтоватые господа в модных шляпах. Все они были покрыты пылью, в известке, на многих одежда была порвана, и уже виднелись местами лица и руки в крови. И странно смешивалось тупое озлобление одних погромщиков с удовлетворенным смехом других…
– Да что же вы стоите и смотрите?! – с страстным упреком набросился Ваня на городового, спокойно и с видимым одобрением созерцавшего все это с перекрестка двух улиц. – Что же скажут теперь о нас в Европе?!
Краснорожий городовой с густыми рыжими усами презрительно посмотрел на наседавшего на него молоденького студентика.
– Проходите, проходите, господин… – вдруг рассердился он. – Распоряжаться у нас и без вас есть кому. Тожа, указчик какой нашелся… – пустил он вслед удалявшемуся Ване. – Может, и сам тоже немчура какой…
– Да что же это такое? – в сотый раз повторял Ваня, не знавший, что весь этот погром был налажен московской администрацией, чтобы разрядить неудовольствие московского населения на неудачи на фронте. – Ведь это же позор… Ведь это же черт знает что такое…
Из вдребезги разбитых окон совершенно разнесенного магазина Брокмана слышались смех и веселые голоса. Работа тут была уже кончена: все содержание магазина было превращено в мусор. И в этом мусоре рылись уличные мальчишки, и барыни концами своих зонтикрв старались расковырять эти пестрые кучи хлама: авось найдется что-нибудь хорошенькое на память. И действительно, одна толстая барыня в шелку откопала небольшую, но хорошей работы и совершенно целую статуэтку – Гете.
– Ну вот! Какая удача… – весело засмеялась она, смахивая своим батистовым платочком со статуэтки пыль. – По крайней мере, память будет!
– Как вам не стыдно, сударыня! – в пробитое окно крикнул ей, пылая негодованием, Ваня. – Ведь это грабеж… Это позор…
– Скажите, пожалуйста, какое благородство! – с презрительным смехом бросила ему барыня в ответ. – Вы лучше показывали бы свое благородство на фронте… Такой молодой и здоровый, а болтается по тылам… Из германофилов, должно быть…
К Ване с злорадной усмешкой обратилось несколько лиц. Он в бешенстве стиснул зубы и бросился вперед среди тревожного гомона громящей повсюду толпы, звона стекол, свиста хулиганов и треска разрушения. И видел он как сквозь туман, как белые дрожащие руки выставляли на окнах и в дверях некоторых иностранных магазинов спешно изготовленные плакатики, которые гласили: «Это – французская фирма», «Не трогайте: магазин принадлежит чеху», «Владелец – американец».
– Барин… господин студент… купите книжечку… Господин… Всего целковый…
Оборванный мальчишка с порочным лицом совал ему запыленный экземпляр превосходной монографии Левитана с цветными репродукциями.
– Ну, полтинник… Господин студент, поддержите коммерцию…
От отчаяния и бешенства Ваня прямо не помнил, как он попал домой, а потом на вокзал. Вся душа его болела. И впервые в нем родилось смутное сознание, что опрокидывание Вильгельма II, а потом и Николая II будет далеко не так красиво и легко, как это ему представлялось. Но много думать было некогда: эшелон, с которым отправлялись и только что выпущенный офицером Володя, и Ваня, отходил на фронт.
И во все растущем напряжении подошел, наконец, и последний день. И была музыка, и была пылкая речь старого губернатора – в качестве славянофила князь в борьбе с германцами развивал прямо непостижимую энергию и все эшелоны отправлял непременно сам – и были страстные судороги последних объятий, и исступленные сквозь слезы взоры, и тихие, задавленные рыдания, и еще объятия, и торжественный грохот гимна, и последние горячие благословения, и звуки суровой команды, и раскатистое ура!по теплушкам, смешавшееся с последним свистком паровоза и звуками походного марша… Володя, в сияющей новизной обмундировке с неизбежным биноклем через плечо, и Ваня, также весь с иголочки, уже на ходу прыгнули в ревущие криками вагоны, и последнее, что они с замиранием сердца увидели в толпе провожавших, это была тревожная суета около упавшей в обморок черной Серафимы Васильевны и бледное строгое лицо Тани, которая большими, обведенными темной синевой глазами смотрела вслед ревущему поезду, и по лицу ее катились тяжелые слезы…
Вспоминать все это, думать об этом было так нестерпимо больно, что все об оставшихся молчали и оживленно, с подчеркнутым интересом входили в новую жизнь, обсуждая, когда прибудут они в Москву, скоро ли их отправят дальше и куда именно, и показывали один другому новенькие вещицы, которых все закупили много больше, чем следует, и угощали один другого домашними гостинцами, и без конца пили чай, и ухаживали за сестрами милосердия, и всячески старались один перед другим, как смешнее подложить свинью хмурому доктору, который очень тосковал по семье, а на платформах попутных станций всячески кокетничали перед глазами станционных девиц своей новенькой формой, молодцеватостью, будущим, но несомненным геройством… В теплушках же воняло нестерпимо потным грязным телом, уже появилась страшная вошь, и висела тяжкая матерщина, и пелись бессмысленные песни… А по ночам и в классных вагонах, и в теплушках были тяжелые думы, рвущая сердце боль, а иногда и никому невидимые слезы и проклятья…
Газетная зараза и напряженно-воинственные настроения по мере того, как поезд откатывался все более и более от Москвы, становились все слабее и слабее: среди дремлющих черноземных степей были будни, периодически нарушаемые шумной суетой очередной мобилизации и плачем и воплями задетых ею. И иногда темное и терпеливое крестьянское море пыталось как-то по-своему даже протестовать против творящегося безумия, пыталось бороться, остановить его.
Это было в каком-то маленьком степном сонном городке, где их поставили на запасный путь, чтобы дать отойти приготовленному к отправке эшелону.
Был уже поздний вечер. Около ярко освещенной платформы протянулся длинный ряд вонючих теплушек, переполненных людьми. В воздухе стоял невообразимый гам, крики, песни, ругательства, пронзительный, точно разбойничный, свист. Пьяные степняки с заломленными на затылок серыми шапками, в расстегнутых мундирах, точно в какой-то дикой пляске, крутились, ничего не видя выпученными сумасшедшими глазами, толкая всех, по платформе, вскакивая в ревущие теплушки, опять выскакивая на платформу и крутясь. Тщетно офицеры – они заметно были растеряны – пытались смирить эту дикую орду: солдаты точно не слышали ничего, а когда слышали, ругались матерно… У одной из передних теплушек священник, окруженный густой толпой пьяных солдат, торопливо служил напутственный молебен. Все крестились, кланялись, но из того, что говорил и пел священник, в диком реве толпы не было слышно ни единого слова. И когда молебен кончился, старый священник начал кропить святой водой и пьяную толпу, и теплушки с боязливо фыркающими лошадьми, и темные пушки, стоявшие на открытых платформах в кожаных намордниках…
Где-то раздалась энергичная команда, едва слышная в этом гомоне, и, остро прорезывая это дикое месиво звуков, зазвенел рожок. Шум еще более усилился, и солдаты, давя и толкая один другого, бросились к вагонам, где по-прежнему с гиком и присвистом гремели песни. Вот раздалась едва слышная, тоненькая, похожая на серебряную змейку трель свистка кондуктора, вдали в темноте ухнул паровоз, опять змейка, опять ответ паровоза. Все стихло на мгновение, и вдруг оркестр, фальшивя, грянул походный марш.
– Ура-а-а-а-а!.. – загремело по теплушкам, едва освещенным и густо набитым людьми, и, высунувшись в открытые двери, солдаты с пьяными сумасшедшими лицами замахали шапками и, широко открыв рты, ревели ура!
Поезд задергался точно в судорогах и наконец тихо тронулся. Старик священник опять кропил медленно плывшие мимо него вонючие, дико ревущие теплушки. И вдруг раздался оглушительный скрежет тормозов, и поезд стал замедлять ход. Шум значительно спал, все переглядывались с недоумением и явным неудовольствием: кончено так кончено, какого же еще там черта? И вдруг солдаты поняли: впереди под огнями паровоза судорожно метались туда и сюда какие-то темные фигуры, слышалась крепкая ругань, крики отчаяния, женские вопли, вой… То толпа женщин и стариков, прорвав цепи казаков, охранявших от них вокзал, ворвалась, несмотря на жестокий огонь нагаек, на полотно. С исступленными лицами, кто громко рыдая, кто в страшном молчании, бабы хватались за колеса паровоза, другие, забегая вперед, клали на блестевшие в ярком свете паровозных фонарей рельсы плачущих детей и сами решительно ложились рядом с ними, третьи с ругательствами и бессмысленными угрозами упорно лезли в будку машиниста. Разозлившиеся казаки и стражники били их сплеча нагайками и шашками, но толпа точно ничего не слыхала и продолжала лезть под колеса и на паровоз. Их оттаскивали за полы, за руки, за волосы, рвали на них одежду, а они все лезли, все лезли, то врываясь в яркие снопы света паровозных фонарей, то с воем и криками пропадая в темноте.
Солдаты высунулись было из теплушек, но одни – увидав, а другие – догадавшись, в чем дело, еще более дико и отчаянно заревели с гиком и свистом свои песни, чтобы заглушить ими рыдания своих жен, детей и стариков. Осыпаемые взволнованным начальством площадной руганью, совсем озверевшие казаки и полицейские дружно налегли на толпу и наконец расчистили путь. Поезд быстро среди урагана звуков рванулся вперед мимо рыдавших на откосах пути в безысходной муке избитых, окровавленных, несчастных людей. Священник осенял быстро мелькавшие мимо него теплушки распятием, и, сливаясь с диким ревом пьяных, полных отчаяния степняков, с проклятиями, рыданиями и стонами их близких, на платформе торжественно и могуче загремел гимн…