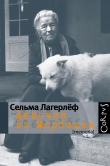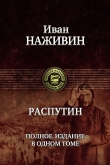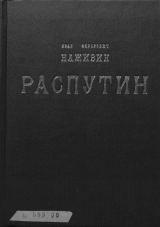
Текст книги "Распутин"
Автор книги: Иван Наживин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 81 страниц)
IX
ЗАПЯТАЯ
Может быть, с самого основания Петербурга не было на верхах петербургского общества такого бешенства, такого исступления интриги, как в это взбаламученное время страшной войны, когда все ярче, все ужаснее выступал наружу чудовищный факт: русские армии для войны забыли вооружить! Так называемые представители так называемой общественности бешено обвиняли в этом правительство, а правительство валило все на Государственную Думу, где заседали эти самые представители общественности, отказывавшие правительству в необходимых кредитах. И раз Герман Германович Мольденке, лучший человек старой окшинской земли, в блестящей и горячей речи резко возразил правительству, что разворовано народных денег и так много, что в бесконтрольное распоряжение бесконтрольному правительству давать денег без конца было бы не только безумно, но и преступно. Аплодировали народному избраннику Герману Мольденке бешено – и в Думе, и в газетах… Но помимо этой неугасимой борьбы правительства с Думой и Думы с правительством, шла наглая и как никогда жадная свалка в рядах правительства за ордена, жалование, повышения, белые штаны, золотые ключи на зад, звонкие титулы, а в кругах общественных происходила дикая склока партий, совершенно не стеснявшихся в средствах, чтобы затопить грязью и подорвать партии враждебные, шла склока в рядах каждой отдельной партии за влияние, места, за лидерство, за деньги…
По линии общественности все более и более выдвигались вперед маститый историк русской культуры П. Н. Милюков, импонируя всем своей ученостью и постоянством своего напора на правительство, и скромный до сего времени пензенский адвокат А. Ф. Керенский, пламенное красноречие которого будоражило буквально всю Россию – то есть ту, конечно, которая не искуривала газеты, а читала их, то есть приблизительно одну двадцатую часть ее населения; с А. Ф. Керенским успешно конкурировал иногда Герман Мольденке, представитель Окшинской земли, который говорил много меньше, презирал – втайне завидуя – Александра Федоровича за его истерическую болтовню, но зато совершенно определенно брал верха над ним в темной закулисной интриге. По фронту же правительственному ярко опережал всех Борис Иванович фон Штирен, за которым все чувствовали могучую поддержку Григория и который, как говорили, стоял во главе небольшой, очень осторожной, но влиятельной германофильской партии, то есть той партии, которая считала войну с Германией бессмыслицей и напрягала все меры, чтобы скорее кончить ее. Но если не Бог знает как прочны были народные кумиры, очертя голову скакавшие к столбу жизненного успеха вкруг трибуны Государственной Думы и по серым столбцам трухлявых газет, то точно так же весьма непрочны были и успехи на поприще правительственном: под ударами войны, все более и более опустошительными и кровавыми, в те дни уже начиналась та растерянная чехарда на верхах, в которой ловкий прыжок наверх чрез неделю сменялся крепким падением через голову, кувырком, снова вниз…
А над всей этой неугасимой сварой министров, генералов, депутатов, интендантов, шталмейстеров, архиереев, фельетонистов, промышленников, адвокатов, великих князей, профессоров и всяких других ловчил высоко в блестящем одиночестве стоял царь или, вернее, царица: робкий, неуверенный в себе полковник с голубыми глазами все более и более терялся под напором страшных событий, решительно ничего не знал – как и все, – решительно ничего, как и все, не понимал, все читал с удовольствием и со всеми был совершенно согласен; властолюбивая же и истеричная жена его, дрожавшая за несчастного сына, за слабого мужа, за явно колеблющийся трон, чувствовавшая с болезненной отчетливостью истерички всю остроту положения – извне наносила сокрушительные удары Германия, а изнутри, ловко используя эти германские удары, били рвавшиеся к власти адвокаты, профессора, фельетонисты и другие лучшие люди Земли Русской, били даже правые, остервенело рвавшиеся поближе к трону, – все более и более теряла власть над собой и, как затравленный зверь, бросалась из стороны в сторону, хваталась то за одного ловкача, пробивавшегося темными путями к ней на глаза, то за другого проходимца, чтобы чрез неделю отшвырнуть его прочь и судорожно уцепиться за третьего, который наверное уже знает, как спасти Россию и царскую семью. Год спустя после начала войны она энергично повела атаки против давнего недруга своего – великого князя Николая Николаевича, тогда Верховного Главнокомандующего: ставка, по ее мнению, забирала все более и более власти, и это было прямо опасно. Великий князь позволял себе даже вызывать к себе министров и давать им указания, и дело дошло до того, что часто в ответ на какой-нибудь приказ государя министры отвечали, что они должны предварительно посоветоваться с великим князем! Заменить великого князя каким-нибудь генералом робкий царь никогда не решился бы – он боялся своего дяди – и поэтому, по мнению царицы, единственный выход был в том, чтобы царь взял на себя верховное командование сам. Это так перепугало всех, что даже такой старый царедворец, как министр двора Фредерикс, и тот решился протестовать.
– Умоляю ваше величество не делать этого! – говорил старик. – Лавры, которых вы ожидаете, скоро превратятся в шипы…
– Что же, вы не считаете меня способным на это дело? – обидчиво сказал царь.
– Военное искусство надо долго изучать, ваше величество… – сказал старик. – Вы же командовали всего только одним эскадроном гусар. Этого совершенно недостаточно…
– Но я постоянно присутствовал на маневрах… – возражал царь. – И кроме того, при мне будет Рузский…
Но царица, как всегда, победила и скоро свергла с поста Верховного Главнокомандующего своего врага – великого князя.
Удар взбалмошной царицы по популярному великому князю чрезвычайно не понравился в стране, а когда царица назначила на место Верховного Главнокомандующего российскими армиями своего мужа, нерешительного полковника, то многие и многие сказали вслух: ну, мы пропали… И неизвестно кто и неизвестно откуда пускал по поводу этого назначения разные острые словечки и анекдоты. Говорили, например, что Вильгельм И, узнав, что во главе русских армий стал сам государь, немедленно же перебросил с русского фронта половину своих корпусов на Западный фронт: на русском фронте теперь большие силы ему были уже, Gott sei Dank, [48]48
Слава Богу (нем.).
[Закрыть]не нужны!
Царица чуть не ежедневно меняла министров, командующих армиями, архиереев, интендантов, даже командиров отдельных полков – положение дел становилось не лучше, но хуже, а параллельно с этим ухудшением общего положения дел в стране все более и более нарастала в обществе, да и в народе какая-то странная склонность к зубоскальству, к насмешке, к подковырке. Это было очень редко сознательно, но большею частью это была дань обычной русской привычке к беспардонному ерничеству, причем все эти зубоскалы и ерники ни в малейшей степени не тревожились о том, справедлива ли их насмешка, нет ли в ней простой и бесцельной, иногда и преступной клеветы. Царица не верила даже самым близким людям, как великие князья, как пьяный адмирал Нилов, который был постоянно при царе, как старый Фредерикс, министр двора, тоже бывший при царе безотлучно – она верила только своему верному Другу Григорию, да, пожалуй, А. А. Вырубовой, да еще, пожалуй, капитану Н. П. Саблину, командиру царской яхты «Штандарт». Но больше всех и безоговорочно – Григорию.
Каждый шаг царя и царицы, при почти божеском – наружно – преклонении пред ними, истолковывался теперь всеми в дурную сторону, травля их не прекращалась ни на одну минуту и шла со всех сторон беспрерывно. Если, например, царица или ее сестра великая княгиня Елизавета Федоровна посещали лазареты, в которых лежали германские и русские раненые близко одни от других, то через час по городу уже носилась злорадная весть:
– Своих-то, ерманцев, оделяет все деньгами, чертова немка, а нашим только все образки сует…
И если, движимая вполне понятным и вполне законным чувством христианского сострадания к страдающему врагу, она несколько дольше задерживалась у раненых немцев, то и это ей немедленно ставили в вину: «Небось своих-то ей больше жалко!..» А раз это так, то вполне возможно, что слухи о тайном радио в Царском Селе, по которому она передает Вильгельму о всех наших планах и начинаниях, верны, и возможно, что справедливы слухи, что наши генералы с немецкими фамилиями то и дело летают чрез наш фронт на аэропланах, отвозя Вильгельму планы наших крепостей и другие важные документы: почему же, скажите пожалуйста, так легко сдались и Варшава, и Ковно, и Гродно, и Ивангород, и Брест-Литовск? Явно, что дело нечисто… И если многие говорили, что все это следствия традиционной глупости правительства, то большинство упорно твердило, что тут – явная измена. Твердили это солдаты, твердили генералы, твердили торговки на базарах, купцы, земцы, обойденные шталмейстеры, газеты, разносчики, гимназисты – все… И каждый прежде всего вел свою линию. Когда обнаружилось, например, что у русских армий нет ни снарядов, ни оружия, ни одежды, ни сапог, толстосумы-промышленники подняли по всей России звон – у них было много своих газет – и очень быстро и очень ловко использовали это тяжелое положение: они завладели делом снабжения армии, пристроили к этой работе на оборону своих сыновей, племянников, внуков, приятелей и приятелей приятелей, наживали на этой обороне бесконечные миллионы и всюду и везде чрез свои газеты внушали серой солдатской массе: не правительство, а мы, мы, мы дали тебе штаны, палатки, баню, мыло, снаряды, сапоги, все. Правительство предало тебя, а мы, ничего не жалея, спасаем тебя и нашу дорогую Родину. Итак, с Богом и вместе с доблестными и благородными союзниками нашими вперед, до последней капли твоей крови! Но русский человек, по слову старого окшинского дворника Василья, был по преимуществу неверныйчеловек. Он не верил этим патриотическим воплям и в тиши сырых окопов, в своих опустевших и притихших деревнях, по лазаретам, везде и всюду он говорил:
– Ишь, сволочи, как наживаются… Мы погибай, а они милиёны тут гребут… Попили нашей кровушки, словно бы, и довольно…
Изнемогая под тяжкими ударами Германии, союзники, никогда толком в делах этой огромной дурацкой России ничего не понимавшие, но составившие себе очень приятное представление о ней, как огромной кладовой, в которой запасы пушечного мяса неистощимы, требовали, чтобы напугать Вильгельма, все новых и новых мобилизаций. То, что и призванные солдаты не имели ни снаряжения, ни оружия, нисколько не смущало их. И вот миллионы людей бесплодно отрывались от сохи или с фабрик, чтобы петь о том, как царь ерманский пишет письмо нашаму царю, а земли уже начали пустовать за отсутствием рабочих рук, фабрики останавливаться, транспорт изнашивался все более и более, и дороговизна угрожающе росла. Со стороны людей проницательных уже раздавались робкие протесты против этих бесцельных и погибельных мобилизаций, они говорили где можно, что мобилизации эти лучший способ взорвать фронт с тыла экономически, но на это лидеры нашей общественности, работавшие рука об руку с великими союзнымидемократиями, начинали немедленно кричать: «Германофильство! Измена!.. Мы должны драться до последней капли чужой крови! Вперед!..» И это считалось очень ловким ходом в борьбе за светлое будущее России, как называли они то славное время, когда они захватят власть, то есть богатства России, министерские кресла и прочее. И все сильнее поэтому, все настойчивее били они по насквозь гнилому, уже накренившемуся набок трону, на котором безучастно сидел странный полковник с голубыми глазами…
В сферахпроходило какое-то из миллионов дел, которое тем, которые его проводили, казалось для России очень важным. Царь, как всегда, колебался без конца: в каждом решении, которое ему подсказывали, он угадывал и хорошие стороны, и плохие, и, как всегда не веря себе, он очень затруднялся, на чем остановиться: предлагатели решений вели своюлинию и поэтому отлично знали, что им нужно от дела, а ему действительно хотелось пользы для России, но как достигнуть этого – было неясно. После долгих колебаний царь остановился, наконец, на одном решении, но, немного подумав, отменил его и принял другое, противоположное. Начались вокруг, как всегда, бешеные интриги, и царя, наконец, убедили вернуться к решению первоначальному, что он и сделал, но попутно он решил переменить исполнителей этого решения. Снова все закипело вокруг, и после новых колебаний царь принял совсем новое решение и докладывавшему министру – министр этот легонько заигрывал и с представителями общественности: ему хотелось застраховать свою будущность на всякий случай– сказал твердо:
– Ну вот… Это мое последнее, бесповоротное решение…
В тот же день у министра – он был маленький, сухенький, слегка хромающий на одну ногу человек с большой лысой головой – был обед. Жил он не в министерской квартире, как полагалось, но, получив назначение министром, несколько демонстративно остался на своей прежней квартире: все равно чрез две недели, вероятно, прогонят, так нечего и перетаскиваться, говорил он, подчеркивая этим и свою приличную оппозиционность и дрянность правительства одновременно. За обедом было только трое приглашенных: огромный граф В., видный член партии октябристов, жирный, сонный, с короткими черными усами; племянник министра, кавалергард-ротмистр, прибывший с фронта на короткую побывку, сухой, белокурый, похожий на остзейского барона и, как барон, точно замороженный раз навсегда в своей безупречной корректности, и, наконец, Лариса Сергеевна фон Ридель, по-прежнему хорошенькая и веселая, несмотря на прямо отчаянные слухи, которые о ней ходили в связи с ее близкими отношениями к Григорию. Затем, кроме министра, была его жена, толстая дама с жидкими волосами и глупым лицом, знаменитая тем, что она всегда все говорила некстати, и два его сына-лицеиста, упитанные, крепкие молодцы с крепкими, как у мясников, затылками, подбритыми по какой-то новой моде.
Садясь за стол, все прилично, либерально помотали рукой у себя под носом, что означало, что вот они помолились: совсем не помолиться было бы неприлично, но молиться как следует было не менее неприлично. Министр был явно не в духе: своей неожиданной резолюцией царь провалил все его расчеты. Но он надеялся, что царь еще раз переменит свое решение: он уже обдумал, как организовать нажим в этом смысле, и хорошенькая Лариса Сергеевна должна была сыграть тут не последнюю роль. К жаркому – вина были прекрасные – его и общее настроение несколько разгулялось. Граф В., трубя своим басом, – его звали за голос в Думе иерихонской трубой – пустился в политику: он был решительно недоволен положением дел и не мог об этом молчать.
– Да, конечно, скрывать нечего: работать планомерно совершенно немыслимо… – сказал министр, дегустируя бургундское. – Вот сегодня – но это только между нами, господа… – я докладываю по делу наших северных железных дорог; доклад в высшей степени серьезен как с точки зрения экономической, так даже и стратегической. Решение по делу было уже вынесено, но, как всегда, в последний момент его отменили, потом отменили еще и еще. И вот я докладывал дело опять. Государь внимательно выслушал и вдруг… вдруг дал указания, резко противоположные его последнему решению. Я только хотел было возразить, но он сделал мне вот так рукой, точно отстраняя, и говорит: «Нет, нет… Это мое уже последнее бесповоротное решение…»
Лариса Сергеевна весело рассмеялась, по лицам остальных пробежал легкий и приличный смешок: министр легким ударением, незаметной интонацией голоса уничтожил в решении государя только одну запятую, и получилась едкая бессмыслица. Царь говорил ему о своем последнем, бесповоротном, решении, а его министр осторожно пустил в оборот последнее бесповоротное решение– этим он сорвал свою злобу, этим он отмстил царю. О том, что он создавал своему государю славу идиота, ни его высокопревосходительство, ни ее высокопревосходительство, ни крепкие лицеисты с затылками мясников, ни кавалергард, ни член Думы и, конечно, менее всех веселая птичка Лариса Сергеевна нисколько не беспокоились: ерничество, странная отпетость все более и более пропитывала Петроград от самого низа до самого верха.
Чрез день об идиотском решении царя по делу северных железных дорог знала вся Дума, вся печать, а чрез неделю над ним разводила руками вся Россия: это его последнее бесповоротное решение!Понятно теперь, почему все летит кувырком… Нет, нет, революция неизбежна…
Герман Мольденке, народный избранник, и другие не менее народные избранники совершенно ясно и очень радостно чувствовали, что в эти дни их шансы на политической бирже поднялись невероятно, и ходили гоголем. Князь Бисмарк подчистил перочинным ножичком что-то там такое в знаменитой эмсской депеше – результатом была кровавая франко-прусская война 1870 года; российский императорский министр, недовольный своим государем, только опустил в одной коротенькой фразе одну маленькую запятую и – сделал, может быть, этим для свержения трона российского больше, чем все террористы и революционные организации, вместе взятые, от Герцена до самого последнего времени…
Так делается и так идет история рода человеческого…
X
«ДОМОВЫЕ»
Германцы упорно изо дна в день били безоружные армии российские и неудержимо продвигались все вперед и вперед; союзники страшными мобилизациями – иначе они никак не давали русскому правительству денег – в корень разрушали экономическую жизнь России, попы без устали служили молебны об одолении безоружными солдатами всякого врага и супостата, транспорт разваливался, а вся Россия – то есть та Россия, которая хотя до некоторой степени владела членораздельной речью, – от вшивых окопов до университетских аудиторий изо дня в день спорила: глупость это или измена? И в то время как одни склонялись к тому, что это глупость, а другие к тому, что это измена, граф Михаил Михайлович Саломатин, любивший решения оригинальные, везде и всюду говорил, что это и глупость, и измена. Он испытывал известное умственное удовлетворение: его анализ русской жизни был безошибочен – война как нельзя лучше оправдывала его пессимизм. Но параллельно с этим внутренним удовлетворением нарастало в нем беспокойство: если германцы вскоре поставят Россию на колени и, заставив ее подписать позорный мир, все свои силы бросят на Запад, то очень возможно, что в этом случае маленькие сбережения графа в Аглицком Банке подвергнутся серьезной опасности, так как германцы – как, впрочем, и все другие народы при удобном случае – остаточно ясно показали, что с международным правом они не очень считаются. И немало бессонных ночей провел граф Михаил Михайлович, размышляя над тем, как ему теперь быть. Конечно, при его связях получить заграничный паспорт можно бы было, но это обратит на себя внимание, а этого граф никогда не любил; добиться же какой-нибудь официальной командировки в Лондон теперь, когда его отношения с очень влиятельным родственником его Борисом Ивановичем фон Штиреном были так натянуты – об этом было известно всем, и все в сношениях с графом это учитывали, – когда в своей агитации против всемогущего старца он сгоряча пересолил, что он сознавал и в чем немножко раскаивался, получить какое-либо официальное поручение за границу при такой обстановке было более чем трудно. И по мере того как развивались грозные события и изумительные успехи германских армий все нарастали, граф, с удовольствием убеждаясь, что он был прав более, чем даже он сам думал, тревожился все более и более: может быть, недалек день, когда над Вестминстерским аббатством взовьется штандарт императора Вильгельма II, и тогда… Но сделать что-либо пока было невозможно – разве только еще и еще сократить свои личные расходы…
Граф сидел в своем скромном номере и, чтобы забыться, внимательно, со вкусом, как всегда покрывая своими заметками все поля книги, читал увесистый труд Смита об историческом Христе или, точнее, о дохристианском Иисусе. Тяжеловатая, но неопровержимая аргументация автора увлекала его. От огромного труда Э. Ренана и всей той наивной школы не оставалось и камня на камне. И он прямо изумлялся, как долго был он под обаянием этого увлекательного, но в конце концов очень поверхностного француза. Конечно, ехать через Ганге на Стокгольм было бы теперь из-за германских крейсер ов рискованно – думал он параллельно, – но сухим путем через Хапаранду можно было бы проехать прекрасно. И только бы до Стокгольма добраться, а там все можно было бы уладить прекрасно…
За дверью послышались уверенные неторопливые шаги, и без предварительного стука дверь его отворилась, и граф от удивления даже привстал: на пороге стоял Григорий.
– Дома? – проговорил тот. – Вот и слава Богу… Здравствуй, милой, дорогой… Все читаешь? Чай, все уж перечитал… Дотошный ты человек, граф, право… Ну, как здоров?
– Да ничего, помаленьку… – отвечал граф с некоторым холодком: не мог он простить ему каверзы с имением. – Вы как поживаете? Милости прошу, садитесь…
– И мы живем, хлеб жуем… – садясь в пахнувшее пылью кресло, проговорил Григорий. – Кто теперь живет хорошо? Вон немец как наших генералов-то расшвыривает. Точно в городки играет: даст раза, так все и сыплется… Как говорил я: не надо связываться…
– Да о вас и сейчас идет по Петрограду слушок, что вы и теперь не прочь с Вильгельмом помириться… – дипломатически улыбнулся граф.
– Мало ли что про меня сплетают… – недовольно отвечал Григорий. – Что я, мужик, тут понимать могу, когда и вся ваша братия, ученые-то, голову растеряла и не знает, что и придумать? А по-нашему, по-мужицкому, знамо дело, плохой мир лутче доброй ссоры. Упустишь огонь, не потушишь, говорится. А он вон как уж разгорелся…
– Если нам теперь с Вильгельмом помириться, он сейчас же бросится на союзников, разнесет их, а потом опять же за нас примется… – сказал граф, еще раз ощупывая мыслью всю безвыходность прежде всего своего собственного положения.
– То-то и я говорю, что никто теперь ничего путем не понимает… – скучливо повторил Григорий. – Один придумывает одно, а другой – другое, третий – третье, а на поверку выходит, что никто ничего путем не знает, и все наобум Лазаря валяют… Выйдет у него чего, все его хвалят: вот, – кричат, – умница, вот человек! А о ся, – пустил он грубое слово, – говорят: сукин сын…
– Ну, как же можно так? Есть и умные люди… – сказал граф.
– Знамо есть… Вон Вите, – он выговаривал не Виттэ, а Вите, —умный мужик, да что-то его не больно слушают. Сколько разов напирал он: бросьте эти ваши дурьи небилизации, и так разорили Расею вчистую! На кой пес собираете вы столько людей, коли ни одеть, ни прокормить их не можете, да и ружьев нету? А ему союзнички наши все подножку да подножку… Известно, где деньги, там и сила… Так вот под их дудочку и прыгаем – далеко ли только упрыгаем…
– Плохо прыгаем, Григорий Ефимович…
– Да и я говорю, что дело г…о. Да что вот будешь делать?
– А как бы вы решили?
– Что я? – повторил неохотно Григорий. – Мое дело маленькое. Это вы привыкли править нами. Ну и правьте… – сказал он с легкой насмешкой, блеснув своими тяжелыми глазами. – Чего с нас, дураков, требовать? Одно только скажу: не ударь меня тады в Сибири ножом дура ента, никакой войны не было бы. Папа слушает меня крепко. И я не допустил бы ни в жисть… Да вот, видно, не судьба. Без меня все дело здесь сварганили, а теперь вот и прыгай…
Наблюдая один другого осторожно, помолчали. Граф все спрашивал себя, зачем Григорий мог пожаловать к нему. И решил повести дело начистоту: он мужик не дурак.
– А я все хотел спросить вас, Григорий Ефимович, зачем это вы мне такую свинью подложили в деле с железной дорогой?
– Зачем? – не смущаясь, повторил Григорий. – Как тебе сказать, граф? Первое дело, какого же черта, в самделе, Расею драть, как Сидорову козу? Что, она мало вам дала и так? Ведь, по совести ежели говорить, хватит… Ну а потом я человек бываю иногда и карахтерный, а в тот день, помнится, я с похмелья крепко не в духе был. А ты повел себя со мной с первого же дня эдак свысока: что, дескать, с мужиком-дураком больно церемониться-то?
– Мне кажется, вы преувеличиваете, Григорий Ефимович… – неловко усмехнулся граф.
– Ну чего там – преувеличиваете? – скучливо усмехнулся Григорий. – Ты что думать, я не заметил, что ты в вагоне-то со мной рядом сесть побрезговал? И все эдак с насмешечкой… А знаешь, что я скажу тебе, граф? – вдруг перешел он совсем в другой тон. – Вот теперь я с вашей братией много уж время путаюсь, всего насмотрелся и одно скажу: и вы ни… не стоите! Такое же дерьмо, как и мы, сиволапые. Надавали себе прозвищев всяких: я, – говорит, – граф, а я – князь, а я там, к примеру, прынец, а много, много сволоты всякой среди вашего брата! Бывало, снизу-то на вас смотрим да все дивуемся: грудь это вся в регалиях, ленты это всякие, на ж… и то золото… А обхождение какое: ваше сиятельство… ваше высокое превосходительство… – не подходи! А вблизи – … За крестик какой отца с матерью продаст, пьяницы и блядуны не хуже нас, грешных, а за деньги куды хошь и на что хошь идет…
– Ну, не все такие…
– Не все, так почитай все… Все с червоточинкой… – сказал Григорий. – Чего уж лутче: жен своих своими же руками под меня кладут – только выручи, Григорий… Или вон приятеля моего, Варнавку епископа, возьми. Ежели промежду нас говорить, то имя его совсем не Варнавва, а одно слово Варнак сибирскай. Погляди, какую бучу по всей Расее он с мощами Ивана Тобольского развел. Все думают, что тут дело первеющей важности, а все дело только в том тут, что Варнавке архиепископа получить надо…
– А разве мощи помогут в этом деле? – спросил, смеясь, граф.
– А как же? Вот, оказывается, на что ты дошлый, а и то порядков не знаешь… – сказал Григорий. – У нас, милой, издавна порядок такой установлен: ежели в епархии открываются мощи, то епископ сичас же вышний чин получает, архиепископа…
– Неужели?!
– Дело говорю… И никто не знает. А ежели знать-то это, то… то и понятно станет, почему на Расее столько святых объявляется. Поглядишь вокруг, все свиные рыла, а между прочим вдруг бац – мощи! Издали-то думашь Бог знать что, а вблизи поглядишь – одна видимость. Вот как ты тогда про домового сказывал. Мужик орет: «Домовой! Караул! Спасите душу хрестьянскую…» А никакого домового и нету: просто это он каши, чертище, обожрался али там капусты кислой. Так вот и вы все себя вроде домового оказываете…
– А запомнился-таки вам мой домовой! – усмехнулся граф.
– Как же не запомнится, чудак-человек! – отозвался Григорий. – Тут штука умственная. Потому, если домового нет, то и ничего, может, нет. В жизни всякого обману много. Вот не так давно пошел я к одному епнотизеру, потому любопытно было: что это у них там за сила действует… И глядел: что скажет он человеку, так тому и быть. И нет ничего, слова только, а тот верует, как в каменную гору… Очень любопытно все это. Я ведь вроде тебя дотошный до всего, только вот учения-то настоящего нету. Вот и ходишь ощупью вроде как в комнате темной, и опасаешься, и не знаешь, как и что думать надо. Ну как вот, например, ты насчет Бога думаешь? Может, и он вроде домового, а? Сродни ему…
– Большой вопрос задаете вы, Григорий Ефимович! – оживился любопытный граф. – Бог… Какой Бог? Если говорят, что сколько голов, столько умов, то можно и так сказать, что сколько умов, столько богов… Бога сам себе всякий создает…
– Тэ-тэ-тэ… Вот к эфтому самому я и веду! – подхватил Григорий. – Так это значит, что я его создаю, а не он меня? Так нюжли же, в самделе, его без меня нету? Много раз подходил я так к этому делу, а все как-то боязно последнее слово сказать… Что же, по-твоему, его без меня нету?
– Вот когда вы вошли ко мне, я читал эту книгу… – сказал граф, уклоняясь от прямого ответа. – Написал ее один большой американский ученый, который всю жизнь изучал вопрос об Иисусе Христе: был ли он, и если был, то какой, и прочее. Так вот…
– Постой, погоди… – живо перебил Григорий. – Так, значит, и насчет Христа вы опять в сумлении? Погоди, постой… Я, брат, тоже всякого народику видывал – правда, не среди ваших ученых, а промежду простонародия. Ты не гляди, что он корявый – там тоже во какие головы есть, что и вам сорок очков вперед дадут. Ну вот… И попадались мне люди, которые напрямки говорили, что совсем, дескать, Христос не Бог, а, прямо сказать, жид. А другие насупротив валяют, на стену лезут: Бог – и крышка! И свечи ставят, и поклоны бьют, и кадилами кадят… А по-вашему теперь выходит, что, может, его и совсем не было, ни жида, ни Бога?!
– Да, есть ученые, которые утверждают и довольно основательно, что такой личности не было совсем… И возразить им очень трудно…
– Аххх! – хлопнул себя по колену Григорий. – Значит, и тут опять домовой?! Ну, и ловко же, кошка вас совсем залягай! Недаром, знать, вы в книжки-то смотрите… И скажи ты мне, пожалуйста, кто же всю эту механику подводит и для какой надобности?
– Какую механику?
– Да вот хошь насчет Христа… Никакого Христа не было, а вот кто-то придумал его… Стало быть, была в том какая-то надобность…
– Я не думаю, чтобы кто-то придумал тут что умышленно, – сказал граф. – Это делается само собой больше… Может быть, что-нибудь маленькое и было, а один заметил и рассказал это по-своему, другой по-своему, третий опять по-своему да прибавил кое-чего, так оно и стало расти больше да больше… Люди любят интересные сказки не только в детском возрасте…
– Ловко… – раздумчиво проговорил Григорий. – Ну только вот ты давеча увильнул от ответу насчет Бога. Так ты уж уважь приятеля – в кои веки с умным человеком поговорить придется, – уважь, не финти… Что же это будет, если умные люди так от дела увиливать будут? Может, оттого и все непорядки идут, что вы про себя все таите… Такие же мы люди, граф… И мы не пальцем деланы… Ты уж уважь, поговори…
Граф, очень заинтересованный, с любопытством смотрел на него своими черными живыми глазами: мужик становился ему не только интересен, но и прямо симпатичен. Ясно было, что это совсем не простой жулик и авантюрист, о котором кричали газеты и все, кому не лень.
– Да ведь не потому уклоняюсь я от ответа, Григорий Ефимович, что это секрет какой-то… – сказал он. – А потому, что есть вещи, о которых трудно говорить людям разного… ну, образования, что ли… И есть вещи, о которых трудно говорить и вообще: это дело, так сказать, ну, личное достояние каждого, что ли…
– А я тебя прошу: не финти! – повторил настойчиво Григорий, глядя на графа в упор своими глубоко впавшими глазами. – А вот скажи мне и чтобы единым духом: веришь ли ты в Господа Бога, Творца небу и земли, да или нет? Небось, я никому не скажу… – наивно прибавил он.