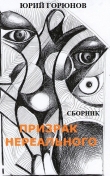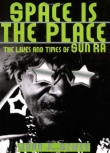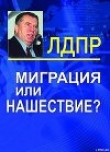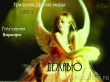Текст книги "Чужая в чужом море"
Автор книги: Александр Розов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 52 (всего у книги 88 страниц)
Через 3 месяца Микеле Карпини, как ни в чем не бывало, вернулся на Футуна к своему fare с фермой и к преподаванию в университете. Основанная им и его товарищами по «Ордену Фиолетовой Летучей Рыбы» экспериментальная площадка на Хендерсоне, за следующие несколько лет превратилась в симпатичный поселок Коста–Виола–Нова. Показательно отношение Карпини к коллегам своей жены. С теми из них, кто пришел в INDEMI после «Дела биоэтиков», он замечательно ладит, а тех, которые работали там в период этой истории – на дух не переносит. Он считает, что в «Деле биоэтиков» из него сделали преферансного болвана или (как говорят в спецслужбах) «поюзали в темную».
Надо отметить, что меганезийское общество ничуть не было шокировано жесткостью приговора «биоэтикам». Большинство людей разделяло мнение суда (в этом нет ничего необычного: при репрессиях Сталина, Гитлера и Мао большинство тоже поддерживало расправы над «врагами народа»). Гораздо важнее поведение меньшинства. При других исторически известных репрессиях, меньшинство подавленно молчало, боясь разделить судьбу тех, кто уже попал в политическую мясорубку. В Меганезии было иначе. Здесь меньшинство открыто возмущалось. На сайтах, на ACID–TV и просто на улице «Процесс биоэтиков» порой называли судебным каннибализмом и позором Океании. Суд только один раз применил к такого рода оппонентам какие–то санкции: 40 девушек, которые, покрасившись красной краской, выложили из голых тел надпись «SHAME JURY» на Дороге Кенгуру, и полностью перекрыли движение, были арестованы, и Лантонский городской суд вынес приговор, над которым хохотал весь округ: 15 суток каторжных работ в качестве спасателей на пляже военно–морской базы на острове Нгалеву (в 50 милях от Лантона). С учетом тех нормативов физподготовки, которые существуют в ВМФ, это как служба спасения у лежбища тюленей (вдруг они разучатся плавать).
К этому же времени относится и конфликт вокруг Leale Imo Marae, Холма Предков на острове Воталеву. Этот памятник религии Inu–a–Tanu оказался подлежащим сносу по муниципальной программе реновации инфраструктуры – но несколько сотен людей, в основном – студенты, встали живой цепью вокруг marae, не пропуская строительную технику. Последовавшее противостояние с полицией продолжалось почти сутки. Шла грубая перебранка, но полисмены ни разу не пустили в ход оружие, т.к. пикетчики ни к кому не применяли насилие и не нарушали ничьего права собственности или свободы передвижения (Леале Имо стоит на общественной земле и через него не идут трассы), а судебного решения о силовом разгоне пикета не было. В итоге, суд запретил сносить Холм Предков. Полиция уехала, строители убрали технику, и пикетчики разошлись по домам, гордые тем, что защитили кусочек культуры утафоа (а точнее – культуры Tiki).
История защиты Леале Имо, казалось бы, не имеющая отношения к «Делу биоэтиков», крайне важна для его оценки. Типичные политические репрессии идут рука об руку с полицейским произволом. Меганезийский случай был иным – здесь и речи не было о произволе. Репрессировались только проявления «колониальной морали» и только по артикулам Хартии. Это понимала и полиция, и гражданское общество. Единственная претензия была к жестокости санкций… Впрочем, преувеличенной правозащитными движениями. СМИ того времени объединяли приговоренных из групп I и II в общую категорию смертников и писали примерно так: «2878 деятелей медицины, образования, науки и культуры казнены после мерзкого судебного фарса». Группу I действительно расстреляли, но Группа II, которую СМИ похоронили, считая каторгу в зонах ядерных тестов «холодной войны» разновидностью убийства, вовсе не собиралась умирать.
Шесть «атомных атоллов», куда их распределили (примерно по 400 человек на атолл) вовсе не были «лагерями радиационной смерти», где (по словам одного итальянского издания) «умирающие от лучевой болезни и недоедания заключенные, подгоняемые окриками конвоиров, возят на тачках отходы плутония и другие радионуклиды». Они представляли собой обыкновенные временные строительные поселки с фанерными домиками, охраняемым периметром, и огороженными опасными зонами (куда могли входить только военные из спецподразделений, и то только в защитных костюмах). Каторжников к этому и близко не подпускали – администрация объекта отвечала за здоровье всего гражданского персонала, наемного или каторжного – без разницы. По существу, здесь просто велось строительство фабрик–полуавтоматов по переработке металлолома и по экстракционно–хемосорбционной добыче рассеянных элементов.
Здесь была установлена обычная 40–часовая рабочая неделя с двумя выходными, без каких–либо отклонений в большую сторону. Администрация строго следила, чтобы каторжный персонал не работал больше, чем положено – это грозило предприятию огромным штрафом. То же относилось к качеству питания, уровню медицинского обеспечения, снабжению средствами гигиены, организации активного отдыха и т.д.
Через несколько недель, репрессированные биоэтики отошли от психического шока, прислушались к товарищам по каторге из бывалой местной публики (т.е. грабителям, жуликам и хулиганам), и поняли, что ничего ужасного с ними здесь не произойдет.
Еще через некоторое время, одна международная комиссия по правам заключенных получила от Верховного суда разрешение посетить эти объекты. После появления ее отчета о визите, прессе стало неинтересно писать о жертвах антигуманного режима, и более, чем на три года т.н. «цивилизованный мир» забыл об этих заключенных. А они продолжали отбывать срок, привыкая к не слишком сложным особенностям здешнего труда и отдыха. В начале их смущало то, что меганезийская пенитициарная система не практикует изоляцию мужчин и женщин друг от друга, но потом, по примеру местных «бывалых» стали завязывать «каторжные романы». В один прекрасный день, волонтер «Prolife» 26–летняя Мари Хэммет, гражданка Австрии, с удивлением обнаружила, что беременна. Вообще–то удивляться нечему: она более двух лет довольно регулярно жила здесь с 30–летним Жаком Орсонэ (гражданином Франции, волонтером «Stop–GM»), а из средств контрацепции использовала только весьма ненадежный «календарный метод».
Совершенно не представляя, что с этим делать в таких условиях, Мари изобретательно скрывала свое интересное положение почти 4 месяца. Затем этот факт был обнаружен. Мари мягко сообщили, что, во–первых, она – дура, что скрывала это столько времени, а во–вторых, если она родит ребенка тут, то он будет гражданином Меганезии, а Мари, после отсидки и депортации, окажется вне пределов этой страны. Ситуация получалась ненормальная, и Мари, по совету шефа администрации, написала короткое заявление в Верховный суд: «Прошу депортировать меня досрочно по причине беременности».
Хартией такая ситуация не была предусмотрена, поэтому суду пришлось решать вопрос полностью по своему усмотрению. За период, прошедший со времени «Акта Атомной Самозащиты», меганезийское общество успело стать многократно сильнее, а социальные институты, ради нейтрализации которых затевалось «Дело биоэтиков», канули в лету… На обсуждение просьбы Мари суд потратил всего полчаса, и на атолл Фангатауфа был отправлен приказ: «Капитану охраны объекта: депортировать Мари Хэммет в 24 часа в соответствие с инструкцией и нормами транспортировки беременных женщин».
Получив депортационную анкету, Мари вписала туда в качестве страны назначения – Францию (они с Жаком договорились, что она будет жить пока у его родителей – она успела познакомиться ними по интернет). В этот момент, видимо, под влиянием ауры официальной бумаги, Мари сообразила, что отсутствие регистрации их отношений с Жаком может иметь неприятные юридические последствия для нее и для будущего ребенка. Но что делать, если в Меганезии браки не регистрируются вообще?! Такой вопрос, оказывается, возникал не впервые – и местные «бывалые» быстро объяснили порядок действий, приводящий к юридически–валидному (для Европы) результату.
На следующий день, с трапа лайнера Таити (Папаеэте) – Париж (Шарль де Голль), не слишком выделяясь среди толпы туристов, возвращающихся после отдыха в бывшей Французской Полинезии, сошла симпатичная загорелая молодая женщина, одетая в меганезийский «tropic–military». Из документов, помимо австрийского паспорта у нее была выписка из борт–журнала корвета «Тауранги» Народного Флота Меганезии о том, что капитаном зафиксирован европейский брак между Мари Хэммет и Жаком Орсонэ (дата, время, широта, долгота, подписи кэпа и двух офицеров)…
После более, чем 3–летнего молчания, редакциям авторитетных масс–медиа, пришлось изобретательно изворачиваться в попытке совместить наблюдаемые факты с образом несчастной девушки, которая (судя по сообщениям в упомянутых масс медиа) все это время недоедала и катала тяжелые тачки с радиоактивными отходами плутония. Может быть, один этот случай как–то удалось бы объяснить публике, но под влиянием законов биологической адаптации, в течении следующего года в Европу аналогичным образом прилетели еще 4 молодые дамы в таком же положении. Верховный суд Меганезии с легкостью штамповал решения об их досрочной депортации, не заботясь о проблемах, возникающих в связи с этим у европейской прессы и официальных лиц.
Очередной виток «хроники репрессированных биоэтиков» начался через полтора года. Мари Орсонэ (Хэммет) отправила в Верховный суд Меганезии просьбу разрешить ей приехать на короткое время с ребенком на атолл Фангатауфа, чтобы Жак мог увидеть сына. Момент был неудачный: разгорался конфликт между Францией и Меганезией вокруг владения атоллом Клиппертон. После серии военно–тактических маневров, французская эскадра вошла в акваторию Соломоновых островов, а ВВС Меганезии нанесли предупреждающий термоядерный удар мощностью 24 мегатонны. Мировая пресса увлеченно смаковала фотографии гигантского «гриба» над океаном и пугала читателей атомным апокалипсисом. Европейские дипломаты, увидев, что дело зашло слишком далеко, признали меганезийскую колонию Тупа–Тахатае на Клиппертоне, а меганезийские коммандос, под шумок, заняли атолл Тауу у побережья Папуа.
Потом жизнь вернулась в обычное русло. Суд занялся письмом Мари – и более 2400 каторжников получили анкеты о депортации, означавшие для них амнистию. Их, без каких–либо церемоний, отправляли домой (или в другие страны, готовые их принять). Дома их тоже встречали тихо: официоз был обижен, что они возвращаются слишком здоровыми, технически непригодными для подпитки мифа об «океанийской империи зла». Кто–то в Европе называл меганезийский судебный акт «PR–приемом», а кто–то – «гуманным поступком, внушающим надежду на взаимопонимание». Какой–то умник написал: «Это произошло благодаря моральному давлению со стороны европейской общественности», а другой, еще умнее, заявил: «Это было вмешательство свыше».
Гваранг Теухиу, когда–то – лучший авиа–рейдер Нарфлота Конвента, а ныне – лучший авиа–рикша акватории Тонга, на вопрос одного новозеландского журналиста: «Почему ваш суд едва не порвал биоэтиков в клочья, а потом повел себя так, будто они ничего особенного и не сделали?», лаконично ответил: «Тогда было такое время». Подобный ответ очень легко принять. Объяснить его – это несколько более сложная задача.
Первое решение Верховного суда по «Делу биоэтиков» было вполне обоснованным и логичным в тех социально–полических условиях, в которых оно было принято. Общество перестраивалось на постиндустриальном принципе Tiki (один возмущенный оратор в ЮНЕСКО назвал это «Диктатом культурной анархии»). Чтобы стабилизировать такой принцип в качестве социального императива, надо было повергнуть в смертельный ужас всех, кто желал господства каких–либо иных принципов. В этом и состоял социальный смысл решения Верховного суда. Каждый открытый приверженец т.н. «колониальной морали» превратился в «человека с чумным колокольчиком». Окружающие избегали иметь с ним дело, а коллективы старались от него избавиться. Если он пытался искать единомышленников (даже просто для общения), то быстро попадал в суд и подвергался депортации – вместе с единомышленниками, которых успел найти. Примерно 1000 дней такого режима потребовалось, чтобы снести старый «культурный слой». Исчезли даже словесные конструкции, бывшие базой культурного контента. Молодежь (пришедшая в школы уже после Алюминиевой революции и Реформы) этих конструкций не знала, а старшее поколение сначала делало вид, что не знает, а потом фактически забыла их.
«Колониальная мораль» с ее символами и обычаями, стала исключительно достоянием маргиналов и недавних иммигрантов (без шансов передать ее следующему поколению). Смысл решения суда размывался вместе с памятью о явлениях, которые оно стерло, и решение осталось просто символом экономической и идеологической независимости. После аннексии Клиппертона и Тауу, когда молодые меганезийцы уже называли всю тихоокеанскую акваторию ниже северного тропика не иначе, как «moana i–au» (наш океан), «Дело биоэтиков» стало историей. Зачем держать исторических персонажей на каторге? Прошлое, которое действительно прошло, никак не может угрожать людям.
Последнее решение Верховного суда по этому знаковому делу, начиналось словами:
«Жесткие санкции применяются лишь, если в этом есть прямой практический смысл».
Это было время, когда меганезийское общество, наощупь и наугад искало призрачную границу разумного и допустимого насилия по отношению к окружающему миру и – к самому себе. Тонкую красную линию, отделяющую самозащиту свободной ассоциации свободных людей от жестокости троглодитов к чужаку, инакомыслящему или инако–живущему. Отступать от красной линии далеко назад и любой ценой избегать насилия, тоже недопустимо – тогда общество будет беззащитно перед каждым, кто более жесток, безразличен к человеческой жизни, более свободен в выборе средств. Максимум силы общества, его жизненного потенциала, лежит вплотную к тонкой красной линии, но не пересекает ее. Никто не придумал четкого способа описать эту линию в этологических определениях, и проблема предельных ситуаций остается, во многом, нерешенной.
В период проведения операции «Barrido del mar», капитан легкого фрегата–авианосца «Shadow of seal», попытался сформулировать это в манере, свойственной военным:
– Когда вы берете в руки оружие, для защищы свободы, безопасности и собственности людей, для защиты Хартии и нашего образа жизни, вы должны чувствовать ту границу, которая отделяет смелость от глупости, решительность от жестокости и инициативу от произвола. Тогда ваши пули будут находить нужную цель. Тогда вам не стыдно будет рассказать своим мамам, своим любимимым и своим детям о своей работе.
– А как, черт возьми, найти эту границу? – спросил кто–то из молодых пилотов.
– У тебя есть подружка? – спросил капитан.
– А то как же!
– И вы с ней ого–го как валяете друг друга где–нибудь на пляже, верно?
– Еще бы!
– А тебе не приходит в голову врезать ей локтем по носу или коленом по печени?
– Кэп, я что, дебил что ли?!
– Вот и здесь помни, что ты не дебил. Инструктаж окончен. Экипажи – по машинам!
*********************************
…
… Жанна дочитала последнюю страницу и попыталась как–то систематизировать все прочитанное у себя в голове. Получилось не слишком успешно. Она решила, что дело просто в переутомлении и пора, как говорится: «на горшок и спать». Организм требует.
Снилась ей какая–то фантастическая чушь. Будто она уговорила Оюю выполнить роль пилота при проникновении на Такутеа, их обеих сцапали копы, и отправили на каторгу, доить морских коров на атолле Тепи–Элаусестере. И вот, Жанна пытается как–то доить огромное непоседливое животное, а Оюю плавает вокруг и ехидничает: «Ну, ты даешь, гло! Это, может, у вас в Канаде доят морских коров в миссионерской позе, а здесь…».
…
=======================================
45 – ХАОТО и ТАИРИ. Старые друзья.
Дата/Время: 7 сентября 22 года Хартии. Утро и день.
Место: Меганезия. Округ Саут–Кук. Атолл Никаупара.
Бар, рынок, лагуна и небо над ней.
=======================================
…
Открыв глаза, канадка не сразу поняла, где она. На это потребовалось секунд 10. Ну, да: атолл Никуапаро. Мини–отель при салуне «Aquarato». Комната №4. Снизу раздавался Звонкий голос Оюю: «… Нет, ты гонишь, Снэп! Чуки права, миссионеры ни хрена не могли показать, потому что им их оффи–религия запрещает даже записывать, читать и рассказывать что–то про секс. По ходу, такое извратное табу!»
Жанна улыбнулась – она поняла, откуда во сне взялась последняя фраза. Когда минут через двадцать она, приняв душ, спустилась в бар, спор еще продолжался, что дало возможность канадке блеснуть своей эрудицией.
– Iaora, foa! – сказала Жанна, привлекая к себе внимание спорщиков: Снэпа, Оюю, Чуки, Флико, двух молодых креолов и 30–летней папуаски (которая стояла за стойкой видимо подменяя Хаббу и Нитро), – Хотите, расскажу, как на самом деле?
– Упс…! – растерянно отреагировал Снэп, – А чего ты вчера молчала, когда мы с Оюю грузили всем мозг?
– От растерянности все вылетело из головы, – призналась она.
– Это Жанна из Новой Шотландии, – проинформировала всех Чуки, – Жанна, это – Йао, vahine Хаббы и подруга моей мамы, а эти парни – Лодо и Кларк из Паго–Паго, Самоа.
– Мы, по ходу, выясняем, что за обычай, бетонировать шатры, – пояснил Лодо. Они со своим земляком были очень похожи, только этот был выбрит наголо, а у Кларка была внушительная каштановая шапка вьющихся волос.
– Чего выяснять? – заметила Йао, – Вам шериф обещал новый шатер за счет мэрии.
– Да нет, мы не в претензии, – сказал Кларк, – просто хочется узнать, как правильно это делать. Типа, тоже над кем–нибудь приколемся. Выходит не дорого, а зажигает ого–го.
– Это если мы дешево найдем генератор пенобетона second–hand, – уточнил Лодо.
– Фи! Не найдем, так возьмем в аренду на день, – ответил тот и, повернувшись к Жанне, спросил, – Гло, а ты историк?
Она покачала головой.
– Я журналист. Пишу про экологию и обычаи в разных странах. Так вот, известно, что термин «миссионерская поза» первым услышал этнограф Бронислав Малиновский, в Папуа, на осрове Тробриан, во время I Мировой войны.
– Остров Тробриан уже наш, – заметил Лодо, – недавно присоединился.
– Вот как? Я не знала. Но тогда это была Британская Новая Гвинея. По словам местных жителей, миссионеры не одобряли туземные позы, как заимствованые у животных, и учили, что надо заниматься сексом лицом к лицу, лежа, и мужчина сверху.
– Незачетно, – буркнул Флико, – Позы стоя невозможно заимствовать у животных.
– Позу «бонобо» – можно, и она, кстати, лицом к лицу, – возразил Кларк.
– Бонобо? – переспросила Жанна.
– Это вариант стоя, – пояснил самоанец, – vahine обнимает kane руками за шею и ногами вокруг пояса, а двигается вверх–вниз. Что, у вас так не делают?
– Почему же? Делают. Только парень должен быть тяжелый, а девушка легкая.
– По ходу, так, – подтвердил Лодо.
– Жанна, тебе что на завтрак? – спросила Йао.
– Даже не знаю. А что тут есть?
– Хочешь яичницу с крабами и какао с булочкой? – предложила та.
– ОК, – согласилась канадка, – То, что надо.
– Сильно не наедайся, – предупредила Оюю, – Мы же будем прыгать, ага?
– Пусть человек поест, – возразил Снэп, – Давай мы сначала прокатим ее на рынок, там всякие сувениры, и заодно растрясти пузо. А потом – вжжж!
– Логично, – согласилась его подруга.
– Короче, я делаю нормальную порцию, – резюмировала Йао, – Если что надо, кричите громче, я буду в кухне, а там шумит немного. Действительно, через четверть минуты оттуда послышалось отчетливое шкворчание.
Чуки энергично поскребла пятерней голую спину (собственно, из одежды на ней был только поясок с разноцветными шнурами), и спросила:
– Жанна, а откуда миссионеры узнали про туземные тробрианские позы?
– Скорее всего, видели. Я не думаю, что тробрианцы прятались от них с этим делом.
– Но ведь миссионерам нельзя на это смотреть, – заметила папуаска, – у них табу.
– Ага! – оживилась Оюю, – Мы по экоистории проходили про оффи–библейские табу.
– Ты просто не в курсе, – заметил Флико, – В оффи–библейских религиях табу сделаны специально, чтобы спрятаться и нарушать их, пока никто не видит. У римо–католиков оргазм бывает только от страха. У пуритан – тоже. Такое извращение.
– Быть того не может! – крикнула с кухни Йао.
– Может, – авторитетно заявил Кларк, – Их этому с детства учат.
– Да, – поддержал Лодо, – Поэтому и столько скандалов, когда они на этом попадаются.
– Жанна! – снова крикнула Йао, – У вас в Канаде есть римо–католики и пуритане?
– Да, – подтвердила канадка.
– Тогда скажи: что, правда у них такое…?
– К сожалению, – со вздохом, ответила Жанна, – В очень религиозных семьях такое, действительно, встречается.
– А почему у них не отбирают детей, у этих извращенцев?
– У нас закон не позволяет отбирать детей в таких случаях.
– А что не поменяете закон? У вас же демократия, нет?
– Как они поменяют? – ответил за нее Флико, – У них в парламенте большинство такие.
– Ужас! – констатировала Йао, – Чуки, принеси Жанне яичницу, пока я сделаю какао.
Юная папуаска обиженно фыркнула, отправилась за стойку бара, и сообщила на ходу:
– Знаешь, тетя Йао, какой там закон? Если ребенку покажут фото голого взрослого, или если взрослому покажут фото голого ребенка, то его сажают в тюрьму!
– Кого сажают? – удивилась та.
– Кого–то из них. Мне киви объясняли, только я не врубилась… Жанна, кого сажают?
– Тех, кто показывал, – хмуро ответила она, – А иногда и тех, кто смотрел на сайтах.
– Ага! – крикнула Чуки уже с кухни, – Киви так и говорили. А если подросток кому–то покажет фото, где он голый, то его сажают в специальную подростковую тюрьму!
– Совсем охерели… – проворчала Йао, – Вот, тащи, только смотри, не обожгись.
– Что я, маленькая? – возмутилась та, и через несколько секунд появилась в зале, неся перед собой внушительных размеров сковородку с еще шкворчащей яичницей.
– Боже! – воскликнула Жанна, – Это из скольки яиц?
– Одно обычное яйцо чипи.
– А я думала, они есть только на Элаусестере…
– Это с чего бы? Чем мы хуже коммунистов?
– Действительно… – согласилась канадка, и принялась за еду.
К ее радости, разговор перескочил с запрещенных фото на коммунистов, а подошедшая Йао положила на стол блюдце с горячей булочкой и поставила кружку с какао. Жанне оставалось только питаться и слушать в пол–уха, как молодежь эмоционально спорит о коммунистическом распределении, размножении, ритуальном групповом сексе, общей кухне, прыгающих серфах, надувных флайках, жизни без домов и культе звездолетов…
Едва она доела и допила, Оюю и Снэп довольно бесцеремонно потащили ее на пирс, к deltiki. Эти маленькие летающие надувные проа (как сообщили Жанне) поднимают 400 фунтов груза, что означает: 2 персоны с минимумом багажа, или 3 персоны без багажа. Deltiki отвалил от пирса, с тихим шелестом раскрутился пропеллер на корме, канадка, глядя на все быстрее убегающую вдоль поплавка зеленоватую воду, начала внутренне готовиться к роли «минимального багажа», и в этот момент…
– Oh, fuck! – воскликнула Жанна, когда лагуна внезапно провалилась куда–то вниз, а желудок, вероятно для компенсации, решил прыгнуть куда–то вверх, – мы что, летим?
– Ну! – подтвердил Снэп, – Классно, ага?
Под ними разворачивалась феерическая панорама атолла Никуапара. Только на карте лагуна радиусом в милю кажется маленькой, а с высоты 1000 футов она выглядит не просто большой, а огромной. Канадка, тут же абстрагировавшись от протестов своего пищеварительного тракта (в известной мере справедливых, с учетом рисунка полета), схватила камеру и прижала к глазам окуляры широко–форматного видоискателя.
– Мы тут уже знаем все классные места! – объявила Оюю, – Сейчас крути фотик на 12 румбов влево. Это залив Арекаи. Морской парк, лучшее место для полетов на уфоидах. Такие надувные кайт–планы изобрел в прошлом веке один юро, типа, как альтернатива дельтаплану, и назвал «woopy–fly». Дальше, в начале нашего века, янки придумали, как сделать это проще и дешевле, и придумали летающий плот «manta–ray». Потом, наши ребята с Раротонга сделали совсем дешевый кайт–план на том же принципе, и назвали «ufoid». Типа, в честь UFO. Видишь – летают! Если тут плаваешь, то надо смотреть по сторонам, чтобы какой–нибудь мудак не приводнился прямо на тебя… А теперь крути фотик по часовой стрелке. Там кампус туристов и где–то должен быть шатер, который вчера забетонировали обормоты–школьники. Наверняка, он выделяется из пейзажа…
Жанна прибавила zoom и, через несколько секунд, поймала в объектив светло–серый купол, напоминающий небрежно построенный эскимосский «igloo», высотой в два человеческих роста. В неровной оболочке было аккуратно выпилено прямоугольное отверстие типа двери. На самой верхушке купола, медитировал в позе лотоса хорошо сложенный молодой креол, а у него на руках сладко спал совсем маленький ребенок. Внизу стояли двое мужчин, выделявшихся из кампании голых туристов, наличием одежды: шорты, сине–белые полицейские майки и портупеи с оружием. Полисмены эмоционально общались с девчонкой–маори, у ног которой лежал пустой рюкзачок–люлька (tamaete). Вероятно, маори была мамой младенца, креол – ее faakane, а копов интересовало, что она думает по поводу безопасности такого обращения с ребенком.
Рядом, мальчишка–мулат, встав на плечи двум другим мальчишкам и вооружившись баллончиком с краской, выводил на куполе надписи на утафоанском «rapik», видимо, очень веселые (зрители покатывались со смеху). Жанна пожалела было, что не может прочесть– и тут своевременно вмешалась Оюю с биноклем.
– По ходу, юный псевдо–японский поэт, – сообщила она, – одно хокку уже написал
Aita i–papu aha
Fare tipu–u feo
E tahunu eere…
Ну, типа: это непостижимо, дом превращен в камень черной магией.
– Теперь, наверное, эту хреновину здесь так и оставят, – заметил Снэп, – как бы, уже памятник архитектуры и литературы.
– А лет через сто люди скажут: это marae–nui построил ariki–roa Мауна–Оро, – весело подхватила Оюю, – …Жанна, 6 румбов вправо. Ингл–Таун и Институт экстремальной биологии. Раньше тут была британская биостанция, а теперь тут работает док Мак. То зелененькое, похожее на карликовый лес, это экспериментальная биология. В смысле – растения. А архитектура – отстойный контр–модерн, слизано c пузырей Лантонского университета. А fare самого док–Мака – стильный. Но он построен не на Ману–ае, а на восточном острове, на Те–ау, где Папуа–Нова и рынок. Повернись на 16 румбов. Ну, в смысле, кругом. Видишь залив Кираура? На правой створке горловины – пагода…
– Ух ты… – воскликнула Жанна, – Эта красота – дом док–Мака?
– Типа да, – подтвердил Снэп, – Вчера мы болтали в баре с «volans–viola». Они говорят: когда семья док–Мака перебиралась сюда, то в начале прикатила целая толпа родичей обеих его жен, и по–быстрому забабахали этот прикольный дом.
– Но почему именно пагода?
– Что первое придумалось, то и построили, – пояснил он. – У коммунистов так принято.
При внимательном взгляде можно было заметить, что пагоду док–Мака действительно «забабахали по–быстрому». Основа сооружения – квадратная алюминиевая платформа метров 30 по диагонали, стоящая над водой на трубчатых сваях (это типичная схема для. береговых хозяйственных модулей в Меганезии). Платформу соединяет с берегом узкий арочный мостик. Экзотическая 3–ярусная пагоды собрана из легких панелей на каркасе, приваренном к той же платформе. Всего одна группа элементов экстерьера: квадратно–пирамидальные крыши, изящно выгнутые углами вверх, придавали шарм этому дому. Типично–элаусестерский стиль: изящное одноходовое решение поставленной задачи.
– А вот эта инсталляция из цветных контейнеров – дом кузнеца Вуа, – продолжала Оюю свой рассказ о достопримечательностях, – сама кузница вон в том ангаре. А прямо по курсу – Папуа–Нова и рынок, а зелень в глубине острова – это фермы. Сейчас мы будем снижаться… Снэп! Давай сделаем пару кругов, чтобы Жанна могла взять все ракурсы.
…
С высоты 1000 футов Папуа–Нова был похож на обычную захолустную деревню где–нибудь на побережье Новогвинейского моря. Поселок из прямоугольных домиков с двускатными крышами. Домики стоят на сваях, прямо на мелководье. Узкие улочки, тянутся с берега, и переходят в длинные настилы (тоже на сваях), а затем – в пирсы. Множество лодок и плотов, пришвартованных к пирсам, к настилам, и даже прямо к домам, образуют оживленные торговые ряды. Чуть подальше от этого круговорота, в заливе, кто–то рыбачит с лодки, а кто–то просто купается. Собственно, об их занятиях можно только догадываться – с учетом высоты и дистанции, они видятся букашками. Единственное, что выпадало из первобытной картины – это несколько десятков флаек похожих на яркие ромбики и крестики, нарисованные на зеленой поверхности моря.
Когда deltiki, двигаясь по сужающейся и нисходящей спирали, сделал оборот по вдвое меньшему радиусу и на вдвое меньшей высоте, эта первобытная картина рассыпалась вдребезги. Жанна тут же вспомнила рассуждения доктора Рохо Неи о переходах между палеолитом, мезолитом, неолитом, индастриалом и постиндастриалом. В Папуа–Нова никакого перехода не было. Палеолит и постиндастриал смешались здесь, как сливки и воздух в скоростном миксере, образовав плотную пену, некий пузырящийся коктейль. Домики в первобытном папуасском стиле были скроены из водостойкого биопластика, кровли были украшены консолями с солнечными батареями и антеннами – «блюдцами». Вдоль бамбуковых настилов то тут, то там, швартовались разноцветные аквабайки и скоростные катера. Плоты и проа, связанные по древнему методу, из толстых полых стволов бамбука, соседствовали со своими далекими алюмопластовыми потомками. По аккуратным прямоугольным полям ползали яркие пятнышки комбайнов–квадроциклов. Жанна успела заметить, что некоторые из этих машин движутся и выполняют какие–то операции вообще без водителя. Агроботы. Похожие штуки она видела на Элаусестере.
Следующий виток – и приводнение рядом с одним из пирсов, посреди поселка. Тут, на блестящих алюминиевых ножках возвышался широкий настил–платформа, на котором стояли два ярко раскрашенных домика: красно–белый (с табличкой «Medica») и сине–белый (с табличкой «Police»). Под навесом сражались в шашки массивный калабриец в полицейском кэпи и шортах, и худой парнишка–папуас, на котором из одежды была только коническая вьетнамская шляпа (не иначе как, чтобы голова не перегрелась). Вокруг игроков толпились болельщики, числом до дюжины, и отчаянно подсказывали. Над ними возвышалась блестящая мачта с пропеллером ветрового электрогенератора.