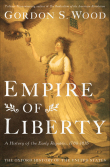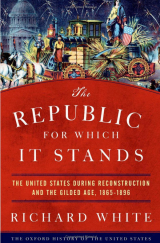
Текст книги "Республика, которую он защищает. Соединенные Штаты в период Реконструкции и Позолоченного века, 1865-1896 (ЛП)"
Автор книги: Ричард Уайт
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 66 (всего у книги 80 страниц)
Как только демократы заручились поддержкой Альянса фермеров Юга, национальные выборы 1892 года были закончены. Демократам оставалось лишь удерживать некоторые из своих прежних завоеваний на Среднем Западе, надеяться, что популисты ослабят республиканцев на Западе, и ждать результатов. По большому счету, так и произошло.
На большей части Юга республиканцы стали незначительными; только в Северной Каролине союз популистов и республиканцев оказался плодотворным и в итоге привел к появлению сенатора-популиста. Демократы в Джорджии пересчитали Тома Уотсона, единственного действующего конгрессмена-популиста, и он потерял свое место. Уотсон жаловался, что весь призыв демократов на Юге сводился к одному слову: «ниггер». Это слово удерживало многих белых членов Альянса фермеров Юга в рядах Демократической партии. Хотя они добились успехов на местном уровне, популисты получили лишь 15,8% президентских голосов в старой Конфедерации. Уивер и Мэри Элизабет Лиз, чьи расовые взгляды были такими же экстремальными, как и все на Юге, провели кампанию в Джорджии, но толпы южан закричали на нее за то, что она – женщина, играющая общественную роль, и забросали Уивера, который был офицером Союза на Юге времен Реконструкции, таким количеством яиц, что, по словам Лиз, он превратился в ходячий омлет.[1810]1810
Postel, 99, 100, 182–83, 187–203; C. Vann Woodward, Tom Watson: Agrarian Rebel (New York: Oxford University Press, 1963), 370; Goodwyn, 324–30; George H. Mayer, The Republican Party, 1854–1964 (New York: Oxford University Press, 1964), 236–37; Sanders, 133–34; Paul Kleppner, Continuity and Change Electoral Politics, 1893–1928 (New York: Greenwood Press, 1987), 61–62.
[Закрыть]
В краткосрочной перспективе страх демократов потерять голоса белых привел, как бы странно это ни казалось, к усилению зависимости от черных. В тех частях Юга, где окончание Реконструкции не привело к полному лишению чернокожих избирательных прав, голоса чернокожих превратились в «мертвые голоса». Чернокожие могли голосовать, если они голосовали за демократов в поддержку плантаторов, чьи земли они обрабатывали, купцов, которым они были должны, или в пользу тех, кто их нанимал. Возникновение популистов потенциально угрожало этой системе. Популизм создал белый электорат, выступающий за честные подсчеты и справедливые выборы. Бурбонские демократы обратили против белых популистов средства, которые южные белые создали для победы над республиканцами и чернокожими. Популисты – белые мужчины, которые сами убивали и запугивали чернокожих и одобряли фальсификации на выборах, – теперь часто сталкивались с насилием, запугиванием и мошенничеством и стремились обратить их вспять.[1811]1811
Steedman, 70–77; Richard M. Valelly, The Two Reconstructions: The Struggle for Black Enfranchisement (Chicago: University of Chicago Press, 2004), 53; Postel, 188, 192, 196, 200.
[Закрыть]
Куда бы ни смотрели республиканцы в 1892 году, они везде видели обязательства. Особую проблему представлял Эндрю Карнеги. Он был одним из ведущих доноров республиканцев, другом Джеймса Г. Блейна, восторженным сторонником тарифа Мак-Кинли и ярым приверженцем золотого стандарта. Он попросил Фрика отправить чек на 5000 долларов Маккинли после его речи против серебра. Однако Карнеги своими действиями в Хоумстеде привел в ужас слишком многих избирателей-республиканцев, чтобы стать их активом. Резерфорд Б. Хейс объяснил слабость республиканцев отступничеством рабочих, которые «видели, как капиталисты отправляются в Европу, чтобы потратить состояния, приобретенные в Америке». Все, что демократы утверждали о тарифах, казалось вопиюще и впечатляюще правдивым: крупные компании защищали свои рынки, сокращая заработную плату рабочих, трудящиеся платили больше за предметы первой необходимости из уменьшившихся чеков. Республиканцы неумело пытались привлечь своего кандидата в вице-президенты Уайтлоу Рида к посредничеству в забастовке в Хоумстеде, но Рид, возглавивший газету Грили New York Tribune, в 1892 году был втянут в забастовку с профсоюзом типографов, которая вредила республиканцам в Нью-Йорке. Карнеги и Фрик отказались идти на какие-либо уступки.[1812]1812
David Nasaw, Andrew Carnegie (New York: Penguin Press, 2006), 376; Mayer, 235; Ari Arthur Hoogenboom, Rutherford B. Hayes: Warrior and President (Lawrence: University Press of Kansas, 1995), 525; Paul Krause, The Battle for Homestead, 1880–1892: Politics, Culture, and Steel (Pittsburgh, PA: University of Pittsburgh Press, 1992), 344.
[Закрыть]
Республиканцы вновь выдвинули кандидатуру Бенджамина Гаррисона, отчасти потому, что единственной альтернативой был Блейн, чья запоздалая и квиксная попытка выдвинуться ни к чему не привела. Харрисон и Кливленд встретились в реванше на выборах 1888 года. Их вторая встреча лишь подчеркнула трактовку президентской политики XIX века Джеймсом Брайсом в книге «Американское содружество», согласно которой «выдающиеся люди» не поднимались в американской политике, как потому, что самых способных людей не привлекала общественная жизнь, так и потому, что политика в конгрессе давала мало шансов отличиться. Самые известные конгрессмены, такие как Блейн и Роско Конклинг, нажили слишком много врагов, чтобы быть жизнеспособными кандидатами в президенты. Безопасными кандидатами считались те, кто не разозлил бы приверженцев своих партий или помог бы победить в ключевом штате. Для партий кандидат, который был бы плохим президентом, был предпочтительнее того, кто был бы хорошим президентом, но плохим кандидатом. В любом случае Брайс считал, что стране не нужны гениальные президенты. Их власть была ограничена, и, поскольку страна находилась в состоянии мира, их обязанности были относительно невелики. Соединенные Штаты могли позволить себе посредственности. 1890-е годы поставили эту оценку под сомнение.[1813]1813
Льюис Л. Гулд, Великая старая партия: A History of the Republicans (New York: Random House, 2003), 111–12; James Bryce, The American Commonwealth (London: Macmillan, 1897, orig. ed. 1888), 1: 78–85.
[Закрыть]
Противодействие Кливленда тарифу в 1887 году принесло ему большие, хотя и запоздалые плоды в 1892 году. Он научился быть кандидатом нового типа, который представлял себя как общенациональный голос народа, а не как представитель региональных боссов и машин. Старые доктрины индивидуализма и самодостаточности казались все более архаичными, но национальные партии признавали, что старые этнические, религиозные и секционные связи, которые были основой послевоенной политической лояльности, также расшатываются. Лучшей тактикой казалась апелляция к собственным интересам избирателей, которая могла бы отвратить некоторых из них от старой лояльности. Просветительские кампании стремились убедить и мобилизовать избирателей, убедительно, последовательно и последовательно излагая и распространяя единую политику. Это требовало централизации и денег. Республиканский и Демократический национальные комитеты усилились, а организации штатов и местные организации ослабли. Влияние тех, кто их финансировал, росло. Расходы на президентскую кампанию, которые в 1872 году составили 300 000 долларов, в 1892 году превысили 4 миллиона долларов.[1814]1814
Роберт Э. Мач, Покупка голоса: A History of Campaign Finance Reform (New York: Oxford, 2014), 17–18; Daniel Klinghard, The Nationalization of American Political Parties, 1880–1896 (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), 108–23, 176–77.
[Закрыть]
Генри Адамс заметил растущее значение денег и решил, что это дает преимущество республиканцам; он недооценил способность демократов учиться и конкурировать. Кливленд, очевидно, собрал больше денег, чем Харрисон в 1892 году. Демократический национальный комитет функционировал как политическое издательство, усиливая связь между тарифом и забастовкой в Хоумстеде. Республиканцы долгое время трубили о сталелитейной промышленности как о плодах тарифа, который приносит выгоду и капиталу, и труду, и эти слова вернулись, чтобы преследовать их. Выступая в нью-йоркском Мэдисон-сквер-гардене, Кливленд сказал своим слушателям и всей стране: «В самой обители высокой защиты разыгрываются сцены, высмеивающие надежды тружеников и демонстрирующие ложность того, что защита является благом для тружеников».[1815]1815
H. Адамс – Джону Хэю, 12 ноября 1892 г., в «Письмах Генри Адамса», изд. J. C. Levenson (Cambridge, MA: Belknap Press, 1982), 4: 78–79; R. Hal Williams, Years of Decision: Американская политика в 1890-е годы (Нью-Йорк: Wiley, 1978), 64–65.
[Закрыть]
Другие забастовки подчеркнули уроки Хоумстеда и подорвали привлекательность республиканцев для рабочих. Шахтеры-серебряники в Кёр-д’Алене, штат Айдахо, угольщики в Коул-Крик, штат Теннесси, железнодорожники в Буффало, штат Нью-Йорк, – все они вышли на улицу. Три губернатора были вынуждены вызвать милицию своих штатов.
Не в силах оставаться в стороне от борьбы, он направил федеральные войска в Айдахо, где шахтеры пользовались значительной поддержкой местных жителей, чтобы обеспечить соблюдение федеральных запретов и беспрепятственное прохождение американской почты. Демократы воспользовались растущим классовым расколом, ловя голоса рабочих.[1816]1816
Мелвин Дубофски, «Истоки радикализма западного рабочего класса, 1890–1905», История труда 7, № 2 (1966): 138.
[Закрыть]

Президентские выборы 1892 года.
В национальном масштабе Кливленд удвоил число голосов избирателей Харрисона и победил с перевесом в четыреста тысяч голосов. Республиканцы вернули часть своих потерь в Палате представителей, но демократы сохранили большинство в девяносто четыре голоса и получили новое большинство в шесть голосов в Сенате. Генри Адамс, считавший это соревнование противостоянием «двух набитых пророков», отреагировал на него разумно и цинично. Те, кто извлек наибольшую выгоду из тарифа, очевидно, не смогли внести достаточную лепту. «Возможно ли, – спросил он Хэя, – что наши республиканские промышленники, получив куш, отказались от него? Если да, то они поймают его». Впервые с 1856 года демократы контролировали все три ветви власти.[1817]1817
Mayer, 231–38; H. Adams to John Hay, Nov. 12, 1892, in The Letters of Henry Adams, 4: 78–79; Gould, 112–13; Edward T. O’Donnell, Henry George and the Crisis ofInequality: Progress and Poverty in the Gilded Age (New York: Columbia University Press, 2015), 277–78; Sanders, 135; Hoogenboom, 525; Williams, Years of Decision 68.
[Закрыть]
Уильям Дин Хоуэллс также не был впечатлен ни одной из основных партий или кандидатов. Он писал своему отцу, что «Республиканская партия – это ложь, порочащая ее прошлое. Она ничего не обещает в плане экономических и социальных реформ и лишь менее коррумпирована, чем негодяйская демократия. Единственная живая и честная партия – это Народная партия».[1818]1818
W. D. Howells to W. C. Howells, Nov. 6, 1892, in William Dean Howells, Selected Letters, ed. George Warren Arms (Boston: Twayne, 1979), 4: 29.
[Закрыть]
Популисты не смогли преодолеть политическую демографию страны. Большая часть населения страны, 62,5% избирательного возраста, проживала за пределами Запада, Юга и западной части Средней полосы. Когда демократы отразили угрозу популистов на Юге, у партии не осталось надежды. Они получили всего 8,5% голосов избирателей.
Будучи региональной партией, сосредоточенной на Западе и Юге, популисты не имели значительной привлекательности для рабочих-иммигрантов на Северо-Востоке и Среднем Западе. Они даже не смогли привлечь Генри Джорджа, чья приверженность свободной торговле заставила его участвовать в кампании Кливленда в 1888 году и поддержать его снова, к неудобству Кливленда, в 1892 году. Джордж надеялся, что с исчезновением доходов от тарифов правительство перейдет к единому налогу. Популисты часто объединялись с демократами-антимонополистами на Западе и Средней границе, предлагая совместные билеты, которые позволяли им провести обычно республиканские штаты Канзас, Колорадо и Невада, а также новые штаты Айдахо и Северная Дакота. В штатах Скалистых гор программа реформ популистов имела меньшее значение, чем мощный серебряный вопрос.[1819]1819
Paul Kleppner, The Third Electoral System, 299, 302–4; Kleppner, Continuity and Change in Electoral Politics, 1893–1928, 59–63; Goodwyn, 317–20; Christopher William England, «Land and Liberty: Генри Джордж, движение за единый налог и истоки либерализма XX века» (докторская диссертация, Джорджтаунский университет, 2015), 136–40; Ostler, 6–11.
[Закрыть]
Популизм никогда не становился синонимом антимонополизма. Фермеры Южного альянса оставались антимонополистами, даже если сохраняли лояльность демократам. Способность антимонополистов захватить устоявшиеся партии в Айове, Миннесоте и Висконсине работала против популизма. Зачем ставить под угрозу эти завоевания, чтобы присоединиться к новой общенациональной партии? Популистам было легче всего привлечь избирателей в тех штатах, где консервативные республиканцы блокировали реформы.[1820]1820
Остлер, 6–11.
[Закрыть]
Триумф демократов на выборах 1892 года оказался обманчивым. Их общее количество голосов снизилось по сравнению с максимумом 1890 года; республиканцы увеличили свой процент народного голосования по всему Северу. Преимущество демократов в штатах Среднего Запада – Иллинойсе, Индиане, Висконсине и Миссури – сократилось с 2,2 до 0,7 процента голосов. Проигрыш республиканцев популистам на Западе затмил жалкие результаты Кливленда в этих районах, хотя демократы, похоже, специально позволили своим избирателям проголосовать за Уивера, чтобы ослабить Харрисона. Даже в Канзасе, очаге возгорания Народной партии, у республиканцев был повод для оптимизма. Большинство голосов за популистский билет в Канзасе составило всего 5000 голосов из 320 000, что свидетельствует о том, что протест популистов легче вызвать, чем поддержать.[1821]1821
Kleppner, Continuity and Change in Electoral Politics, 1893–1928, 59–62; Klinghard, 178; Goodwyn, 317–20; Kleppner, The Third Electoral System, 1853–1892, 299, 302–3.
[Закрыть]
Хоумстед и другие забастовки 1892 года, рост линчевания и Джима Кроу, дикие колебания политического маятника, намекающие на растерянность и отчаяние электората, и преамбула Популистской платформы – все это указывало на антиутопические опасения, которые легли в основу видения Беллами и Стронга. Но утопические мечты также обретали форму.
Чикаго Кэрри Мибер начал подготовку к Колумбийской выставке, приуроченной к четырехсотлетию прибытия Колумба в Новый Свет в 1889 году, еще до того, как Конгресс в 1890 году сделал город официальным местом проведения праздника. Публичное открытие экспозиции состоялось в День Колумба, 12 октября 1892 года. Фрэнсис Беллами, священник, христианский социалист, двоюродный брат Эдварда Беллами и редактор журнала Youth’s Companion, предложил сделать День Колумба национальным праздником (что произошло только в 1930-х годах). В честь праздника и ярмарки он сочинил Клятву верности флагу Соединенных Штатов и «Республике, за которую он стоит». Его первоначальная версия не содержала фразы «под Богом», которая была добавлена в 1950-х годах. Сама экспозиция открылась только в 1893 году и продлилась 184 дня, но подготовка к ней уже вызвала строительный бум в Чикаго. И ярмарка, и бум оказались вплетены в классовые противоречия в стране. Сотрудничество между чикагскими капиталистами и профсоюзами завязалось из-за того, что не удалось добиться восьмичасового дня, профсоюзного труда и минимальной заработной платы. Прибытие туристов дало Чикаго второй экономический толчок. Во время ярмарки железные дороги перевезли в Чикаго тридцать пять миллионов пассажиров; компания Pullman Palace Car Company процветала за счет продажи новых вагонов железным дорогам. Более двадцати семи миллионов человек посетили Белый город, сверкающий массив воды, алебастровые здания – большинство из которых были временными и состояли из стальных каркасов, покрытых смесью джута и гипса, и электрических огней. Вдоль озера Мичиган светилось около 120 000 ламп накаливания и 7000 дуговых ламп.[1822]1822
Кевин М. Крузе, Одна нация под Богом: How Corporate America Invented Christian America (New York: Basic Books, 2015), 100–101; Stanley Buder, Pullman: An Experiment in Industrial Order and Community Planning, 1880–1930 (New York: Oxford University Press, 1967), 147–49; Wim de Wit, «Building an Illusion», in Wim de Wit, James Gilbert, Robert W. Rydell, Neil Harris, and Chicago Historical Society, Grand Illusions: Chicago’s World’s Fair of 1893 (Chicago: Chicago Historical Society, 1993), 110; Robert W. Rydell, All the World’s a Fair: Visions of Empire at American International Expositions, 1876–1916 (Chicago: University of Chicago Press, 1984), 40, 46; Richard Schneirov, Labor and Urban Politics: Class Conflict and the Origins of Modern Liberalism in Chicago, 1864–97 (Urbana: University of Illinois Press, 1998), 284–88, 332–33.
[Закрыть]
Все это было делом экспозиции, но Чикаго, который за шестьдесят лет превратился из деревни потаватоми в город-миллионник, хотел продемонстрировать ярмаркой, что он больше, чем просто торговый город, и что американский прогресс – это нечто большее, чем богатство. Город надеялся превзойти Парижскую выставку 1889 года, произвести впечатление и заставить замолчать Нью-Йорк, жители которого утверждали, что Чикагская ярмарка может быть только провинциальной, ярмаркой разросшегося округа. Однородный дизайн в стиле Beaux Arts должен был подчеркнуть единство нации через поколение после Гражданской войны и гармонию все более разнообразного населения. Это был не тот урок, который надолго ассоциировался у людей с Чикаго.[1823]1823
Уильям Кронон, Метрополис природы: Chicago and the Great West (New York: Norton, 1991), 341–42; Wim de Wit, «Building an Illusion», 43–47, 51, 58; Rydell, 68.
[Закрыть]
Белый город в стиле изящных искусств, способствовавший возникновению движения «Красивый город» в начале XX века, вызвал отвращение у Луиса Салливана, который много сделал для создания самой инновационной архитектуры Чикаго и любил его мужественную жизнеспособность. Салливан спроектировал здание транспорта, которое отличалось от неоклассического дизайна Двора почета и исторического воссоздания большей части остальной эстетики ярмарки. Салливан считал, что ущерб, нанесенный ярмаркой американской архитектуре, «будет длиться полвека с момента ее проведения, если не дольше. Она глубоко проникла в конституцию американского сознания, вызвав там значительные очаги слабоумия».[1824]1824
Нил Харрис, «Память и Белый город», в Вим де Вит, Джеймс Гилберт, Роберт В. Райделл, Нил Харрис и Чикагское историческое общество, Великие иллюзии: Chicago’s World’s Fair of 1893 (Chicago: Chicago Historical Society, 1993), 3–32, цитата 15.
[Закрыть]
Чикагские светские женщины играли важную роль в экспозиции, но они действовали под эгидой мужчин и преобладающих форм домашнего поведения. Берта Палмер, жена владельца чикагского дома Palmer House, возглавила Совет женщин-менеджеров, назначенный мужчинами-директорами экспозиции. Сьюзен Б. Энтони протестовала. Она не хотела видеть женщин в отдельном совете, назначенном мужчинами, но Фрэнсис Уиллард из WCTU согласилась войти в совет, а Палмер, чтобы нейтрализовать критиков, организовала Конгресс представительниц женщин, который должен был собраться на ярмарке. Уиллард, больная и оплакивающая смерть матери, стремилась поправить свое здоровье в Европе. Она все больше и больше занималась международной деятельностью и практически не присутствовала на ярмарке. На съезде выступили Сьюзен Б. Энтони, Люси Стоун, Элизабет Кэди Стэнтон, а также Джейн Аддамс.[1825]1825
Tyrrell, 2–64, passim; Knight, 270–71; Robert Rydell, «A Cultural Frankenstein? The Chicago World’s Columbian Exposition of 1893», in de Wit et al., 151–57; Anna Gordon, Apr. 18, May 17, and May 22, 1893, and see also Willard, Aug. 5, Aug. 6, Sep. 9, Sep. 25, 1893, in Frances E. Willard, Writing out My Heart: Selections from the Journal of Frances E. Willard, 1855, ed. Carolyn De Swarte Gifford (Urbana: University of Illinois Press, 1995), 372–73.
[Закрыть]
Критики рассматривали Женское здание как символ маргинализации женщин. Возведенное на границе между Белым городом и площадью Мидуэй, здание, казалось, обозначало женщин как не совсем часть Белого города. В центре площади находилось колесо инженера Джорджа Ферриса – аналог Эйфелевой башни на Парижской ярмарке, – которое поднимало посетителей на 260 футов над землей. Колесо Ферриса символизировало современность, но на площади длиной почти в милю и шириной в шестьсот ярдов были представлены и те народы, которые американцы считали примитивными. Здесь, как писал Хоуэллс, были «самоанец или дагомеянин в своей хижине, бедуин и лапландцы в своих лагерях, нежный яванец в своем бамбуковом домике, [и] американский индеец в своем вигваме». Экспозиция «Детские расы» мира имитировали одну из самых популярных частей Парижской ярмарки. Экспонаты стремились быть этнологическими, воплощая социальную эволюцию и демонстрируя, как далеко продвинулись Соединенные Штаты со времен открытия Колумбом Нового Света.[1826]1826
Письмо 2, Уильям Дин Хоуэллс, «Письма альтрурийского путешественника, 1893–94», Cosmopolitan 16 (1893): 20–27; Rydell, «A Cultural Frankenstein?» 157; Rydell, All the World’s a Fair, 40–43, 49–50, 55–58, 60, 63–68.
[Закрыть]

Колесо обозрения на Колумбийской выставке 1893 года стало американским ответом на Эйфелеву башню, построенную к Парижской выставке 1889 года. Оно стало самым высоким сооружением выставки и ее главной достопримечательностью. Из книги C. D. Arnold, Official Views of the World’s Columbian Exposition (1893).
Ида Б. Уэллс опубликовала небольшую книгу «Причина отсутствия цветных американцев на Всемирной Колумбийской выставке: Афроамериканский вклад в Колумбийскую выставку», в которой рассказывалось об отсутствии чернокожих американцев. Она написала большую часть книги, но Фредерик Дугласс написал к ней предисловие. Дуглас писал, что чернокожие американцы могли бы многое отметить в своем собственном прогрессе за последние сорок лет, но они обязаны, провозглашал он, восходя к своему прежнему красноречию, «открыто говорить о несправедливостях и бесчинствах, которые они терпят, и о правах, которые им не предоставляются, и предоставляются в вопиющем противоречии с хваленой американской республиканской свободой и цивилизацией». Дух американского рабства все еще преследовал нацию.
Хотя «американцы – великий и великодушный народ, и это великое изложение значительно повышает их честь и славу… в гордыне своего успеха у них есть причины для раскаяния, а также для похвалы, для стыда, а также для славы, и поэтому мы посылаем этот том, чтобы его прочитали все люди». Далее Уэллс рассказал о классовом законодательстве, лишавшем чернокожих номинальных прав, о системе аренды каторжников и о линчевании. «За первые шесть месяцев этого года (1893) в цивилизованной Америке были заживо сожжены три человека», – писал Уэллс. «За эти полгода было линчевано более ста человек. Их вешали, потом резали, стреляли и сжигали». Она оставила другим возможность подробно описать достижения и прогресс чернокожих.[1827]1827
Giddings, 268–80; Christopher Robert Reed, All the World Is Here! The Black Presence at White City (Bloomington: Indiana University Press, 2000), 20–23, 26–31; Thomas C. Holt, Children of Fire: История афроамериканцев (Нью-Йорк: Hill and Wang, 2010), 194–96; Ида Б. Уэллс-Барнетт, ред. The Reason Why the Colored American Is Not in the World’s Columbian Exposition: The Afro-American’s Contribution to Columbian Literature (Urbana: University of Illinois Press, 1999; reprint, 1999), 185; William McFeely, Frederick Douglass (New York: W.W. Norton, 1991), 367–69.
[Закрыть]
Книга помогла вдохновить на проведение «Дня цветных американцев» на выставке, что предсказуемо разделило чернокожее сообщество. Дуглас понимал ограниченность признания со стороны ярмарки, но, тем не менее, считал это возможностью. Его единственной официальной должностью на ярмарке была должность менеджера гаитянского павильона. Он произнес речь. Уэллс считала «День цветного населения» снисходительным и недостаточным. Она выступила за бойкот, но позже извинилась перед Дугласом, чья речь подверглась овациям со стороны белых.[1828]1828
Rydell, All the World’s a Fair, 52–53; Reed, 30–33, 133–39; McFeely, Douglass, 371–72.
[Закрыть]
Критики ярмарки оказались на задворках. Для основной массы посетителей выставки протесты не мешали ни их посещению, ни их удовольствию; Чикаго добился впечатляющего успеха. Генри Адамса при первом посещении ярмарки поразило именно то, что должно было поразить: речь шла не только о бизнесе. Адамс был человеком, уверенным в том, что знает свое поколение и его пределы. Он отчаивался в неспособности своего возраста «подняться до создания нового искусства или оценить старое», но в Чикаго он увидел и то, и другое и «на мгновение был ошеломлен шоком». Люди, которых, как ему казалось, он хорошо знал, превзошли самих себя. Знаменитый ландшафтный архитектор Фредерик Лоу Олмстед спроектировал ярмарочную площадь, а среди архитекторов были Ричард Моррис Хант, Чарльз Макким и Стэнфорд Уайт, лидеры движения за привитие имперской классической архитектуры к американскому дизайну. Одним из художников был скульптор Огастус Сен-Годенс. Дэниел Х. Бернхэм, чикагский архитектор и градостроитель, курировал весь проект. Чикаго потратил миллионы, «чтобы создать нечто, что греки могли бы с удовольствием увидеть, а Венеция – позавидовать, но что, конечно, не было бизнесом». Показательно, что признаком американского величия станет его успех в подражании европейскому искусству.[1829]1829
Wim de Wit, «Building an Illusion», in de Wit et al., 43–47, 51, 58; H. Adams to Franklin MacVeagh, May 26, 1893, in The Letters of Henry Adams, 4: 102–4.
[Закрыть]
Во время своего второго визита на ярмарку в сентябре вместе с братьями и их семьями Адамс смеялся над «безумием времени». Наступила паника 1893 года, и его братьям, сильно пострадавшим, пришлось брать кредиты, чтобы остаться на плаву. Не только антисемитизм заставлял Адамса удивляться «сумасшедшему золотоискателю» и добровольно помогать, если «Ротшильд или Харкорт по неосторожности окажутся повешенными на фонарном столбе». Консервативный в своих инвестициях, он в основном избежал кризиса, но он «в итоге сделал меня плоскостопым популистом и сторонником фиатных денег». На ярмарке он отошел от финансовой паники и занял более отстраненную позицию, «озадаченный тем, чтобы понять окончательное впечатление, оставленное на средний разум невежественных богачей и умных бедняков». Очарованный «самыми низкими подделками Мидуэя… фейерверками и электрическими фонтанами» и восхищенный колесом обозрения, он утверждал, что не понимает «поразительной, запутанной, обескураживающей массы искусства и промышленности», но считал, что она отражает «тот же хаос в моем собственном сознании». Он считал, что посетители ярмарки получат образование, хотя «об образовании я мало что знаю… но от развлечений отказываться не стоит».[1830]1830
Эдвард Чалфант, Улучшение мира: A Biography of Henry Adams, His Last Life, 1891–1918 (North Haven, CT: Archon Books, 2001), 40–43; H. Adams to W. MacVeagh, Sep. 6, 1893, H. Adams to J. Hay, Sep. 8, 1893, H. Adams to Elizabeth Cameron, Oct. 8, 1893, and H. Adams to Lucy Baxter, Oct. 18, 1893, in The Letters of Henry Adams, 4: 124–25, 4: 131–33; The Education of Henry Adams: An Autobiography (New York: Heritage Press, 1942, ориг. изд. 1918), 320.
[Закрыть]
Адамс бродил по территории ярмарки площадью почти две квадратные мили: песчаные дюны и болота, превращенные в твердую землю, перемежались с озерами и лагунами, где стояли фальшивые венецианские гондолы и настоящие венецианские гондольеры (хотя Хоуэллс жаловался, что они были одеты, как в опере). Американцы предавались своему энтузиазму по превращению еды в скульптуру. Здесь была копия Венеры Милосской, сделанная из шоколада, и статуя лошади и всадника, сделанная из чернослива. Адамс слишком поздно приехал на августовский бал «Чудаков Мидуэя». В своем «Образовании» он вспоминал, что ярмарка вдохновила его на то, чтобы «впервые спросить, знает ли американский народ, куда он едет». Адамс, конечно, не знал, и он «решил, что американский народ, вероятно, знает не больше, чем он», но поклялся выяснить это. «Чикаго был первым выражением американской мысли как единства; нужно начинать оттуда».[1831]1831
Adams, Education, 320; Louis S. Warren, Buffalo Bill’s America: William Cody and the Wild West Show (New York: Knopf, 2005), 419–20.
[Закрыть]
Хоуэллс также посетил ярмарку в сентябре. Болезнь задержала его поездку; он пропустил литературный конгресс, еще один из созывов выставки. Когда он все-таки приехал, то остановился у Бернхэма, организатора экспозиции. На ярмарке он и его семья были «в восторге и отчаянии». В интервью газете New York Sun он нехарактерно воскликнул: «Никогда не было и, возможно, никогда больше не будет ничего столь прекрасного». Он считал ярмарку «результатом социалистического импульса», под которым он подразумевал скорее общество, чем личность, и сотрудничество, а не эгоизм. «Здесь не было скупой конкуренции, – говорил он, – а было стремление к самому высокому и лучшему». Общественный дух Чикаго произвел на него впечатление. Хоуэллс был в восторге от того, что демократия дала искусству «такой же хороший шанс, как и в любой деспотии».[1832]1832
«Mr. Howells Sees the Fair», New York Sun, Oct. 22, 1893, 9; W. D. Howells to E. Howells, Sep. 20, 1893, in Howells, Selected Letters, 4: 51, note 3; Cronon, 341–42.
[Закрыть]
Экспозиция была всемирной ярмаркой с широким представительством зарубежных стран, но американские посетители воспринимали ее как свою собственную, и это чувство Хоуэллс мягко высмеял в своих «Письмах альтрурийского путешественника». По мнению его вымышленного путешественника, этот город был маленьким кусочком столь же вымышленной Альтрурии и противоположностью «эгоистической цивилизации», примером которой является Нью-Йорк. Он был построен ради искусства, а не ради денег; он был кооперативным, а не индивидуалистическим; его подстегивала щедрость, а не эгоизм. Он был неамериканским в том, что выражал дизайн, хотя и очень американским в скорости и масштабах своего строительства.[1833]1833
W. D. Howells to Elinor Howells, Sep. 20, 1893, in Howells, Selected Letters, 4: 50–51; Letter 2, «Letters of an Altrurian Traveller, 1893–94», 20–27; Rydell, «A Cultural Frankenstein?». 157.
[Закрыть]
Темы экспозиции – искусство, расы и образование – вышли за пределы ярмарки и даже за ее пределы. Рядом с ярмарочным комплексом расположился Дикий Запад Буффало Билла. Его основной темой оставалось расовое завоевание. Как и сотни железнодорожных цирков, с которыми конкурировал «Дикий Запад», Буффало Билл выставлял экзотические народы в качестве развлечения. В 1893 году «Дикий Запад» продал три миллиона билетов.[1834]1834
Уоррен, 418.
[Закрыть]
В июле 1893 года новая Американская историческая ассоциация собралась на Всемирный конгресс историков; ее вице-президент Генри Адамс был в командировке в Европе. Молодой профессор истории Висконсинского университета Фредерик Джексон Тернер представил доклад «Значение фронтира в американской истории», который в то время остался практически незамеченным. Он обозначил «завершение великого исторического момента», конец американского фронтира, и в этом он не сильно отличался от Баффало Билла. Их основное различие заключалось в том, что Буффало Билл обозначил американское домоводство на Западе как насильственное завоевание, в то время как Тернер утверждал, что это было в основном мирное движение.[1835]1835
Ричард Уайт, Фронтир в американской культуре: Выставка в библиотеке Ньюберри, 26 августа 1994 – 7 января 1995, ред. Патриция Нельсон Лимерик и Джеймс Р. Гроссман (Беркли: Издательство Калифорнийского университета, 1994), 25–27.
[Закрыть]
Тернер усилил тему прогресса в экспозиции, но парадоксальным образом. Соединенные Штаты достигли своего расцвета, показанного в «Белом городе», отступая к примитиву на сменяющих друг друга границах. Чикаго когда-то был границей, и его трансформация воплотила в себе версию американской истории, предложенную Тернером. Тернер, как и Кларенс Кинг, переключил внимание американцев с Гражданской войны на вестернизацию как формирующий американский опыт. Он апеллировал не столько к доказательствам, которых у него было немного, сколько к набору историй, подобных тем, что запечатлены в кружках Среднего Запада, запечатлевших прогресс как отдельных людей, так и всей нации в путешествиях от бревенчатых хижин до готовых ферм. Под видом новой интерпретации он укрепил существующие истории.[1836]1836
Там же, 24–27.
[Закрыть]
Домашнее хозяйство Тернера и насилие Буффало Билла призваны отделить Соединенные Штаты от европейских империй, с которыми американцы все еще сравнивали себя. На границе Тернера индейцы не столько отсутствовали, сколько были периферийными; они не играли центральной роли в истории. В качестве отступления он говорил об индейцах как об «общей опасности», которая сохраняет «силу сопротивления агрессии». Он ожидал, что его аудитория, как и он сам, будет считать, что в битве за континент индейцы были агрессорами. Буффало Билл сделал явным то, что Тернер оставил неявным. Он представил перевернутую историю завоевания, полную индейских убийц и белых жертв. На Диком Западе индейцы нападали на хижину поселенца, на поезд эмигрантов, на почтовую карету в Дедвуде и на Кастера. Белые просто защищались и, защищаясь, каким-то образом сумели завоевать континент.[1837]1837
Там же, 26–27.
[Закрыть]
В ноябре 1893 года, через шесть месяцев после открытия, ярмарка и Белый город закрылись. В книге Хоуэллса «Письма альтрурийского путешественника» один из посетителей – бостонский банкир – задавался вопросом: «Что будет со всеми беднягами, которые участвуют в управлении Прекрасным городом, когда им придется вернуться на землю?». Вымышленный банкир оказался более прав, чем предполагал Хоуэллс, когда предвидел трудности для рабочих. Им предстояло перейти от утопии к антиутопии.[1838]1838
Хоуэллс, «Письма альтрурийского путешественника, 1893–94», 231.
[Закрыть]
Когда ярмарка закрылась, ее работники слились с рабочими, которые съехались в Чикаго, чтобы присоединиться к местным мастерам на ее строительстве, и с ежегодной миграцией бродяг, кочующих рабочих, которые зимовали в городе. Работы не было. К концу августа десять тысяч человек явились просить работу на скотобойнях. Картер Харрисон, переизбранный на пятый срок на пост мэра, знал о назревающем кризисе. После Хеймаркета он восстановил свои связи с рабочим движением Чикаго. Он организовал трудоустройство сотен людей на Чикагском судоходном и санитарном канале, что стало частью попытки Чикаго смягчить продолжающийся экологический кризис. Но этого оказалось недостаточно. К концу сентября половина рабочих строительных профессий осталась без работы. В последний специальный день ярмарки, 28 октября, Харрисон был убит недовольным соискателем должности.[1839]1839
Knight, 284–85; Dominic A. Pacyga, Chicago: A Biography (Chicago: University of Chicago Press, 2009), 143; Schneirov, 332–33.
[Закрыть]
И политики, и простые американцы с трудом осмысливали происходящие в стране перемены. Они мыслили привычными категориями и проблемами, а значит, фильтровали их через дом и связанные с ним понятия мужественности и женственности. Дом оставался самым емким из американских институтов и ценностей. Джейкоб Рийс изобразил доходные дома как убийство дома. Молодые женщины, такие как Джейн Аддамс, создавали поселенческие дома среди иммигрантов, чтобы создать образцовые дома. Белые южане оправдывали линчевания, которые стали ужасающей нормой в этом регионе, защитой женщин и дома. Северяне беспокоились об одиноких женщинах как о разрушительницах и жертвах, которые никогда не достигнут своей «естественной» цели – создания дома. Дом оставался гравитационным центром американского мышления.
Никогда еще дом не казался таким опасным.