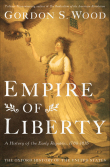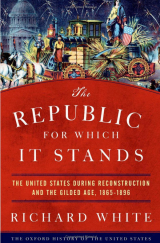
Текст книги "Республика, которую он защищает. Соединенные Штаты в период Реконструкции и Позолоченного века, 1865-1896 (ЛП)"
Автор книги: Ричард Уайт
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 41 (всего у книги 80 страниц)
Как и Хоуэллс, Генри Джордж совершил путешествие в Европу в 1882 году. Когда в 1879 году Джордж опубликовал свою чрезвычайно влиятельную книгу «Прогресс и бедность», он задал простой вопрос: Почему «огромный рост способности производить богатство» не сделал «настоящую бедность уделом прошлого»? Вместо этого «со всех концов цивилизованного мира приходят жалобы на промышленную депрессию; на то, что труд обречен на вынужденное безделье; на то, что капитал накапливается и растрачивается; на денежные затруднения среди деловых людей; на нужду, страдания и беспокойство среди рабочих классов». Джордж утверждал, что там, где «население наиболее плотное, богатство наибольшее, а машины производства и обмена наиболее высокоразвиты, мы находим самую глубокую нищету, самую острую борьбу за существование и самую вынужденную праздность». Затем на протяжении еще более пятисот страниц Джордж анализировал проблему.[1079]1079
Генри Джордж, «Прогресс и бедность» (Нью-Йорк: Фонд Роберта Шалкенбаха, 1942, изд. 1879 г.), 3, 5, 6.
[Закрыть]
Джордж утверждал, что существующие дебаты зациклились на выборе между двумя необоснованными позициями. Радикалы утверждали, что существование огромной бедности наряду с огромными скоплениями капитала означает «агрессию капитала против труда». Защитники зарождающегося индустриального порядка утверждали, что капитал помогает труду и делает его более продуктивным. Они не видели ничего несправедливого в огромных различиях в богатстве; оно было «лишь наградой за промышленность, ум и бережливость, а бедность – наказанием за леность, невежество и неосмотрительность».[1080]1080
Там же, 194.
[Закрыть]
Джордж изменил ход дискуссии. Его ответ на собственный вопрос позволил ему восхвалять капиталистов, требуя при этом столь радикальных реформ, что его враги осудили его как социалиста. Он им не был, хотя и мог восхвалять идеалы социализма. Джон Дьюи, получивший степень доктора философии в Университете Джона Хопкинса в 1884 году и ставший еще одним из молодых интеллектуалов и социальных реформаторов, бросивших вызов старым догматам либерализма, считал, что труды Джорджа, вероятно, разошлись в Америке большим тиражом, «чем почти все остальные книги по политической экономии, вместе взятые». Дьюи считал его одним из относительно немногих оригинальных социальных философов, созданных миром. Хотя корни Джорджа были либеральными, он приводил в ярость ортодоксальных либералов. Книга «Прогресс и нищета» была последовательной атакой на Томаса Мальтуса и идею о неизбежности массовой нищеты, поскольку растущее население давит на скудные ресурсы.[1081]1081
Там же, 91, 99–100, 480–81; Sklansky, 112–16, 119–24; Tamara Venit Shelton, A Squatter’s Republic: Land and the Politics of Monopoly in California and the Nation, 1850–1900 (Berkeley: University of California Press, 2013), 75–76, 88–96; самое последнее исследование о Джордже см. в Edward T. O’Donnell, Henry George and the Crisis of Inequality: Progress and Poverty in the Gilded Age (New York: Columbia University Press, 2015), особенно 42–63; Edward J. Rose, Henry George (New York: Twayne, 1968), 63, 65–73.
[Закрыть]
В основе аргументов Джорджа лежало новое определение капитала и воскрешение старой либеральной враждебности к земельной аристократии. Вместо того чтобы делить мир на труд и капитал, Джордж разделил его на землю и труд. Под землей он понимал «все природные возможности или силы», включая уголь, минералы, нефть и любые другие природные ресурсы, существующие отдельно от человеческого труда. Говоря о городской земле, он имел в виду пространство. Под трудом он подразумевал «все человеческие усилия». Труд и капитал – законсервированные проявления труда – были «различными формами одного и того же – человеческого усилия». Оба они были социальными, вытекающими из отношений обмена и потребления.[1082]1082
Кристофер Уильям Ингленд, «Земля и свобода: Henry George, the Single Tax Movement, and the Origins of 20th Century Liberalism» (Ph.D. diss., Georgetown University, 2015), 8, 64, 76–77; John L. Thomas, Alternative America: Henry George, Edward Bellamy, Henry Demarest Lloyd and the Adversary Tradition (Cambridge, MA: Belknap Press, 1983), 58–82, 102–30, 173–201; Sklansky, 123–24; Shelton, 100–101; George, Progress and Poverty 162, 198.
[Закрыть]
Соединив капитал и труд, Джордж не видел между ними неизбежного конфликта. Он считал капиталистов полезными, а прибыль на капитал – оправданной. Он выступал против забастовок и подоходного налога, но осуждал монополию, которая представляла собой капитал в больших массах и «часто использовалась для развращения, грабежа и разрушения». Монополия вытекала из гораздо более фундаментальной проблемы: собственности на землю, которая была «источником всех богатств и… полем всего труда».[1083]1083
Англия, 3–4; Джордж, Прогресс и бедность, 188–89, 191–93; Роуз, 75.
[Закрыть]
Не считая землю и природные ресурсы капиталом, Джордж отличался от большинства экономистов, как тогда, так и сейчас, которые понимали под капиталом, как резюмировал экономист XXI века Томас Пикетти, все «нечеловеческие активы, которыми можно владеть и обмениваться на каком-либо рынке». Согласно этому определению, капитал состоял из всех экономических активов, кроме человеческого труда, если только человеческий труд не находился в собственности, покупался и продавался как раб. Капитал мог не только увеличиваться или уменьшаться в количестве, но и меняться в натуральном выражении. Одним из главных последствий индустриализации стало то, что сельскохозяйственные земли, хотя и сохраняли свою значимость, составляли все меньшую часть капитала, в то время как здания – как фабрики, так и жилье в новых городах – другие объекты инфраструктуры и финансовые инструменты, в частности облигации, стали более ценными, чем земля, примерно к 1880 году.[1084]1084
Томас Пикетти, Капитал в двадцать первом веке, перевод. Arthur Goldhammer (Cambridge, MA: Belknap Press, Harvard University Press, 2014), 46–47, 116–17, 160.
[Закрыть]
В более привычных экономических терминах Джордж хотел отменить налог на труд и оборотный капитал – дома и фабрики, домашний скот, машины, – в то время как земля и ресурсы, такие как уголь, нефть, леса и полезные ископаемые, облагались высоким налогом. Джордж считал собственность на землю корнем всех зол, потому что она всегда будет порождать «собственность людей», которым для жизни нужен доступ к земле и ресурсам. Без доступа к земле и ресурсам «номинально свободные работники вынуждены, конкурируя друг с другом, отдавать в аренду все, что они зарабатывают сверх прожиточного минимума, или продавать свой труд за зарплату, которая дает им прожиточный минимум». Это, по его мнению, и есть рабство, которое он определял как «принуждение людей к труду, но при этом отбирание у них всего продукта их труда, кроме того, что хватает на пропитание». Свои реформы он связывал с борьбой против рабства: «Если несправедливо рабство, то несправедлива и частная собственность на землю». Джордж не выступал за покупку или конфискацию земли государством; он просто организовал бы налоговую систему «для конфискации ренты» – незаработанного дохода, получаемого от владения землей.[1085]1085
Sklansky, 115–16; George, Progress and Poverty 190, 328–29, 347, 405–6, 413–14, 425, 438–40.
[Закрыть]
Джордж утверждал, что в отличие от всех других форм капитала – машин, заводов и зданий – земля не обесценивается и не теряет своей полезности. Рост численности населения только повышает ее стоимость без каких-либо трудовых затрат со стороны владельцев. Те, кто владел землей, получали незаработанный прирост в виде ее арендной стоимости; в идеале государство должно было владеть всей землей и сдавать ее в аренду гражданам по мере необходимости. Но поскольку большинство земель уже находилось в частной собственности, он предложил ввести единый налог, который оценивал бы землевладельцев в размере арендной стоимости их земли за вычетом улучшений. Налог устанавливался по таким ставкам, чтобы заставить тех, кто держит землю или другие ресурсы для спекуляций или удовольствия, продать их тем, кто вложит их в производство. Это был налог по принципу «используй или потеряешь». Все остальные налоги были бы отменены. Улучшения не облагались бы налогом, так что действующая ферма облагалась бы только «стоимостью пустой земли». В результате произойдет перераспределение богатства, поскольку и капитал, и труд получат доступ к производственным ресурсам. Реформа ликвидировала бы «опасные классы», которыми были «очень богатые и очень бедные».[1086]1086
Англия, 3–5, 25–29; Склански, 115–16; Джордж, Прогресс и бедность, 405–6, 413–14,425, 438–40, 447–53.
[Закрыть]

Этот рекламный щит отражает аргумент Генри Джорджа о том, что американская экономика вознаграждает спекуляции с ресурсами – землей, минералами и другими природными богатствами, – которые должны быть доступны тем, кто готов их использовать, при этом облагая налогом труд и производительную собственность. Стоимость участка росла, даже если его владелец ничего не делал для его улучшения. Джордж предлагал ввести единый налог, который бы в значительной степени облагал неосвоенные ресурсы, находящиеся в частной собственности. Электронные коллекции Нью-Йоркской публичной библиотеки. ID 1160280.
Джордж апеллировал к мелиоративному и оптимистическому духу, который питал либеральные и евангелические реформы до Гражданской войны, но он также связывал американские реформы с транснациональной земельной реформой, особенно в Великобритании и Британской империи. Бедность, утверждал Джордж, не является медленной сортировкой пригодных и непригодных или результатом моральных недостатков бедняков. Вполне конкретные и поддающиеся изменению человеческие причины порождают порок и несчастье: «невежество и алчность, … плохое правительство, несправедливые законы или разрушительные войны». Учитывая возможности Земли, провозглашал он, «Земля в целом еще очень мало населена».[1087]1087
Дэвид Томас Брундадж, Ирландские националисты в Америке: The Politics of Exile, 1798–1998 (New York: Oxford University Press, 2016), 114–16, 125–26; George, Progress and Poverty 106, 110.
[Закрыть]
Книга «Прогресс и бедность» нашла отклик как в старой идеологии свободного труда, так и в зарождающемся антимонополизме. Проза Джорджа колебалась между педантизмом и афоризмом, но когда риторика взлетала вверх, она улавливала время: «Разве это легко, что труд должен быть лишен своего заработка, в то время как жадность накапливает богатство?». Если следовать его рецепту, писал Джордж, «общество… приблизится к идеалу джефферсоновской демократии, к земле обетованной Герберта Спенсера, к отмене правительства. Но правительства только как направляющей и репрессивной силы. В то же время, и в той же степени, для него станет возможным осуществить мечту о социализме». Он рассматривал свою программу как логическое продолжение и поощрение прежней Америки. В аргументации, предвосхитившей Фредерика Джексона Тернера, Джордж объяснял превосходство существующих американских «условий и институтов» обилием, дешевизной и плодородностью земли, открытой для иммигрантов. Но «республика вступила в новую эру, эру, в которой монополия на землю будет проявляться с ускоряющимся эффектом».[1088]1088
Англия, 71; Джордж, Прогресс и бедность, 77, 390–91, 455–56, 495, 507–8, 514, 517, 551.
[Закрыть]
Утверждение, что старые американские условия исчезают, а вместе с ними и лучшие черты американского общества, лежало в основе антимонополизма, и это придавало Прогрессу и Бедности силу. Страна не могла ни идти назад, ни продолжать жить по-старому. Джордж соизмерял свой оптимизм по поводу возможности перемен с надвигающейся катастрофой. Если ничего не предпринять, чтобы замедлить «тенденцию к неравному распределению богатства и власти», то склонность «богатых становиться еще богаче, бедных – еще беспомощнее и безнадежнее, а среднего класса – вытесняться» приведет Америку к упадку. «Трансформация народного правительства самого мерзкого и унизительного вида, которая неизбежно должна произойти в результате неравного распределения богатства, – это не дело будущего. Она уже началась в Соединенных Штатах и быстро происходит на наших глазах».[1089]1089
Джордж, Прогресс и бедность, 528, 533.
[Закрыть]
Послание Джорджа нашло отклик в иммигрантской рабочей прессе. В 1877 году газета New York Labor Standard, которую редактировал ирландский социалист, сетовала: «Было время, когда Соединенные Штаты были страной рабочих, …землей обетованной для рабочих… Теперь мы живем в старой стране». Почти десятилетие спустя Детройтский Рабочий Листок использовал почти такие же слова: «Раньше Америка была землей обещаний для бедных… Золотой век действительно закончился – на его место пришел железный век. Железный закон необходимости занял место золотого правила».[1090]1090
Герберт Г. Гутман, «Работа, культура и общество в индустриализирующейся Америке, 1815–1919», Американское историческое обозрение 78, нет. 3 (1973): 568.
[Закрыть]
Джордж завершил книгу «Прогресс и бедность» одним из тех громогласных изречений, которые так любила Америка позолоченного века: «Позволяя монополизировать возможности, которые природа свободно предоставляет всем, мы игнорируем основной закон справедливости». Но единый налог обещал миру «равенство в распределении богатства и власти; мы упраздним бедность; укротим безжалостные страсти жадности; иссушим источники порока и несчастий; зажжем в темных местах светильник знания; придадим новую силу изобретениям и новый импульс открытиям; заменим политическую силу политической слабостью; сделаем невозможными тиранию и анархию».[1091]1091
Джордж, Прогресс и бедность 545.
[Закрыть]
Если читатель принимал предпосылки Джорджа, его анализ казался логичным, тщательно обоснованным и легко воплощался в политическую программу. Для Джорджа все было построено на «тех, кто получает богатство непосредственно от природы». Бедность существовала в разгар прогресса, потому что с ростом населения прибыль, которая должна идти на капитал и труд, вместо этого превращалась в незаработанную прибавку к ренте. Этот анализ понравился нации с аграрными традициями, для которой труд на земле был основополагающим и которая с глубоким недоверием относилась к богатству, которое, казалось, проистекало из простого обмена бумагами; но он также был причудливым, редукционистским и полным непредвиденных последствий. Она обещала заставить владельцев расширять производство, чтобы сохранить право собственности на свою землю даже при отсутствии рынка для того, что они производят. Она сводила мир природы к набору ресурсов, и в этом она не сильно отличалась ни от корпоративного капитализма, ни от более поздних прогрессивных сторонников охраны природы.[1092]1092
Там же, 212, 243, 250.
[Закрыть]
Изначально Генри Джордж восхищался Гербертом Спенсером, который в более раннем воплощении выступал против частной собственности на землю, но Спенсер отказался от подобных взглядов. Джордж стал считать его никудышным фаталистом, комфортно живущим среди массовых страданий. Самнер предсказуемо осудил и отверг «Нищету и прогресс», хотя его анализ индустриального общества, если не его суждения о нем, во многом совпадали с Джорджем.[1093]1093
Rose, 85; Hillel Steiner, «Land, Liberty, and the Early Herbert Spencer», in Herbert Spencer: Critical Assessments, ed. John Offer (London: Taylor & Francis, 2000), 4: 210–14; Sklansky, 105–36.
[Закрыть]
По сравнению с тем, как они принимали Генри Джорджа, большинство британских интеллектуалов делали реверансы и скреблись перед Хоуэллсом, но британские реформаторы приветствовали Джорджа. Американская Земельная лига – американцы ирландского происхождения, выступающие за независимость Ирландии и земельную реформу, – уже приняла его, и он с энтузиазмом поддержал ирландских земельных реформаторов и ирландских реформаторов. «В деле Ирландской земельной лиги, – заявил он, – лучшими мужчинами были женщины». Джордж посетил Ирландию и объехал всю Великобританию в 1881–82 и 1883–84 годах. Не только аренда и массовые несчастья Ирландии сделали Джорджа актуальным. В стране, где только 360 человек владели четвертью земли во всей Англии и Уэльсе, а 350 землевладельцев в 1873 году владели двумя третями Шотландии, Джордж вряд ли мог быть проигнорирован. Респектабельная пресса гораздо чаще нападала на Джорджа и очерняла его, чем восхваляла, но он понимал, что очернение – это знак того, что британцы должны воспринимать его всерьез. Обличение обеспечивало публичность его идей, и он собирал большие, часто обожающие толпы. Сидни Уэбб, который был социалистом, приписывал Джорджу, который им не был, возрождение британского социализма.[1094]1094
Rodgers, 35–36, 70–71; Brundage, 114–19; Rose, 86–89, 97–109.
[Закрыть]
Способность Хоуэллса чувствовать себя одновременно пунцовым и тускло-пурпурным по возвращении в Соединенные Штаты отражала брожение в американской политике и религии и ослабление влияния либеральной ортодоксии на респектабельное мнение. Популярные радикалы вроде Джорджа, христианские реформаторы, принявшие Социальное Евангелие, новые ученые-социологи в расширяющихся американских университетах – все это заставляло таких людей, как Годкин, казаться старомодными, а интеллектуалов вроде Самнера – изолированными и осажденными. Либеральный прилив все быстрее и быстрее утихал.
IIIХоуэллс мучился из-за индустриальных Соединенных Штатов, которые встретили его по возвращении, как по личным, так и по интеллектуальным и моральным причинам. В 1880 году шестнадцатилетняя дочь Хоуэллса, Уинни – яркая, очаровательная, привлекательная и зеница ока своего отца – заболела, как заболели многие женщины и мужчины Позолоченного века. Она вдруг не смогла без посторонней помощи пересечь комнату. Ей пришлось бросить школу. Уинни заболела в тот же год, когда Джордж Миллер Бирд опубликовал книгу «Американская нервозность». Он придумал новое слово – «неврастения» – для описания нового, по его мнению, явления – «недостатка нервной силы». Симптомы этого явления были озадачивающими и разнообразными: желание возбуждения и стимуляции в сочетании со страхами, которые варьировались от страха остаться одному до страха быть напуганным и «страха перед всем». Шарлотта Перкинс Гилман, чей рассказ «Желтые обои», запечатлевший болезнь, стала и ее жертвой. Она писала в своей автобиографии: «Все болезненные ощущения, стыд, страх, раскаяние, слепое гнетущее смятение, абсолютная слабость, постоянная боль в мозгу, наполняющая сознание теснящимися образами беды». Конечным и определяющим результатом стал паралич воли, поразивший Уинни.[1095]1095
W. D. Howells to Anne H. Frechette, Aug. 14, 1881, in Howells, Selected Letters, 2: 293. Lynn, 252; Charlotte Perkins Gilman, «The Yellow Wall-Paper» by Charlotte Perkins Gilman: A Dual-Text Critical Edition, ed. Shawn St. Jean (Athens: Ohio University Press, 2006), 90; Lears, 50; Charlotte Perkins Gilman, The Living of Charlotte Perkins Gilman: An Autobiography (Madison: University of Wisconsin Press, 1990, ориг. изд. 1935), 90.
[Закрыть]
Причиной, по общему мнению врачей, была сама современная жизнь: ее шквал информации, шума и отвлекающих факторов, ее роскошь и постоянные требования. Она обезбожила мужчин и дефеминизировала женщин, в результате чего и мужчины, и женщины стали «сверхцивилизованными»: нервными, искусственными, слабыми, оторванными от настоящих эмоций и жизненного опыта. Интроспекция протестантизма эпохи Реформации, некогда посвященная наблюдению за душой и шансами на спасение, превратилась в болезненное состояние и трансформировалась в простую самонаблюдение. Гилман отметила важный аспект своего собственного случая. По сути, у нее была аллергия на дом. Хотя она любила своего мужа и ребенка, она «видела суровый факт – мне было хорошо вдали от дома и плохо дома».[1096]1096
Gilman, The Living of Charlotte Perkins Gilman, 95; Lears, 48–50.
[Закрыть]
Неврастения, по-видимому, означала крах характера. Характер имел значение для викторианцев, и он имел значение для Хоуэллса – в его писательстве, политике и жизни, хотя его представления о характере были противоречивы. Как литературный критик и романист, он связывал персонажей с «характером». Хорошая художественная литература показывала, как судьбы героев романа вырастают из их характеров и раскрывают действие непреложных нравственных законов. Такие непреложные законы означали, что история не имеет значения, разве что в качестве местного колорита. Исторические факты, как сказал один из его персонажей, «не должны иметь значения», потому что нравственный закон одинаков во все времена и во всех местах. История не меняла главного: человеческой природы и нравственного закона. Все, везде, во все времена маршировали под один и тот же барабан. И все же, будучи начинающим реалистом, Хоуэллс считал, что в основе художественной литературы должны лежать персонажи – узнаваемые человеческие существа, реальные люди. Сюжет должен разворачиваться на основе их повседневной борьбы в узнаваемом времени и месте. Хоуэллс тщательно описывал бурную современную историю Позолоченного века, потому что писатели должны были правильно описывать конкретные исторические миры, чтобы сделать жизнь и борьбу своих персонажей реальной. В его произведениях проявилось напряжение между Хоуэллсом-реалистом, который хотел точно и полно изобразить свое общество, и Хоуэллсом-либералом, для которого мораль была вопросом непреложного закона.[1097]1097
Ливингстон, 134–37.
[Закрыть]
Хоуэллс подгонял свою жизнь под стандарты своей художественной литературы; он чувствовал себя обязанным проявлять характер, и это делало его пунцовые взгляды все краснее и краснее по мере того, как длилось десятилетие. Мелочи досаждали ему, обнаруживая недостаток характера. В 1884 году «дрянные мотивы» заставили его вызвать полицию, чтобы выдворить людей, сидевших на его заборе, чтобы лучше видеть гребцов, мчавшихся по Бэк-Бэй. Он осуждал себя за то, что в какой-то мере отстаивал права собственности в ущерб мелким удовольствиям простых людей.[1098]1098
Уильям Александер, Уильям Дин Хоуэллс, реалист и гуманист (Нью-Йорк: Б. Франклин, 1981), 31–44.
[Закрыть]
Для Дж. П. Моргана, нью-йоркского банкира, вырвавшегося из тени своего отца в 1880-х годах, отстаивание прав собственности не было чем-то постыдным; это был признак характера. В конце эпохи Морган заявил, что основой всей финансовой системы является характер. Характер – это не мораль. Человек с характером может быть рассеянным, лгать, обманывать, воровать, приказывать или потворствовать поступкам, за которые полагается тюремное заключение, но он не поступает так со своими друзьями. Дружба зависела от характера; друзья были верными и соблюдали сделки (когда это было возможно). Они не общались вне школы. Именно поэтому Коллис П. Хантингтон мог считать своего политического друга Роско Конклинга человеком с характером, даже когда тот просил Конклинга дать ему общественные блага в обмен на частные услуги. Характер существовал в сети друзей, которые оценивали его и поддерживали. Обладать характером означало быть человеком, которому мог доверять Дж. П. Морган.[1099]1099
Сьюзи Пак, Джентльмены банкиры: The World of J. P. Morgan (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2013), 1–16; R. White, 102–3, 166–17; Sven Beckert, The Monied Metropolis: New York City and the Consolidation of the American Bourgeoisie, 1850–1896 (Cambridge, MA: Cambridge University Press, 2001), 237–72.
[Закрыть]
Идея характера Моргана отталкивала Хоуэллса, но в начале 1880-х годов самого Хоуэллса можно было принять за бостонского банкира; он все еще казался той условной фигурой, которой Морган мог доверять. Когда ему потребовалось воплотить свои меняющиеся убеждения в политике, он задержался в Кембридже, чтобы иметь возможность проголосовать против Бена Батлера, который претендовал на второй срок на посту губернатора Массачусетса по демократическому билету в 1883 году. Батлер, преследующий свою собственную, идиосинкразическую, оппортунистическую и коррумпированную версию политики реформ, будет баллотироваться на пост президента от партии «Гринбэк» в 1884 году.[1100]1100
W. D. Howells to W. C. Howells, Nov. 4, 1883, in Howells, Selected Letters, 3: 80, 81.
[Закрыть]
К середине 1880-х годов, несмотря на социальное брожение и новые идеи, умные люди все еще считали, что американская политика может быть сведена к простому вопросу характера. Либералы, в частности, лишенные других способов упорядочить американскую политику, вновь обратились к характеру. В 1884 году национальная политика достигла отлива. Эпические усилия по реконструкции Юга и Запада в соответствии со старым видением свободного труда в основном закончились. Экономика переживала второй крупный послевоенный спад. На протяжении более десяти лет рецессия и депрессия были гораздо более распространены, чем процветание. Оба поколения Гражданской войны – те, кто уже достиг зрелости к началу войны, и те, кто достиг совершеннолетия вместе с войной, – старели. Даже большинство белых, переживших разрушения раннего детства, едва ли дожили бы до шестидесяти. Продолжительность жизни чернокожих была гораздо короче. Ветераны Гражданской войны сохранили огромный моральный авторитет, и они регулярно использовали его против молодых людей, не испытанных в боях, но этот моральный авторитет не возвышал политику. Скандал и коррупция оказались повсеместными и почти постоянными.
Если смотреть через газеты, то американская жизнь, казалось, разворачивалась как в плохом викторианском романе, который Хоуэллс стал ненавидеть, но не мог полностью избавиться от него, – полная страданий и искупления. Улисс С. Грант оставался лицом старшего поколения Гражданской войны. Годы, прошедшие после войны, были в основном изучением его слабостей и ограничений, а в 1884 году они приобрели трагический характер. Грант и его жена Джулия не просто хотели быть богатыми – они считали, что заслужили это богатство. Грант всегда был восприимчив к лести богатых людей и немного сомневался в источниках новых огромных состояний, которые появлялись даже в разгар депрессии. В начале 1880-х годов, благодаря подаркам богатых поклонников и инвестициям, Гранты решили, что наконец-то достигли желаемого. За пределами своих домов богатство Грантов, как и большинство новых богатств, было бумажным: акции, облигации и векселя.
Состояние Грантов во многом зависело от фирмы «Уорд и Грант». Фердинанд Уорд, сын священника, был родом из северной части штата Нью-Йорк. Его невнимательным партнером был сын Гранта Бак, который делал деньги на западных горнодобывающих спекуляциях, используя политические связи своего отца и геологические знания брата Уорда. Уорд проворачивал то, что позже назовут схемой Понци; в условиях падения доходности инвестиций он получал дивиденды и аннуитеты, которые казались слишком хорошими, чтобы быть правдой. Это были.[1101]1101
Geoffrey C. Ward, A Disposition to Be Rich: How a Small-Town Pastor’s Son Ruined an American President, Brought on Wall Street Crash, and Made Himself the Best Hated Man in the United States (New York: Knopf, 2012), 146–69.
[Закрыть]
Уорд повесил рога техасского лонгхорна в своем офисе на Уолл-стрит, чтобы символизировать бычий рынок, который приведет его и клиентов к процветанию. Это был не самый мудрый выбор символов. Уорд подражал методам западных скотоводов, и ему предстояло получить аналогичные результаты. Он неоднократно закладывал одни и те же ценные бумаги для обеспечения многочисленных займов, а затем использовал одни из них для выплаты процентов по другим. Долги росли, но пока выплачивались проценты и дивиденды, только Уорд проявлял интерес к тому, как были обеспечены деньги. Он зависел от новых займов и новых инвесторов. Он участвовал в покерных играх Гранта, а другие игроки, включая Конклинга, вкладывали деньги в Ward & Grant. Томас Наст, карикатурист, который поддерживал Гранта, вложил свои сбережения. Некоторые из этих инвесторов были политически искушенными, но их финансовое невежество сочеталось с почти болезненной невинной жадностью Грантов. Другие чувствовали, что происходит, но думали, что смогут рассчитать, когда выходить из игры.
В мае 1884 года вся схема рухнула. Компания Ward & Grant потерпела крах; Морской национальный банк, ключевой инструмент в двуличном деле Уорда, закрыл свои двери. Улисс С. Грант считал себя миллионером в утро краха. К вечеру 80 долларов, которые были у него в кармане, и 130 долларов, которые были у Джулии, составляли все их ликвидные активы. Он сохранил свои дома, а Уильям Вандербильт простил крупный кредит, но в остальном он потерял почти все. Фердинанд Уорд бежал, был пойман, судим и заключен в тюрьму.[1102]1102
R. White, 479; Ward, 168–223, 169–71.
[Закрыть]
Летом 1884 года вездесущие сигары Гранта настигли его. Неразговорчивый генерал надкусил персик, проглотил его и закричал от боли. У него был рак горла, и он умирал, но сохранил ту яростную решимость, с которой прошел всю Гражданскую войну. Последний год жизни Гранта стал его лучшим часом после окончания войны. Он решил написать свои мемуары – «Личные воспоминания У. С. Гранта», чтобы обеспечить свою семью после смерти. С помощью Марка Твена, который опубликовал их, ему это удалось. Его мемуары, заключение которых начинается словами: «Причиной великой войны против Соединенных Штатов придется считать рабство», остаются одними из лучших мемуаров о Гражданской войне. В июле 1885 года он написал своеобразный литературный меморандум самому себе: «Я думаю, что я – глагол, а не личное местоимение. Глагол – это все, что обозначает быть, делать или страдать. Я обозначаю все три». К счастью, у него не было времени писать о своем президентстве. 23 июля 1885 года в кругу семьи он умер. Твену, как и Джулии Грант, очень помогли мемуары.[1103]1103
Уильям С. Макфили, Грант: A Biography (New York: Norton, 1981), 495–517; Ron Powers, Mark Twain: A Life (New York: Free Press, 2005), 500–504.
[Закрыть]
Марк Твен и Генри Джеймс были близкими друзьями Хоуэллса, и Грант стал самым маловероятным участником литературного возрождения, вызванного писателями, чьи лучшие произведения появились в среднем возрасте. Твен опубликовал «Гекльберри Финна», Хоуэллс – «Восхождение Сайласа Лэпхэма», а Генри Джеймс – «Бостонцев». Все они придерживались натурализма, который представлял собой смелый шаг в сторону от сентиментальной беллетристики. Журнал «Сенчури», который произошел от более старого «Скрибнерс Месяц», издавал Твена серийно, Хоуэллс и Джеймс в 1884 и начале 1885 года. Его редактору, Ричарду Уотсону Гилдеру, было сорок лет, он принадлежал к молодому поколению времен Гражданской войны, и его журнал по размаху и тиражу (около 130 000 экземпляров) в 1880-х годах превзошел «Atlantic Monthly», из которого ушел Хоуэллс.[1104]1104
Powers, 486–87.
[Закрыть]
Грант и Хоуэллс сходились и в другом. Последние дни Гранта были посвящены характеру, и они как нельзя лучше совпали с темой романа Хоуэллса «Возвышение Сайласа Лэпхэма». В романе подробно рассказывается о взлете бизнесмена-янки, его падении и моральном искуплении. Это типичная беллетристика Хауэлла, который одновременно внимательно наблюдал за происходящим и при этом готов был скрыть многое из того, что могло бы обеспокоить его соседей и друзей-браминов. В книжном варианте он удалил отрывки, которые некоторые читатели «Сенчури» и его редактор сочли неприемлемыми. В конце концов, Лэпхэм не стал жертвой своих амбиций, поступков и пороков – они были отклонением. У него был характер, и это его спасло. Но в его спасении и заключалась проблема. Хоуэллс очень восхищался Львом Толстым, и его восхищение отчасти проистекало из отказа Толстого в «Анне Карениной» искупить или спасти свою одноименную героиню. В «Сайласе Лапэме» Хоуэллс не смог или не захотел этого сделать. В русских романах такие фигуры, как Лэпхем, встречали свою гибель, будучи продуктом собственных недостатков и действий. Лапхэм сбежал, и из-за его побега финал книги не удался. Характер казался лишь предлогом для того, чтобы избежать суровости и трагедий жизни.[1105]1105
Alexander, 34–44; «Исследование редактора», апрель 1886 г., в William Dean Howells, Editor’s Study, ed. James W. Simpson (Troy, NY: Whitston, 1983), 16–20; William Dean Howells, The Rise of Silas Lapham (New York: Signet, 1963, ориг. издание 1885 г.).
[Закрыть]
При всей своей приверженности новому, «Century» был также литературным пристанищем для либералов, таких как Уэйн Маквиг (Wayne MacVeagh). Он был одним из ведущих либералов-республиканцев и возглавлял комиссию, которая в 1877 году передала Луизиану демократам. Его деятельность касалась как чернокожего Генри Адамса, которого его комиссия обрекла на гибель и предала, так и патриция Генри Адамса, который был другом Маквиха. Маквиг стал генеральным прокурором Гарфилда и служил вместе с Джеймсом Г. Блейном в кратком кабинете Гарфилда. В мартовском номере «Сенчури» за 1884 год он написал статью «Следующее президентство». С одной стороны, она представляла собой сборник либеральных проповедей. Если посмотреть с другой стороны, то она точно отражала утихающие страсти Гражданской войны. Если посмотреть с другой стороны, то она была глубоко тупой, ошибочно принимая то, что было глазом урагана, за прохождение бури. Но самое главное, Макви, как и другие либералы, неправильно понимал американскую систему управления.[1106]1106
Chalfant, 478–79; Wayne MacVeagh, «The Next Presidency», The Century 27, no. 5 (1884): 670–77.
[Закрыть]
Маквиг считал, что избиратели апатично относятся к предстоящим выборам, потому что в американской политике не осталось великих проблем, а правительство не имело никакого отношения к их жизни. Муниципальное управление, провозглашал он, – это просто вопрос характера и управления, а значит, нужно забрать его у партий и машин и отдать в руки экспертов. Лишение права голоса вольноотпущенников не вызывало беспокойства, потому что никто не мог всерьез поверить, что «гражданское правительство больших промышленных государств, какими быстро становятся южные штаты, может быть доверено наименее сообразительным из их жителей». В условиях, когда страна якобы решает вопрос о реформе государственной службы, избиратели должны игнорировать партийные платформы и старые лояльности и голосовать, основываясь на прошлой карьере и личных качествах кандидата. В заявлении, которое, казалось, вырвалось из времен ранней республики, он заявил, что президент «не должен добиваться выдвижения и не должен демонстрировать после выдвижения то, что президент Йельского университета Вулси так метко назвал „необычной тревогой“ за свое избрание, поскольку у него не должно быть друзей, которых можно наградить, и врагов, которых можно наказать». Он «должен быть не только честным человеком, но и быть причиной честности других».[1107]1107
Chalfant, 478–79; MacVeagh, 670–77.
[Закрыть]