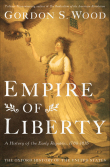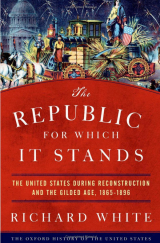
Текст книги "Республика, которую он защищает. Соединенные Штаты в период Реконструкции и Позолоченного века, 1865-1896 (ЛП)"
Автор книги: Ричард Уайт
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 80 страниц)
Одной из целей Реконструкции было побудить чернокожих на Юге или принудить индейцев на Западе принять свободный труд и воспроизвести протестантский дом. На Юге республиканцы представляли себе чернокожих борцов в образе Генри Айса и Дика Гарланда и черные дома, как в книжках, но попытка радикалов перераспределить земли предателей среди вольноотпущенников и бедных юнионистов Юга, как они перераспределили земли индейцев среди западных поселенцев, провалилась, а закон о южных усадьбах привел к появлению небольшого количества ферм. Дома чернокожих должны были содержать мужчины, которые не были полностью независимы, а зависели от издольщины, аренды и наемного труда. На кону усилий вольноотпущенников стояла сама Реконструкция. Республиканцы считали, что это шанс для вольноотпущенников показать себя мужчинами. Для Клана и подобных ему организаций это был шанс доказать, что чернокожие мужчины никогда не смогут стать мужчинами, потому что они не способны содержать и защищать дома. Они, как индейцы на Западе, могут быть угрозой только для домов белых.
Белые южане утверждали, что черные мужчины угрожают белым домам и белым женщинам, но на деле именно белые мужчины неустанно и вполне целенаправленно нападали на дома черных. Рабство было отменено, но белые южане не собирались отказываться от расовой иерархии и зависимости, привязывавшей чернокожих к семьям белых. Теоретически свободные чернокожие граждане могли оспаривать условия и сроки своей работы, могли переезжать, когда и куда хотели, могли создавать свои собственные семьи и жениться на ком хотели, они пользовались теми же политическими и гражданскими правами, что и все остальные граждане. Белые мужчины, считавшие, что они должны по праву контролировать их и их труд, не имели права голоса. Это было то, что политолог Марек Стидман назвал «кошмарным сценарием» для тех, кто все еще «стремился к статусу хозяев». Когда Клан и другие белые регуляторы вмешались, чтобы навязать старый порядок, результаты были шокирующими и кровавыми.[326]326
Марек Д. Стидман, Гражданство Джима Кроу: Liberalism and the Southern Defense of Racial Hierarchy (New York: Routledge, 2012), 101.
[Закрыть]
Элиза Пинкстон – вольноотпущенница, родившаяся рабыней в Алабаме и пытавшаяся преодолеть сложный путь между принадлежностью к белой семье и жизнью в независимом черном доме. Белые плантаторы и работодатели полагали, что по-прежнему контролируют жизнь и политику чернокожих, а большинство белого населения считало себя вправе принуждать их к такому контролю. Элиза оказалась зажатой между борьбой мужчин, черных и белых, амбициями черной общины, стремящейся к новому расовому и экономическому порядку, и страхами белой общины по поводу утраты старого порядка.[327]327
Там же, 61–77.
[Закрыть]
Чарльз Тидвелл был белым человеком, фермером-арендатором, который никогда не владел рабами, но ему и в голову не приходило, что он не может командовать чернокожими людьми или иметь свободный сексуальный доступ к черным женщинам. У него была дочь от чернокожей женщины, и его белый сын – Дэвид, которого звали Сонни, – полагал, что обладает теми же сексуальными привилегиями, что и его отец. В конце 1860-х – начале 1870-х годов Элиза, очевидно, работала на Тидвеллов как в Алабаме, так и в Луизиане, и частью этой работы был секс. По словам Элизы, «я никогда не была любовницей, я работала; но когда наступала ночь, я тоже выполняла свои обязанности». Она родила близнецов, которые умерли. Она понимала, что это не брак и не его приближение. Меня нельзя было называть «миссис Тидвелл», я всегда была «Элизой Финч». «Люди смотрели на меня с таким презрением, независимо от того, хорошо ли я одета. Куда бы я ни пошла, они говорили: „Это вещь Дэвида Тидвелла“». Ее «цвет», по ее словам, «не смотрел на меня с почтением».[328]328
Стидман, 60–67.
[Закрыть]
Уход от Дэвида Тидвелла и брак с Генри Пинкстоном, которого, по ее словам, она любила «всем сердцем», принес ей «честь»; он освободил ее от отношений, которые свободные люди рассматривали как повторение рабских времен, где секс был частью более широких отношений зависимости. Сонни Тидвелл безуспешно пытался помешать браку, но его угрозы заставили Пинкстонов переехать в соседний приход. Пинкстоны не избавились от Тидвеллов, которые в начале 1870-х годов пытались заставить Генри и Элизу посещать собрания демократов – так их называли – и избегать собраний республиканцев. Генри не поддавался на запугивания и требовал, чтобы Элиза следовала его примеру, хотя Элиза считала его курс безрассудным: «Похоже, твоя жизнь волнует тебя не больше, чем жизнь кролика». Для Генри это был вопрос мужественности: «Я не тот человек, который может что-то сказать, не высказав этого. Я уйду туда, если меня убьют». Элизу это не убедило. Она никогда не принимала выборы середины 1870-х годов на условиях республиканцев – как выбор между свободой и возвращением в рабство, – но она понимала, что белые могут и будут развязывать ужасающее насилие против республиканцев.[329]329
Там же, 67–69.
[Закрыть]
Когда Элиза увидела, как белый мужчина записывает имя Генри на собрании, она обратилась к Тидвеллам, чтобы предотвратить то, что она предвидела. Они ничего не сделали. Белый мужчина, который писал, был одним из группы регуляторов, молодых людей, вращавшихся «в лучших кругах общества», которые выступали в роли принудителей для демократов. Регуляторы, взявшие с собой двух «цветных», старательно атаковали Пинкстонов у себя дома. Вся идея «черного дома» была их мишенью, как и сами Пинкстоны. Они кастрировали Генри и сломали ему ребра. Они изнасиловали Элизу, проломили ей череп, порезали и перерезали ахиллово сухожилие. Они убили ребенка Пинкстонов и убили Генри. Послание не могло быть более ясным. Свободные люди не могли иметь независимые дома, черные мужчины не могли их защищать, черные женщины не могли в них жить, а черные родители не могли воспроизводить детей, которые могли бы их содержать. Подчинение – социальное, политическое, экономическое и сексуальное – должно было стать единственной защитой от подобных нападок.[330]330
Там же, 68–71.
[Закрыть]
Элиза Пинкстон была трагическим персонажем в общей истории попыток белых предотвратить создание независимых домов для чернокожих. Нападки Клана были неотделимы от вопросов дома и мужественности, потому что южные белые в большинстве своем не могли отделить расовые отношения от отношений зависимости, организованных вокруг домохозяйств. Белые южане представляли чернокожих и белых радикалов как угрозу белому дому и семье. Они заявляли, что чернокожий мужчина не может создать или защитить свой дом и семью, а чернокожая женщина слишком распутна, чтобы их содержать. Чтобы защитить старый порядок, они наносили удары по черным домам и по черным семьям. Свидетельства, данные в суде и перед федеральными следователями, – это душераздирающее повторение изнасилований, избиений, увечий и убийств.[331]331
Ханна Розен, Террор в сердце свободы: Citizenship, Sexual Violence, and the Meaning of Race in the Postemancipation South (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2009), 185–221.
[Закрыть]
На Западе кампания по созданию индейских домов также провалилась. Из всех проблем, стоящих перед домашним хозяйством, ни одна не казалась более сложной, чем та, которую создавали западные индейцы, которых американцы считали людьми, имеющими родные земли, но не имеющими собственного дома. Индейцы создавали препятствия для американского домоводства. Американцы долгое время рассматривали индейцев как совокупность недостатков. Их религии были неполноценными, их экономика была неполноценной, их культура была неполноценной, а их семьи были неполноценными. Американские усилия по «цивилизации» индейцев были направлены на исправление этих недостатков: сделать их протестантами, организовать их в патрилинейные нуклеарные семьи и дать им дома. В договорах, заключавшихся начиная с 1850-х годов, содержались положения о разделе индейских земель на несколько частей, то есть на частную собственность, и использовании их в качестве основы для индейских домов с моногамными нуклеарными семьями, гендерные роли в которых повторяли роли белых протестантов.[332]332
Фрэнсис Пол Пруха, Политика американских индейцев в условиях кризиса: Christian Reformers and the Indian, 1865–1900 (Norman: University of Oklahoma Press, 1976), 105–6.
[Закрыть]
Ежегодный отчет комиссара по делам индейцев за 1868 год включал в себя доклад комиссаров мира, отправленных на переговоры по заключению договоров, призванных положить конец войне на Великих равнинах. Комиссары изложили, что необходимо сделать. Индейцы должны были быть изолированы в определенных районах, где среди них должны были внедряться сельское хозяйство и производство, а их дети должны были посещать школы. «Их варварские диалекты должны быть вычеркнуты и заменены английским языком», – писали члены комиссии; это поможет разрушить племенные барьеры и «сплавить их в единую однородную массу». Но конечной целью было поселить их в «усадьбе», которую они должны были благоустроить. Женщин «научат ткать, шить и вязать». Многоженство будет наказываться, и их будут поощрять строить дома, «собирая в них те удобства, которые придают дому очарование». С созданием христианских домов их цивилизация будет завершена.[333]333
Министерство внутренних дел США, «Ежегодный отчет комиссара по делам индейцев, 1868 год» (Вашингтон, округ Колумбия: ГПО США, 1868), 504.
[Закрыть]
Именно эту программу имел в виду Грант, когда в своей инаугурационной речи в 1869 году объявил, что целью для индейцев является «их цивилизация и окончательное гражданство». Как и освобожденные люди, они должны были влиться в однородное гражданство, которое было республиканским идеалом. Но если вольноотпущенники сталкивались с внеправовым принуждением и насилием, чтобы помешать им обзавестись домами, то индейцы должны были столкнуться с правовым принуждением и, если потребуется, с насилием, чтобы заставить их обзавестись надлежащими домами. Чтобы продвигать свою политику, Грант организовал Совет комиссаров по делам индейцев, состоящий из протестантских филантропов, и предоставил им совместный с министром внутренних дел контроль над деньгами, которые Конгресс выделял на дела индейцев. Комиссары рекомендовали отказаться от системы договоров. Существующие договоры должны были соблюдаться, хотя по возможности их следовало отменять с согласия индейцев. Индейцы должны были переселиться в резервации, которые должны были быть разделены поровну. Индейцы должны выучить английский язык и стать христианами, поскольку «религия нашего благословенного Спасителя считается наиболее эффективным средством для цивилизации любого народа». Пока они не станут христианскими, самообеспечивающимися американскими гражданами, индейцы будут оставаться подопечными правительства.[334]334
Фрэнсис Пол Пруха, Великий отец: Правительство Соединенных Штатов и американские индейцы (Линкольн: Издательство Университета Небраски, 1984), 1: 501–11.
[Закрыть]
Формулируя свою индейскую политику, Грант стремился найти хрупкий баланс между христианскими реформаторами, чьей поддержки он добивался, и армейскими офицерами, которые, по его мнению, лучше всего могли управлять индейскими резервациями. Комиссаром по делам индейцев Грант назначил своего старого адъютанта Эли Паркера, индейца племени сенека. Паркер в конечном итоге был военным. Только солдаты, считал он, «когда дают обещание, выполняют его, а когда угрожают, приводят его в исполнение». Он считал, что индейцы не уважают гражданских индейских агентов, потому что «они не сдерживают своих обещаний и не выполняют угроз».[335]335
Эдвард М. Коффман, Старая армия: A Portrait of the American Army in Peacetime, 1784–1898 (New York: Oxford University Press, 1986), 255; Prucha, American Indian Policy in Crisis, 75–77.
[Закрыть]
Паркеру с его военными предпочтениями пришлось бы работать с новым советом индейских комиссаров, который не доверял военным. Христианские реформаторы и армия были согласны с тем, что, по словам «Army and Navy Journal», индейское ведомство имело «непрерывный послужной список резни и мошенничества», но в вопросе реформ они занимали противоположные позиции. Военные считали себя естественными опекунами индейцев и обладали административным потенциалом и способностью к принуждению, которые отсутствовали в других правительственных структурах. Генерал Шерман утверждал, что только передача ответственности за индейцев Военному министерству, а не Министерству внутренних дел, решит «индейскую проблему». Шерман считал: «Работать своими руками или даже оставаться на одном месте противоречит всей наследственной гордости индейцев, и для достижения результата необходимо применить силу». Надлежащие дома можно было создать только с помощью принуждения. Спор о передаче индейцев военному министерству продлится до 1870-х годов.[336]336
Prucha, American Indian Policy in Crisis, 72–82, цитата, 75; Coffman, 255.
[Закрыть]
Армия сама саботировала конечную цель – включить Управление по делам индейцев в состав Военного министерства и делегировать из армии офицеров для обслуживания индейских резерваций. 23 января 1870 года армейский отряд под командованием полковника Юджина М. Бейкера убил 173 члена группы индейцев пиеган из племени Тяжелого Бегуна – в основном женщин, стариков и детей, – которые стояли лагерем на реке Мариас в Монтане. Бейкер искал пиганских налетчиков, но нашел не ту группу: деревню, полную больных и умирающих от оспы людей. Хотя его предупредили, что это не та группа, он все равно напал, устроив то, что реформаторы осудили как «отвратительную бойню». Шеридан сделал еще хуже. Он защищал Бейкера, вызывая в воображении картины всеобщего убийства и изнасилования – по сути, представляя индейцев как кровавых дикарей, угрожающих белому дому и белой женщине. Никто не представил никаких доказательств того, что кто-то из членов группы Тяжелого Бегуна кого-то убил или изнасиловал.[337]337
Эндрю Р. Грейбилл, Красные и белые: A Family Saga of the American West (New York: Norton, 2013), 105–41; Paul Andrew Hutton, Phil Sheridan and His Army (Lincoln: University of Nebraska Press, 1985), 113–17, 186–200.
[Закрыть]
Совершая одни злодеяния, армия не смогла предотвратить другие. Белые и вечино (так испанцы называли членов своей общины) обвиняли западных апачей в том, что они – дикие враги своих домов, но в 1871 году апачи поверили обещаниям армии, что они будут в безопасности, если придут и поселятся в каньоне Аравайпа близ Тусона. Обещания были искренними, но они связывали армию, а не американских поселенцев в Тусоне, или вечино – жителей Мексики, принятых в Соединенные Штаты в качестве граждан в результате «Гадсденской покупки», или «Tohono O’odham» – фермеров пустыни в Соноре и Аризоне. В апреле 1871 года представители всех трех групп напали на западных апачей, разбивших лагерь в каньоне. Бойня была жестокой и методичной. Примерно 150 человек, в основном женщины и дети, погибли либо от выстрелов, либо от размозжения черепов боевыми дубинками. Двадцать девять детей, попавших в плен, были обречены на кабалу или рабство, если им не удастся сбежать. Обещание армии в итоге ничего не дало, хотя резня в Кэмп-Гранте настолько возмутила военных и реформаторов, что состоялся суд над виновными. Никто не был осужден. Армия, не сумев защитить апачей, продолжила вести против них войну. В 1873 году генерал Крук вынудил апачей уйти в резервации, где, несмотря на спорадические вспышки, большинство из них так и осталось.[338]338
Карл Якоби, «Тени на рассвете: резня в пограничных районах и насилие истории» (Нью-Йорк: Пингвин Пресс, 2008), 1–2, 183–88.
[Закрыть]
Нападение Бейкера и его защита Шериданом опорочили мирное послание Гранта. Такие нападения, оправданные защитой белых женщин и домов белых, ничего не дали для создания индейских домов, а вместо этого убивали индейских женщин и детей. Грант, который всегда был слишком предан своим старым друзьям, поддержал Шеридана, назначив его командиром всей дивизии Миссури, что было вторым по значимости званием в армии после Шермана. Депутат Дэниел Вурхиз из Индианы отметил «любопытное зрелище», когда Грант приветствовал квакеров – «миссионеров Евангелия мира», которых он назначил агентами в некоторых резервациях, – и «генерала Шеридана, запятнанного кровью невинных женщин и детей». Конгресс запретил армейским офицерам получать гражданские назначения. Мотивы конгресса, как обычно, были неоднозначными. Те, кто был потрясен резней и опасался передачи Управления по делам индейцев в ведение Военного министерства, присоединились к конгрессменам, которые не хотели терять ценные патронажные назначения.[339]339
Prucha, The Great Father, 1: 512–15.
[Закрыть]
Стремление ввести моногамию и создать нуклеарные семьи на отдельных участках, где мужчина-кормилец обеспечивал жену, которая управляла четко разграниченным домашним пространством, оставалось центральным аспектом политики американских индейцев до конца века. В популярной культуре он уступил место гораздо более яркому образу: индеец как угроза белой семье. Эта тема была старой, но она приобрела новое звучание с появлением грошовой прессы, романов на десять центов, а к 1880-м годам – шоу Дикого Запада.
Мало кто лучше Уильяма Коди, более известного как Буффало Билл, следил за пульсом народной культуры, и к концу XIX века «Нападение на хижину поселенца» стало, пожалуй, центральным элементом его Дикого Запада. В нем проявился гений Коди в том, что он свел сложную историю американской экспансии к расширению дома до дикого интерьера. Дикий Запад всегда был связан с расовым насилием, мужественностью и домом. Его целевой аудиторией были респектабельные представители среднего класса. Они с удовольствием наблюдали за тем, как белые мужчины защищают дом от «диких» опасностей, чтобы продвигать цивилизацию.[340]340
Луис С. Уоррен, «Америка Буффало Билла: William Cody and the Wild West Show» (New York: Knopf, 2005), 39, 238.
[Закрыть]
Под поверхностью Дикий Запад был сложным спектаклем. Троп дикарей, угрожающих домам белых, оказался вполне адаптируемым в Позолоченном веке; в этой роли могли выступать не только индейцы, но и радикально настроенные рабочие и иммигранты.
В шоу Дикого Запада также участвовали иммигранты, которые в 1880–1890-х годах аплодировали защите белого дома, даже когда в популярной прессе их осуждали как опасных дикарей, чья белизна была под вопросом. Нативисты считали иммигрантов угрозой американскому дому, но рабочие и антимонополисты, многие из которых сами были иммигрантами, превратили белый дом в смертоносное оружие против китайских иммигрантов.
Когда китаефобы обвиняли китайцев в неассимилируемости и угрозе обществу свободного труда, доказательства, которые они приводили, вращались вокруг дома. «Домашняя жизнь, как мы ее понимаем и чтим», – говорили они о китайцах, – «им неизвестна». Белые калифорнийцы считали, что практически все китайские женщины в Америке – проститутки, «содержащиеся в рабстве у своего собственного народа для самых низменных целей». И многие из них действительно были принуждены к проституции. Однако гораздо важнее, чем предполагаемые недостатки китайских семей, была их угроза белым семьям: «Они вытесняют наших семейных мужчин с рабочих мест и оставляют их в нужде и нищете. Они делают из наших мальчиков хулиганов и преступников, а наших девочек доводят до смерти, работая за зарплату, которая для них означает голодную смерть».[341]341
White, Railroaded, 300–301.
[Закрыть]

На одном из кадров этой карикатуры, озаглавленной «Картинка для работодателей» и снабженной надписью «Почему они могут жить на 40 центов в день, а они нет», изображены китайцы в переполненном опиумном притоне, поедающие крыс. На другом кадре изображен американский рабочий, возвращающийся домой к жене и детям. Мораль была ясна: китайцы, у которых нет дома, угрожают домам белых. Из газеты «Пак», 21 августа 1878 года. Библиотека Конгресса США, LC-USZC2–1242.
Протестантки основали в Сан-Франциско приюты для китайских проституток, но они столкнулись с сильным противодействием тех, кто хотел не спасать, а изгнать всех китайцев, мужчин и женщин. Теренс Паудерли, глава Рыцарей труда, в обвинении, которое многое говорит о сексуальной активности мальчиков-подростков, заявил, что китайские проститутки заразили венерическими заболеваниями «тысячи мальчиков» от восьми до пятнадцати лет. Эти мальчики, утверждали врачи, впоследствии заражали своих жен, а через них – детей.[342]342
Там же; Джошуа Пэддисон, Американские язычники: Religion, Race, and Reconstruction in California (Berkeley: published for the Huntington-USC Institute on California and the West by University of California Press, 2012), 50–53; Peggy Pascoe, Relations of Rescue: The Search for Female Moral Authority in the American West, 1874–1939 (New York: Oxford University Press, 1990), 13–17, 94–97.
[Закрыть]
Отношение белых к опасности, которую негры, индийцы и китайцы представляли для белого протестантского дома, вытекало из давних расовых установок, но оно также отражало реальную и глубокую тревогу по поводу дома. В конце XIX века дом приравнивался к нуклеарной семье, и если распространенность нуклеарных семей и их существование в идентифицируемых домохозяйствах были мерилом здоровья дома, то дом был повсеместным и процветающим. В конце XIX века примерно в 90 процентах американских семей было двое родителей.[343]343
Herbert S. Klein, A Population History of the United States (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), 141; Stephen Ruggles, «Family and Household Composition», in Historical Statistics of the United States, Earliest Times to the Present: Millennial Edition, fig. Ae-C. Семейное положение матерей с детьми младше 18 лет: 1880–1990.
[Закрыть]
Однако тревога за дом оставалась ощутимой; она проистекала из трех совершенно разных источников. Одним из них была расовая угроза белому дому со стороны чужаков. Она могла переходить в угрозу со стороны мормонов и католиков. Вторым источником было беспокойство по поводу того, что дети растут только с одним родителем, особенно с женщиной, или вообще без родителей. Последним и самым сложным источником было недовольство мужчин женским доминированием в домашнем пространстве, определявшем викторианский дом, и частичный уход мужчин из этого пространства в мужские убежища – от салуна до братских орденов, таких как масоны и одд-феллоу.
Даже если подавляющее большинство детей проживало в домах с двумя родителями, это все равно оставляло 13% белых и 30% черных детей в домах с одним родителем. В течение столетия в домах с одним родителем в три-четыре раза чаще оказывались женщины, чем мужчины. Кроме того, существовали сироты, либо помещенные в детские дома, либо оставленные на произвол судьбы на улице. Такие дети занимали в викторианской художественной литературе гораздо больше места, чем викторианское общество: Том Сойер, Гекльберри Финн и многочисленные герои романов Горацио Элджера были одними из самых известных. Но в обществе, где в 1900 году 20–30 процентов всех детей теряли родителей до пятнадцати лет, остаться сиротой было вполне реальной возможностью. Развод был незначительной причиной отсутствия родителей, стоявшей далеко позади смерти и дезертирства.[344]344
Klein, 141; Alexander B. Callow, The Tweed Ring (New York: Oxford University Press, 1969), 54–55; Ruggles, fig. Ae-C. Семейное положение матерей с детьми младше восемнадцати лет: 1880–1990; Mintz, 157; Таблица Ae38–78: Родственные и неродственные подсемьи, по расе и полу референта и типу подсемьи: 1850–1990, в Исторической статистике США, с древнейших времен до наших дней: Millennial Edition.
[Закрыть]
К 1870-м годам в Нью-Йорке тысячи бездомных детей – уличных оборванцев, мальчишек-газетчиков и чистильщиков обуви, и Горацио Элджер был одержим ими как в своей художественной литературе, так и в жизни. До и во время Гражданской войны он стремился стать серьезным романистом и поэтом. Он никогда не зарабатывал достаточно, чтобы прокормить себя, и поэтому, чтобы пополнить свой доход, обратился сначала к преподаванию, а затем к служению. Когда его призвали в армию, он получил отказ из-за близорукости и своего роста: 5 футов 2 дюйма. В 1864 году его жизнь изменилась. Его назначили священником Первой унитарианской церкви в Брюстере, штат Массачусетс, и он решил посвятить себя юношеской художественной литературе. Как он говорил позже, «я отдал свое перо мальчикам, и мир избавился от множества плохих стихов и амбициозной прозы». Кроме того, это «платило бы мне больше».[345]345
Callow, The Tweed Ring, 54–55; Gary Scharnhorst and Jack Bales, The Lost Life of Horatio Alger, Jr. (Bloomington: Indiana University Press, 1985), 58–62.
[Закрыть]
Писательство удалось лучше, чем служение. Современные определения сексуальности подходят к концу XIX века не больше, чем современные определения расы; они оба изобретались по мере того, как шло время. Горацио Элджер испытывал сексуальное влечение к мужчинам, но сексуальные контакты между мужчинами в девятнадцатом веке не обозначали гомосексуальность мужчины. Сексуальные контакты между мужчинами могли быть грехом, как мастурбация, но это еще не означало, что мужчины, которые им предаются, занимают отдельную сексуальную категорию. Однако Элджер испытывал особое сексуальное влечение к мальчикам, и это переходило вполне четкую моральную границу. Во время его служения ходили слухи. Церковь провела расследование и сообщила, что он совершил «преступление не меньшего масштаба, чем мерзкое и отвратительное преступление – неестественное знакомство с мальчиками…» Элджер оставил свое служение и уехал в Нью-Йорк.[346]346
Там же, 66–67; Estelle Freedman and John D’Emilio, Intimate Matters: История сексуальности в Америке, ред. Estelle B. Freedman (New York: Harper & Row, 1988), 121–24; George Chauncey, Gay New York: Gender, Urban Culture, and the Making of the Gay Male World, 1890–1940 (New York: Basic Books, 1994), 13, 21–27.
[Закрыть]
В Нью-Йорке он начал писать юмористическую литературу для религиозных изданий и изданий, ориентированных на школьников. Он увлекся так называемыми уличными арабами Нью-Йорка, тысячами бездомных детей города. Он подружился с ними, помогал им и открывал для них свои комнаты, что, учитывая его деятельность в Брюстере, выглядело бы как возвращение мотылька к огню. Возможно, так оно и было. Он так и не женился и не обзавелся обычным викторианским домом, но несколько мальчиков приехали к нему жить или отдыхать. О скандалах больше не упоминалось. Похоже, он считал свою работу с ними своего рода покаянием.[347]347
Шарнхорст и Бейлс, 70–79.
[Закрыть]
Они также были источником прибыли; уличные арабы послужили вдохновением для «Оборванца Дика», его первой и самой успешной книги, опубликованной серийно в 1867 году. В книге отсутствовали насилие и секс на улицах Нью-Йорка. Это была дидактическая нравоучительная фантастика с простыми персонажами, но она также была полна местного колорита. «Оборванец Дик» послужил образцом практически для всех последующих произведений Элджера для юношества. Хотя он давал своим героям разные имена, ситуации и приключения, герой всегда был один и тот же, и обычно это был бездомный мальчик. Мораль историй никогда не менялась. Это были истории о преодолении невзгод, об усвоении правильных ценностей и о том, как подняться в мире.[348]348
Там же, 80–83.
[Закрыть]
Оборванец Дик был честным уличным мальчишкой, жившим в коробке в одном из переулков Нью-Йорка. Он был сапожником, курил, ходил в театры и тратил все деньги, которые попадались ему на пути; его проблема заключалась в дурных ценностях, а не в плохом сердце. Книга представляет собой билдунгсроман, историю образования.[349]349
Горацио Элджер, Оборванец Дик: Или уличная жизнь в Нью-Йорке с чернорабочими (New York: John C. Winston, 1910; 1-е изд. 1868), 9–13.
[Закрыть]
Уроки начинаются, когда Дик знакомится с мальчиком из среднего класса, Фрэнком, и его дядей. Взрослый спонсор стал большим нововведением Элджера в этом жанре. Дядя говорит Дику: «Помни, что твое будущее положение зависит в основном от тебя самого, и оно будет высоким или низким в зависимости от твоего выбора». В американской версии Элджера бездомный, неграмотный ребенок, живущий в коробке в переулке, нуждается только в хорошем совете, если он сделан из правильного материала. Чтобы показать, что не все бедные дети сделаны из правильного материала, Элджер вводит ирландского злодея – Микки Магуайра, чье имя передает его недостатки.
Далее следует курс самосовершенствования и прогресса. Дик начинает копить деньги, перестает пить и общаться с парнями, учится читать и писать. Он познает «удовлетворение от самоотречения» и удовольствие от собственности. Конечно, это юношеские романы, и лекций о бережливости и трезвости, которые может выдержать аудитория десятицентового романа, не так уж много. Постепенное продвижение Дика в обществе ускоряется тем, что он ныряет с парома, чтобы спасти молодую девушку, которая оказывается богатой. В романе нет ясности в вопросе о том, насколько полезно спасать бедных девушек.[350]350
Элджер, цитаты, 114, 209, Микки Макгуайр, 129ff.; Шарнхорст и Бейлс, 83.
[Закрыть]
«Оборванец Дик больше не Оборванец Дик; теперь он Ричард Хантер, эсквайр: он сделал шаг вверх и намерен подняться еще выше». Оборванец Дик учит трудолюбию, честолюбию и самодисциплине. Эти ценности отстаивал бы Линкольн, и Элджер представляет их как достаточные не только для мира Линкольна, но и для индустриализирующегося и урбанистического мира 1880-х годов. Судьба человека по-прежнему была в его руках.[351]351
Элджер, 262.
[Закрыть]
Но Соединенные Штаты никогда не были такими простыми ни в идеологии, ни в фактах, и они становились все более сложными, что не могло не ошеломить Элджера. Его истории о том, как из лохмотьев превратиться в богатство, которые впоследствии будут вспоминаться как лучшая литература эпохи, к началу 1880-х годов оказались в затруднительном положении. Они вызвали гнев реформаторов морали, особенно женской, поскольку в них пренебрегали женщинами и домом.
Элджер писал pulp fiction – массовую, коммерческую литературу. Предсказуемость историй была частью их привлекательности, но читатели все чаще требовали экзотических мест, приключений и новеллистических происшествий. Городские сюжеты Элджера становились все скучнее, и в 1870-х годах роман на десять центов переместился на Запад, в мир индейских боев, вооруженных ограблений и насилия. В своей Тихоокеанской серии Олджер тоже отправился на Запад. Реформаторы возражали против насилия и преступлений в романах, но их возражения были глубже. Они считали, что рассказы Элджера лишь на ступень выше «Полицейской газеты» с ее сенсационными рассказами о преступлениях, преступниках и полусвете. Критики утверждали, что подобная литература не просто эксплуатирует преступность и правонарушения, а делает из них сенсацию; они считали, что такая литература их порождает. Элджера удивляло то, что критики романа на скорую руку причисляли его к Неду Бантлайну, газетчику и нативисту, связанному с протестантскими бандами Нью-Йорка, а также к авторам «десятицентовых романов», которые помогли прославиться Дикому Биллу Хикоку и Буффало Биллу. Элджер провозгласил своей обязанностью «оказывать благотворное влияние на своих юных читателей», прививая им «честность, трудолюбие, бережливость и достойные стремления». Он считал, что романист может учить через рассказ гораздо эффективнее, чем через лекции или проповеди.[352]352
Элисон М. Паркер, Очищение Америки: Women, Cultural Reform, and Pro-Censorship Activism, 1873–1933 (Urbana: University of Illinois Press, 1997), 198–202; Gary Scharnhorst, Horatio Alger, Jr. (Boston: Twayne, 1980), 66–67; Scharnhorst and Bales, The Lost Life of Horatio Alger, Jr., 118–23.
[Закрыть]
Однако женщины, занимающиеся социальными реформами, возражали, что герои Элджера не жили в семьях и не имели домов. Им не хватало материнского влияния. Хотя его сюжеты были нереальными, его социальная среда была слишком реалистичной. Таким образом, романы якобы порождали опасные и нереалистичные амбиции у иммигрантов и мальчиков из рабочего класса, которые должны были довольствоваться своим положением, в то время как их графическая социальная обстановка вызывала опасные эмоции у мальчиков из среднего класса, которых привлекали независимость, свобода от надзора взрослых и экзотическая жизнь героев Элджера.[353]353
Parker, 198–202; Scharnhorst, Horatio Alger, Jr, 66–67; Scharnhorst and Bales, The Lost Life of Horatio Alger, Jr., 118–23.
[Закрыть]
Не только евангелистки считали популярную литературу и детей, освобожденных от родительского контроля, опасными для дома и нации. Энтони Комсток был благочестивым евангельским протестантом и возглавлял Нью-Йоркское общество по борьбе с пороком, которое в 1873 году выделилось из Христианской ассоциации молодых людей. Он выступал против контрацепции, абортов, порнографии и непристойности как угрозы семье. Его ведущие спонсоры и сторонники были в основном из Социального регистра и включали видных бизнесменов. Он вел войну с похотью в целом, но прежде всего Комсток заставил американцев вздрогнуть, столкнувшись с призраком мастурбирующего мальчика.[354]354
Никола Кей Бейзел, Невинные: Anthony Comstock and Family Reproduction in Victorian America (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1997), 3–7, 53–57.
[Закрыть]
Комсток был одержим непристойностью, поскольку считал, что она угрожает тому, что он и его сторонники считали нормальной сексуальностью, необходимой для воспроизводства семьи и домашнего очага. «Похоть, – провозглашал он, – оскверняет тело, развращает воображение, развращает разум, умерщвляет волю, разрушает память, уязвляет совесть, ожесточает сердце и проклинает душу», но больше всего она угрожала семье. Ослабляя семью, похоть угрожала всему общественному строю.[355]355
Гейнс М. Фостер, Моральная реконструкция: Christian Lobbyists and the Federal Legislation of Morality, 1865–1920 (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2002), 47.
[Закрыть]
Прелюбодеяние, или меньшее отчуждение привязанностей, также угрожало дому, поскольку один мужчина, проникая в жену другого, отчуждал ее привязанности, нарушал его домашнее пространство, забирал его имущество и нападал на его дом. Сексуальные связи, угрожающие дому, стали главной темой судебного процесса Бичер – Тилтон, большого частного скандала 1870-х годов, в котором Теодор Тилтон подал в суд на Генри Уорда Бичера за отчуждение привязанности его жены. Газета New York Herald заявила, что ни одно событие со времен убийства Линкольна не вызывало такого интереса.[356]356
Лора Ханфт Коробкин, Преступные разговоры: Sentimentality and Nineteenth-Century Legal Stories of Adultery, Casebook ed. (New York: Columbia University Press, 1998), 20–26, 57; Richard Wightman Fox, Trials of Intimacy: Love and Loss in the Beecher-Tilton Scandal (Chicago: University of Chicago Press, 1999), 106–7, 381 n. 22.
[Закрыть]
Если не считать Улисса С. Гранта, Генри Уорд Бичер, возможно, был самым известным человеком в Соединенных Штатах в 1870-х годах. Журнал Andover Review назвал его «самым выдающимся частным гражданином Республики», и в нем проявились противоречия либеральной республики. Бичер был рационален и практичен, но в то же время он был пылким и эмоциональным, переполненным сосудом романтических чувств.[357]357
Фокс, 21, 22–23.
[Закрыть]