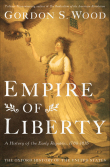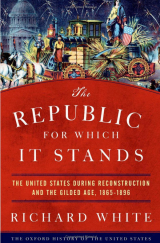
Текст книги "Республика, которую он защищает. Соединенные Штаты в период Реконструкции и Позолоченного века, 1865-1896 (ЛП)"
Автор книги: Ричард Уайт
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 45 (всего у книги 80 страниц)
Нью-Йорк, крупнейший город страны, показал, насколько сложными стали связи между людьми, другими видами, природными системами, окружающей средой, капиталом, собственностью и управлением. Каждая реакция на кризис, казалось, создавала целый ряд новых проблем.
Еще до Гражданской войны в Нью-Йорке были заложены зачатки чадвикской системы чистой воды для укрепления здоровья, борьбы с огнем и удаления отходов. В 1830-х годах избиратели одобрили строительство Кротонского акведука, который соединил реку Кротон и слился в Кротонское водохранилище на Пятой авеню, где сейчас стоит Нью-Йоркская публичная библиотека. Строительство системы было завершено в 1842 году.[1198]1198
Burrows and Wallace, 625–28, 1229–30; David Soll, «City, Region, and in Between: Водоснабжение Нью-Йорка и понимание региональной истории», Journal of Urban History 38, № 2 (2012): 297–98, 300–303; Melosi, 83–84; Steinberg, 155–59.
[Закрыть]
Проведение подобных реформ изменило городскую экологию городов XIX века, где животные оставались повсеместно распространенными и жизненно необходимыми для функционирования города. Лошади тянули омнибусы, составлявшие основу городской транспортной сети, а также повозки. Дорогие рысистые лошади богачей мчались по дорогам на окраине города. Лошади жили и умирали на улицах. В 1880 году город вывез около десяти тысяч мертвых лошадей. Свиньи бродили по городу, подбирая мусор, экскременты и бытовые отходы, которые они превращали в мясо, потребляемое бедняками. Многие городские семьи держали корову или две для получения молока; другие объединялись в городские молочные заводы. Антибеллумские города существовали в рамках замкнутого экологического цикла, который Чедвик надеялся сохранить, превратив экскременты людей и животных в удобрение. В Нью-Йорке времен антебеллума навоз, а также человеческие экскременты – ночная земля – нашли готовый рынок на Лонг-Айленде, где фермеры использовали его для удобрения сена и овса, которые они перепродавали городским покупателям для кормления своих лошадей и других животных. Отходы как удобрение вытекали наружу, а продукты поступали внутрь.[1199]1199
Джоэл А. Тарр, В поисках окончательного стока: Urban Pollution in Historical Perspective (Akron, OH: University of Akron Press, 1996), 327. То же самое происходило и в европейских городах, таких как Гамбург, но в меньших масштабах; Evans, 110–20. О городах-животных см. Catherine McNeur, Taming Manhattan: Environmental Battles in the Antebellum City (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2014); Steinberg, 136–51, 167–71; Andrew Robichaud, The Animal City: Remaking Human and Animal Lives in America, 1820–1910 (Stanford, CA: Stanford University Press, 2015).
[Закрыть]
После Гражданской войны масштабы городского роста захлестнули Нью-Йорк и другие органические города. В 1860 году население Нью-Йорка составляло 813 669 человек, в 1890 году – 1 515 301, а соседний Бруклин вырос с 266 661 до 806 343 человек. Чикаго вырос с 112 172 человек в 1860 году до 1 099 850 в 1890-м, Филадельфия – с 565 529 до 1 046 964, а Бостон – с 177 840 до 448 477. Фермы на Лонг-Айленде удалялись от города, что затрудняло транспортировку, а поскольку число городских лошадей превышало 800 000 и росло накануне Гражданской войны, город производил больше навоза, чем можно было выгодно экспортировать или продать. Города позолоченного века не могли обойтись без лошадей, которые оставались основным источником движущей силы. Каждая городская лошадь ежедневно выбрасывала на улицы от пятнадцати до тридцати фунтов навоза. В начале двадцатого века в Чикаго по-прежнему насчитывалось 82 000 лошадей, которые производили 600 000 тонн навоза в год.[1200]1200
Таблица 9 и таблица 12 в книге Кэмпбелла Гибсона «Население 100 крупнейших городов и других городских населенных пунктов США: 1790–1990», изд. Бюро переписи населения США (Вашингтон, округ Колумбия, 1998); Elkind, 48; Martin Melosi, «Refuse Pollution and Municipal Reform: The Waste Problem in America, 1880–1917», in Melosi, 106; Bonnie Yochelson and Daniel J. Czitrom, Rediscovering Jacob Riis: Exposure Journalism and Photography in Turn-of-the-Century New York (New York: New Press, 2007), 15; Tarr, 323–33; Rosen, 177–78.
[Закрыть]
Свиньи, животные, которые не только уничтожали отходы, но и производили их, потеряли свое место в городе. В 1850-х годах Нью-Йорк не без оснований объявил войну свиньям – великим городским мусорщикам, но также злобным, агрессивным, а иногда и опасным животным. После Гражданской войны их вытеснили к северу от Восемьдесят шестой улицы. Людей стало больше, а свиней меньше, поэтому на городских улицах скапливалась грязь, которую пожирали свиньи.[1201]1201
Steinberg, 112, 122; McNeur, 6–44, 134–74; McNeur, «The ‘Swinish Multitude’: Controversies over Hogs in Antebellum New York», Journal of Urban History 37, no. 5 (2011): 639–60.
[Закрыть]
Скот продолжал стекаться в города, но городское проживание становилось все более опасным как для него самого, так и для людей, потреблявших его мясо и молоко. Молочные заводы концентрировали коров возле пивоварен и винокурен, где они могли питаться отработанным зерном – пойлом, остававшимся после окончания процесса перегонки. Это было выгодно, но коров плохо кормили, они болели и производили бледно-голубое молоко, которое смешивали с мелом, патокой, мукой, крахмалом, парижским гипсом, сахаром и другими веществами, пока оно не становилось похожим на обычное молоко по консистенции и цвету.[1202]1202
Robichaud, 17–65; Burrows and Wallace, 786; о решении проблемы городских молочных заводов см. в книге Kendra Smith-Howard, Pure and Modern Milk: An Environmental History since 1900 (New York: Oxford University Press, 2014).
[Закрыть]
Молоко с городских молочных заводов способствовало росту детской смертности в Нью-Йорке и других городах. Являясь основным продуктом питания городской бедноты, молоко несло в себе «микробы туберкулеза, тифа, скарлатины, дифтерии и стрептококка». Болезни исходили от больных коров, а владельцы молочных ферм усугубляли проблему, разбавляя молоко нечистой водой. Однако уже в 1902 году Комиссия по общественному здравоохранению Нью-Йорка обнаружила, что более половины из почти четырех тысяч проверенных образцов молока были фальсифицированы. Операторы молочных заводов оставляли фальсифицированное молоко, подвергая его заражению микробами, переносимыми мухами и паразитами. Улучшение ситуации с поставками молока началось примерно в 1890 году, но кардинальные изменения произошли только в начале двадцатого века благодаря пастеризации, регулярной проверке коров и охлаждению. Улучшения коррелировали со снижением уровня младенческой смертности.[1203]1203
Гордон, 81–82, 209, 220.
[Закрыть]
Плотное скопление животных и людей в городе позолоченного века превратило накапливающиеся органические отходы, которые они производили, в насущную городскую проблему. После того как замкнутый цикл был разорван, города превратились в множество патрубков, извергающих сточные воды, мусор, дым и другие загрязняющие вещества в окружающие воды и земли. Новое изобилие воды в городах усугубило загрязнение. До 1870-х годов практически все отходы жизнедеятельности человека попадали в выгребные ямы, за опорожнение которых владельцы платили частным перевозчикам. То, что не вывозили ночные уборщики, попадало в почву. Когда доступ к фермам сократился, ночные жители Нью-Йорка сбрасывали большую часть ночного грунта в реки и гавани, окружающие Манхэттен. Те здания и улицы, которые были подключены к новым канализационным системам, сбрасывали свои отходы прямо в реки и гавань.[1204]1204
Штайнберг, 116–18, 122; Тарр, 113.
[Закрыть]
Среднесрочный эффект новых канализационных систем был парадоксальным. Канализация, из-за дороговизны подключения к ней, не ликвидировала выгребные ямы и уборные, но как только инженеры решили технические проблемы, позволявшие канализационным газам выходить обратно в дома, богатые и средние домохозяева стали устанавливать на предприятиях и в домах водяные шкафы – туалеты со смывом. Вода и фекалии из этих унитазов, а также вода, ежедневно используемая в быту, попадали в выгребные ямы в домах, не подключенных к канализации, быстро заполняя их и увеличивая количество отходов, стекающих в почву. Когда дома и предприятия подключили к канализации, количество отходов, попадающих в почву, уменьшилось, но увеличилось количество отходов, попадающих в ручьи, реки, озера, заливы и океан.[1205]1205
Тарр, 114–22; Розен, 30; Платт, 160–61.
[Закрыть]
Бурение, проведенное в 1879 году на водовыпуске на Западной Тринадцатой улице в Нью-Йорке, показало масштабы загрязнения. Бур прошел через 175 футов сточных вод и ила, прежде чем оказался на дне гавани. Сочетание азота из разлагающихся отходов городских районов и фосфора, попавшего в реки в результате вырубки лесов в долине реки Гудзон, привело к эвтрофикации. Снижение уровня кислорода в городских водах привело к тому, что многие из них не могли поддерживать жизнь. По мере увеличения количества осадков и эвтрофикации городские рыбные хозяйства сокращались, ликвидируя еще один дешевый и распространенный источник пищи для бедных. Один репортер в 1869 году считал, что «Нью-Йорк без устриц перестал бы быть Нью-Йорком». Некоторые устричные плантации в городе сохранились, но поскольку устрицы были фильтрами, они стали токсичными, и их потребление стало опасным для всех.[1206]1206
Steinberg, 118–25.
[Закрыть]
Предполагалось, что слив сточных вод в реки и гавань разбавит их и заставит исчезнуть, но приливы и отливы вливались в воду так же, как и вытекали. В 1880 году репортер, писавший о Кони-Айленде, который стал пляжным курортом Нью-Йорка, заметил, что «неприятно, когда, кувыркаясь в прибое, вам в лицо ударяет кочан гнилой капусты или туша дохлой кошки». Неопровержимые утверждения были редкостью в прессе позолоченного века, но это было одно из них.[1207]1207
Там же, 123.
[Закрыть]
Отходы, попадавшие на Кони-Айленд, проходили через систему канализации, но на улицах оставалось много мусора. Больше всего грязи было в бедных кварталах. Когда в конце 1880-х годов Уильям Дин Хоуэллс писал роман «Опасность новых удач», он включил в него экскурсию по Гринвич-Виллидж, тогдашним нью-йоркским трущобам.
Некоторые улицы были более пригодными, чем другие; по крайней мере, был выбор; на всех тротуарах стояли коробки и бочки с кухонными отбросами, но не везде были навозные кучи… Однажды воскресным утром, когда зима еще не совсем ушла, вид тающего в кучах замерзшего мусора, а особенно отвратительных краев гниющего льда у водосточных труб с пластами макулатуры и соломенного мусора, яичной скорлупы и апельсиновой кожуры, картофельных шкурок и огрызков сигар привел его в уныние.[1208]1208
Уильям Дин Хоуэллс, «Опасность новых удач» (1890, переиздание Нью-Йорк: Новая американская библиотека, 1965), 260.
[Закрыть]
Практически нерегулируемый частный рынок недвижимости стимулировал рост городов и порождал крайности: все более пышные и аляповатые особняки богачей вдоль широких проспектов, с одной стороны, и переполненные жилые дома без достаточного пространства, света и удобств вдоль узких улиц – с другой. Владельцы недвижимости и застройщики легко уживались с новыми муниципальными службами, которые управляли водоснабжением и канализацией. Города предоставляли услуги, которыми владельцы недвижимости могли пользоваться по своему усмотрению, и открывали общественные пространства по низкой цене для частной застройки, в то же время практически не устанавливая эффективного контроля за использованием частной собственности.
Вертикальный ландшафт улиц – под землей, на земле и в воздухе над улицами – наглядно демонстрировал, как государственная политика создавала городскую инфраструктуру без особых затрат для застройщиков и с выгодой для владельцев недвижимости. Когда в 1880-х годах Томас Эдисон, самый известный американский изобретатель, переехал из Менло-Парка, штат Нью-Джерси, в Нью-Йорк, чтобы построить свою электростанцию на Перл-стрит в попытке электрифицировать Нью-Йорк, он объявил себя «деловым человеком. Я обычный подрядчик по строительству электроосветительных установок и собираюсь взять длительный отпуск в деле изобретательства». Он осознавал возможности, которые открывало расширение городов и их потребность в инфраструктуре, а также ограниченность пространства, доступного для этой инфраструктуры.[1209]1209
A. J. Millard, Edison and the Business of Innovation (Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 1990), 3.
[Закрыть]
Эдисон решил проложить свои провода под землей. Когда он прокладывал несколько миль трубопроводов, ни он, ни его рабочие не были одиноки. Он встречал К. Э. Эмери из Нью-Йоркской компании парового отопления «в любое время суток: я – за своими трубами, он – за своими». Трубы компании подавали пар с центральных станций для отопления новых зданий, которые в противном случае нуждались бы в больших котлах и столкнулись бы с проблемой транспортировки угля по переполненному городу. Эту проблему Чикаго не решал до тех пор, пока в начале XX века не построил обширные туннели для транспортировки угля и других грузов с железных дорог в центр города.[1210]1210
Burrows and Wallace, 1052–53; Thomas A. Edison, The Papers of Thomas A. Edison, ed. Reese Jenkins (Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 1989), 817–18; «Infrastructure», in The Encyclopedia of Chicago, ed. James R. Grossman, Ann Durkin Keating, and Janice L. Reiff (Chicago: University of Chicago Press, 2004), 413–14.
[Закрыть]
Эдисон мог строить ночью, потому что газовое освещение уже изменило американские города: количество уличных фонарей быстро росло, особенно после 1860 года. Свет также обозначал классы. Когда солнце садилось, богатые районы города все еще сверкали. Трущобы и бедные районы оставались темными.[1211]1211
Питер К. Болдуин, В часы ночи: Life in the Nocturnal City, 1820–1930 (Chicago: University of Chicago Press, 2012), 18–19.
[Закрыть]
На самих улицах люди смешивались с транспортными средствами, которые перевозили их и их товары. В отличие от поездов, конные трамваи позволяли проехать по всей линии. Они останавливались для женщин, но замедляли ход только для мужчин и мальчиков, которым приходилось спрыгивать на землю. В таких городах, как Питтсбург и Сан-Франциско, холмы ограничивали возможности использования конных экипажей, и только появление фуникулеров и электрических тележек позволило расширить транспортную систему. В 1887 году в Ричмонде, штат Вирджиния, были открыты первые линии электрических трамваев, которые ходили в два раза быстрее и перевозили в три раза больше пассажиров, чем конные, а к концу 1880-х – началу 1890-х годов электрические трамваи появились в Бостоне, Чикаго (где также использовались фуникулеры), Бруклине и других городах. Маршалл Филд разместил свой универмаг на Стейт-стрит в Чикаго по той же причине, что и Macy’s на Геральд-сквер в Манхэттене: это были центральные трамвайные узлы.[1212]1212
Francis G. Couvares, The Remaking of Pittsburgh: Class and Culture in an Industrializing City 1877–1919 (Albany: State University of New York Press, 1984), 32–33; Burrows and Wallace, 1098–99; Gordon, 147; Warner, 28, 34, 49, 53, 57, 76, 88–90.
[Закрыть]
Городская инфраструктура также возвышалась над улицами. Над Бродвеем в Нью-Йорке и Южной Ла-Салль-стрит в Чикаго висели провода, натянутые на столбах. «Небо, – писал один английский посетитель Нью-Йорка в 1881 году, – заслонено бесчисленными нитями проводов», которые принадлежали телеграфным и телефонным компаниям, предоставлявшим дорогостоящие услуги для ограниченного круга клиентов. Они стали неотъемлемой частью больших и малых городов. Даже в шахтерском буме Томбстоуна, штат Аризона, были свои телеграфные и телефонные провода. В 1880-х годах электрические компании, в большинстве своем работавшие по франшизе и имевшие ограниченное число клиентов, прокладывали высоковольтные провода в крупных городах, а не уходили под землю, как это делал Эдисон. Электрические трамвайные линии привнесли еще больше воздушных высоковольтных проводов, которые смешивались и пересекались с телефонными, телеграфными и биржевыми проводами. Ужасная смерть обходчика линии Western Union, чье тело в течение часа висело над улицами Манхэттена с синим пламенем, вырывавшимся изо рта, символизировала опасность, которую они представляли. Даже косвенный контакт с проводами был опасен. Если телефонный провод пересекал высоковольтную линию электропередачи, человека, снявшего трубку, могло ударить током.[1213]1213
Burrows and Wallace, 1068; Richard R. John, Network Nation: Inventing American Telecommunications (Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press, 2010), 222; Andrew C. Isenberg, Wyatt Earp: A Vigilante Life (New York: Farrar, Straus & Giroux, 2013), 120–21.
[Закрыть]
К 1885 году тридцать две компании сообщили, что по улицам Нью-Йорка протянуты провода. В самой густой точке, на столбе высотой 96 футов в Нью-Йорке насчитывалось сто отдельных проводов. В Нью-Йорке в 1880-х годах из-за опасности многие провода были вынуждены упрятать под землю. Подземные или надземные, линии все равно проходили по общественным улицам, и компаниям требовалось разрешение на их использование. За эту привилегию они часто платили взятками и откатами олдерменам и членам городского совета. Общественность получала мало возмещения.[1214]1214
Иоанн, 221–23.
[Закрыть]
Новые технологии не сразу становились преобразующими. Создавая лампу накаливания, свое самое известное изобретение, Эдисон преуспел там, где другие потерпели неудачу, поняв, как исправить слабое место – нить накаливания – в существующих конструкциях. Но чтобы создать электрическое освещение в помещении, ему нужно было разработать не только лампочку, но и всю систему освещения, от генерации до передачи электроэнергии. Именно это привело его в Нью-Йорк в 1881 году, но, несмотря на надежды Эдисона, его станция на Перл-стрит и его лампа накаливания оказались весьма незначительными для города в 1880–1890-х годах. Станция на Перл-стрит вырабатывала постоянный, а не переменный ток, который был одновременно дорогим и не мог распространяться далеко от генераторной станции.[1215]1215
Thomas Parke Hughes, Networks of Power: Electrification in Western Society, 1880–1930 (Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 1983), 31–38; Hughes, American Genesis: A Century of Invention and Technological Enthusm, 1870–1970 (New York: Viking, 1989), 73–75.
[Закрыть]
Только обеспеченные люди могли позволить себе электричество Эдисона. Удрученный, Эдисон жаловался, что его лампочка оказалась «громоздким изобретением». Как и многое другое, что он делал, станция оставалась скорее чудесной новинкой, чем прибыльным бизнесом. У него не было возможности рассчитать себестоимость продукции, а поскольку в системе не было счетчиков, он не мог измерить потребление. Однако он мог продавать франшизы в американских и европейских городах. Электрический свет Эдисона превратился в аксессуар узкого круга модных городских пространств: театров, ресторанов, банков, офисных зданий, отелей и дорогих магазинов. Он стал игрушкой богатых, и когда миссис Корнелиус Вандербильт пришла на «Бал века» Алвы Вандербильта в 1882 году в костюме электрической лампочки в атласе, отделанном бриллиантами, она нечаянно запечатлела новую технологию в совершенстве. В 1888 году в Нью-Йорке на Перл-стрит было всего 710 клиентов и горело всего 16 377 ламп. Это был образец показного потребления.[1216]1216
Hughes, Networks of Power, 38–46; Steven W. Usselman, «From Novelty to Utility: Джордж Вестингауз и бизнес инноваций в эпоху Эдисона», Business History Review 66, No. 2 (1992): 264–66; Roger L. DiSilvestro, Theodore Roosevelt in the Badlands: A Young Politicians Quest for Recovery in the American West (New York: Walker, 2011), 103; Hughes, American Genesis, 73–74.
[Закрыть]
Тем, кто находился вне зоны действия электростанции, приходилось полагаться на индивидуальные установки в частных домах и офисах. Дж. П. Морган, уже будучи ведущим нью-йоркским банкиром, установил систему в своем новом особняке на Мэдисон-авеню. Она освещала триста ламп, но механизмы поначалу сотрясали дом, а их шум и дым мешали соседям. Инженер должен был дежурить с 15:00 до 23:00, когда система работала. В 1883 году из-за неисправной проводки загорелась библиотека Моргана, а вся система страдала от «частых коротких замыканий и многочисленных поломок». Зять Моргана не был впечатлен. Завод «не пользовался популярностью ни в семье, ни у соседей».[1217]1217
J. Пирпонт Морган – Шерберну Итону, 27 декабря 1882 г., и примечания, в Edison, The Papers of Thomas A. Edison, 6: 750–51.
[Закрыть]
Влияние электрического света в значительной степени проявилось в следующем столетии благодаря усилиям других людей. Джордж Вестингауз также стал изобретателем, но он никогда не занимал столь значительного места в американской культуре. Вестингауз плыл по течению конца девятнадцатого века, а не боролся с ним. Он был инженером и ветераном Союза. Гражданская война научила его ценить дисциплину, иерархию и субординацию в управлении большими организациями. Слава Эдисона зиждилась на дорогих потребительских товарах; Вестингауз воспользовался тем, что экономика позолоченного века делала акцент на товарах для производителей. Он создавал рынок для незначительных улучшений в уже существующих технологиях, а не для создания революционных новинок. Вестингауз процветал, совершенствуя железнодорожные тормоза. Он понимал потребности корпораций в единообразии, предсказуемости и контроле.[1218]1218
Стивен В. Уссельман; Регулирование железнодорожных инноваций: Business, Technology, and Politics in America, 1840–1920 (New York: Cambridge University Press, 2002), 131, D3–3Y 137, D8^ 159–60.
[Закрыть]
Вестингауз изобрел автоматический железнодорожный пневматический тормоз в 1869 году. Как и в случае с лампой накаливания Эдисона, «изобрести» – обманчивое слово. Практически все изобретения того периода возникли в американских мастерских и фабриках. Существовало множество версий большинства устройств. Закрепление за каждым из них одного изобретателя и выдача патента часто приводили к бесконечным судебным разбирательствам. Вестингауз стал грозным участником судебных процессов. Его адвокаты успешно противостояли железнодорожным корпорациям, которые презирали патенты и патентообладателей. Железные дороги покупали новые изобретения или получали лицензию на их производство, модифицировали их, а затем заявляли о них как о своих собственных. Вестингауз блокировал их тактику. Он отказался лицензировать производство своих тормозов. Он не просто судился, он убедил железные дороги, что новая тормозная система будет работать только в том случае, если тормоза на всех вагонах будут унифицированы и являться частью единой системы. Он убедил общественность в том, что новые тормоза критически важны для общественной безопасности, и оказал давление на железные дороги, чтобы те приняли их. Они сделали это для пассажирских поездов, но потребовалось федеральное законодательство, чтобы сделать их обязательными для грузовых поездов почти четверть века спустя.[1219]1219
Usselman; «From Novelty to Utility», 251–304; Usselman, Regulating Railroad Innovation, 133–34, 137–39, 159–60.
[Закрыть]
Использование патента Вестингаузом выявило неоднозначность инноваций. Количество патентов, выданных в конце XIX века, резко возросло, но это вовсе не означало, что американцы стали более изобретательными. Это означало, что старая система, в которой все время что-то подкручивали, и то, что было своего рода открытым источником инноваций XIX века, уступает место системе, в которой некоторые успешные изобретатели получали монопольные права на то, что часто было обычными идеями. В результате изобретения могли как подавляться, так и защищаться. Вакуумный тормоз был опасным конкурентом воздушного тормоза Вестингауза, но, получив патенты на вакуумные тормоза и выкупив конкурентов, он блокировал конкуренцию и обеспечил монополию на свои воздушные тормоза. Он сохранил свое состояние.[1220]1220
Usselman, Regulating Railroad Innovation, 135–37.
[Закрыть]
Когда в 1890-х годах постоянный ток Эдисона и переменный ток Вестингауза столкнулись лицом к лицу, это было не соревнование. Вестингауз победил, но к тому времени Эдисон стал триумфатором как культурная фигура. Величайшим изобретением Эдисона остался Томас Эдисон, «волшебник из Менло-Парка».[1221]1221
Usselman, «From Novelty to Utility», 267; Hughes, American Genesis, 91.
[Закрыть]
В Нью-Йорке, а к 1890-м годам и в Чикаго, надземные железные дороги составляли самую значительную часть воздушной архитектуры города. Нью-йоркские «L» появились в 1870-х годах, остановились во время депрессии после 1873 года и возобновили свой рост с новыми хартиями штата в 1878 году. Они превратились в цирк спекуляций, манипуляций с акциями, финансовой нестабильности, судебных баталий перед коррумпированными судьями и постоянных политических разногласий. Все это было родиной Джея Гулда, и к 1881 году он и его компаньоны в значительной степени обеспечили себе контроль над Manhattan Elevated Railroad, холдинговой компанией, которая контролировала городские надземные линии.[1222]1222
Мори Клейн, Жизнь и легенда Джея Гулда (Балтимор, MD: Johns Hopkins University Press, 1986), 276, 282–91, 308–10, 330–31, 387–91, 474–75.
[Закрыть]
Вымышленные Уильямом Дином Хоуэллсом мистер и миссис Марч в романе «Опасность новых удач» упивались «дорогами L». «Они убивают улицы и проспекты, – признал мистер Марч, – но, по крайней мере, частично скрывают их, а это уже некоторое утешение; и они торжествуют над своими простертыми формами с диким ликованием, которое опьяняет. Эти изгибы „L“ на углу Вашингтон-сквер и чуть ниже Института Купера – самые красивые вещи в мире. Конечно, совершенно отвратительные, но несравненно живописные! И весь город такой».[1223]1223
Хоуэллс, 54.
[Закрыть]
Вымышленные марши присоединились к реальным миллионам людей на надземных железных дорогах. В 1881 году Манхэттенский надземный метрополитен перевез 75,6 миллиона человек. К 1884 году число пассажиров составило 96,7 миллиона. Бруклинский мост открылся в 1883 году, но только в 1885 году пассажиры «L» могли пересаживаться на канатную дорогу, идущую через мост, и пересаживаться на новые поезда Brooklyn Elevated Company. К 1886 году система перевозила 115 миллионов пассажиров в год по 5 центов за голову. Они путешествовали в порыве шума, дыма и гари на поездах, которые были постоянным раздражителем для ушей, носов и глаз всех, кто находился рядом с ними. Жители, над окнами которых громыхали поезда, подавали иски о причинении неудобств, с которыми железные дороги боролись с мрачной решимостью. Пассажиры жаловались на толпы, неудобства, аварии и задержки, но, как только поезда появились, город уже не мог функционировать без них. К 1891 году они перевозили 197 миллионов человек в год, внося значительный вклад в миллионный поток людей, стекавшихся в Манхэттен и из него каждый день.[1224]1224
Берроуз и Уоллес, 1053–56, 1058; Клейн, 474–75.
[Закрыть]
«L» тянулись к небу, но не возвышались над Чикаго и Нью-Йорком, потому что города росли не только вверх, но и наружу. Это тоже было связано с политической экономией и имело экологические последствия. Томас Эдисон, переехав в Нью-Йорк, лаконично изложил эту логику. Эдисон писал, что не имел ни малейшего представления о стоимости нью-йоркской недвижимости, когда начал строительство вокзала на Перл-стрит. Он построил здание на «самой плохой, ветхой и пустынной улице», и 50 футов фасада обошлись ему в 155 000 долларов, что почти в восемь раз больше, чем он рассчитывал заплатить. «Тогда я был вынужден изменить свои планы и подняться вверх по… воздуху, где недвижимость была дешевой. Я… построил свою станцию из конструкционного железа, запустив ее высоко вверх».[1225]1225
Burrows and Wallace, 670, 1050–53; Rosen, 36–38, 44–45; Edison, The Papers of Thomas A. Edison, 820.
[Закрыть]
К 1880-м годам слово «небоскреб» перешло от описания самого высокого паруса на мачтовых судах к обозначению высоких зданий. Они стали ответом рынка недвижимости на рост стоимости земли и концентрацию новых городских предприятий, которым требовалось разместить значительные объемы документации и большое количество офисных работников на одной площадке. Строить вверх было дешевле, чем наружу.[1226]1226
Оксфордский словарь английского языка приводит ранние варианты употребления этого слова. Берроуз и Уоллес, 1050–52.
[Закрыть]
Корпорации делали Нью-Йорк своей штаб-квартирой даже в тех случаях, когда, как Standard Oil и American Tobacco, они возникали в других местах.
Наряду с банками они действовали как магнит, привлекая крупные юридические и страховые компании, которым также требовались централизованные офисные помещения. Как говорилось в статье, опубликованной в журнале Building News в 1883 году и озаглавленной «Sky Building в Нью-Йорке», капиталисты «обнаружили, что в воздухе много места и что, удвоив высоту зданий, можно достичь того же результата, как если бы остров был растянут в два раза больше его нынешней ширины».[1227]1227
Джеймс Макграт Моррис, Пулитцер: A Life in Politics, Print, and Power (New York: Harper, 2010), 278–79, 286–87; Burrows and Wallace, 670, 1050–53.
[Закрыть]
Новые технологии позволили зданиям подняться вверх. Безопасный лифт, изобретенный Элишей Отисом в 1852 году, перемещал людей и вещи с этажа на этаж без лишнего труда. Трубы подавали пар с центральных заводов для отопления новых зданий. В Нью-Йорке на крышах зданий выросли водонапорные башни, чтобы создать необходимое давление для подачи воды и спринклеров для тушения пожаров. Здания стали слишком большими, чтобы пожарные лестницы и брандспойты могли добраться до верхних этажей, и новые системы водоснабжения обеспечили им защиту. Но самым важным новшеством стало использование железа и стали в новых революционных конструкциях, прикрытых каменными и кирпичными экстерьерами. Вместо толстых несущих стен из каменной кладки в этих зданиях использовалась клетчатая или каркасная конструкция, которая позволяла делать тонкие стены, обеспечивая большую площадь, большие окна и, соответственно, больше внутреннего света. Питтсбургские производители стали и железа осознали, что рынок сбыта их продукции значительно расширился. При этом он также вышел за рамки их возможностей по его обеспечению. Кливленд, который уже был портом для железной руды озера Верхнего, направлявшейся в Питтсбург, начал комбинировать эту руду с пенсильванским углем для развития собственной сталелитейной и железоделательной промышленности.[1228]1228
Burrows and Wallace, 670, 1050–52; Harold C. Livesay, «From Steeples to Smokestacks: Рождение современной корпорации в Кливленде», Томас Ф. Кэмпбелл и Эдвард М. Миггинс, редакторы, Рождение современного Кливленда 1865–1930 (Кливленд, OH: Историческое общество Западного резерва, 1988), 57–58.
[Закрыть]
К концу века в Нью-Йорке насчитывалось триста зданий высотой в девять и более этажей, а в 1889 году Джозеф Пулитцер, издатель нью-йоркских газет, начал строить самое высокое офисное здание на планете, чтобы разместить в нем свой New York World. Он заменил отель French’s Hotel на углу Парк-Роу и Франкфуртской улицы пятнадцатиэтажной башней высотой 345 футов с позолоченным куполом, который, как предполагалось, был виден с расстояния сорока миль в море. Эдисон предоставил динамо-машину для освещения здания восемьюдесятью пятью сотнями лампочек.[1229]1229
Берроуз и Уоллес, 1051–52.
[Закрыть]
Не Нью-Йорк, а скорее Чикаго породил американский небоскреб. Огромный рост города – почти удвоение каждое десятилетие – привел к тому, что к 1890 году в нем проживало более миллиона человек, и он обогнал Филадельфию, став вторым по величине городом страны. Поскольку недвижимость в центре города стоила дорого, чикагские архитекторы заимствовали опыт французов, которые были лидерами в области железного строительства. Эйфелева башня 1889 года была эквивалентна восьмидесяти одноэтажному зданию и на протяжении десятилетий оставалась самым высоким сооружением в мире. Луис Салливан, приехавший в Чикаго в 1873 году и присоединившийся к своему партнеру, Данкмару Адлеру, в 1881 году, усовершенствовал возможности здания с железным и стальным каркасом.[1230]1230
Pacyga, 131–32; David Garrard Lowe, «The First Chicago School», in The Encyclopedia of Chicago, ed. James R. Grossman, Ann Durkin Keating, and Janice L. Reiff (Chicago: University of Chicago Press, 2004), 28–29.
[Закрыть]
Здания Салливана отвечали деловым потребностям быстро растущего города, но они были еще и красивы. Используя сталь и железо, он добился удивительной деликатности, которая подчеркивала изгибы интерьера и перенимала дизайн зарождающегося модерна. Он заставил индустриальное казаться органичным, когда чугунные листья и цветы взбирались вверх среди геометрических форм. Салливан и Адлер создали самобытную американскую городскую архитектуру, но она столкнулась с сопротивлением консервативных архитекторов и многих владельцев недвижимости.[1231]1231
Розен, 27–28; Пацига, 133–34; Лоу, 28–29.
[Закрыть]
Особенно на верхних этажах, небоскребы позволяли жильцам находиться в городе, но не быть в нем, чей шум и суматоха, как жаловался один житель Нью-Йорка, превращали жизнь в «вечное сотрясение мозга». Они были отгорожены от уличного шума, но при этом имели много света и обширные виды. В городе XIX века улица вливалась в офисы; продавщицы яблок, сапожники, книжные агенты и другие продавцы вторгались в офисы и на работу. В небоскребах оператор лифта мог выступать в роли привратника, закрывая посетителям доступ на верхние этажи, если они не совершали утомительного подъема по лестнице. Небоскребы освободили жильцов верхних этажей, но они затемнили улицы и отрезали свет от небольших зданий под ними. Небоскребы воплотили привилегии капитала в сталь.[1232]1232
«Наши высотные здания», Чикаго Дейли Интер-Оушен (30 декабря 1888 г.): 10; Pacyga, 134; Helen Campbell, «The Tenement House Question», Sunday Afternoon: Ежемесячный журнал для домохозяек (апрель 1879 г.): 318.
[Закрыть]
Своим светом, тишиной и изолированностью верхние этажи офисного здания не могли быть дальше от другого характерного городского здания – доходного дома. В 1879 году журнал Harper’s Weekly опубликовал серию статей «Жизнь в доходных домах Нью-Йорка»: «Полмиллиона мужчин, женщин и детей живут сегодня в доходных домах Нью-Йорка, и многие из них в таком виде, который едва ли не позорит само язычество». Журналист сожалел о «полной убогости и несчастье, пороке и преступности, которые можно найти в двух шагах от нашей ратуши и даже на расстоянии вытянутой руки от многих наших церквей».[1233]1233
Yochelson and Czitrom, 32–77; «Tenement Life in New York», Harper’s Weekly (Mar. 22, 1879): 226–27.
[Закрыть]
Жилые дома XIX века также были продуктом растущей плотности населения и роста стоимости городской земли, а также отсутствия эффективного государственного регулирования того, что домовладелец может делать со своей собственностью. Не все бедняки жили в доходных домах, хотя их процент увеличился в период с 1870 по 1900 год, но большинство бедняков жили в тесноте и неизбежной грязи новых промышленных городов. К 1890-м годам в Чикаго и других городах сохранились домики рабочих – обычно не более 400–800 квадратных футов, но в основном в полуразрушенном виде, разделенные на маленькие комнаты и теснившиеся за более крупными четырех– или пятиэтажными зданиями. В Нью-Йорке и Бостоне ограничили высоту этих новых зданий и площадь участка, который они могли занимать, но были сделаны многочисленные исключения, а условия оставались ужасающими. В Чикаго домовладельцы застроили практически каждый дюйм своих городских участков жильем для бедных.[1234]1234
Клейнберг, 67–75; Хантер, 21–24.
[Закрыть]
Самые плохие дома на самом деле начинались как попытка создать образцовое жилье. Проект дома-гантели победил в конкурсе, организованном ежемесячным журналом Plumber and Sanitary Engineer. В Нью-Йорке гантели были пяти– или шестиэтажными, по четыре квартиры на этаже с узкой вентиляционной шахтой в центре для воздуха и света. Название, как видно из диаграммы, произошло от формы здания. В 1888 году журнал American Magazine описал их как «большие тюремные сооружения». Узкий внутренний двор в центре был «сырым, пахнущим вонью местом… Если бы этот изверг проектировал эти большие казармы, они не могли бы быть устроены более отвратительно, чтобы избежать любой возможности вентиляции». Главными признаками городского экологического кризиса были пожары и болезни, а доходные дома способствовали распространению и того, и другого. В случае пожара они были смертельной ловушкой, а санитарные условия были ужасными.[1235]1235
Мозес Ришин, Город обетованный: New York’s Jews, 1870–1914 (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1962), 82–83.
[Закрыть]