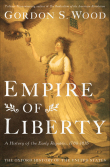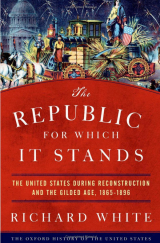
Текст книги "Республика, которую он защищает. Соединенные Штаты в период Реконструкции и Позолоченного века, 1865-1896 (ЛП)"
Автор книги: Ричард Уайт
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 80 страниц)
Партон, как это обычно делают либералы, превратил запутанное конкурентное настоящее в естественный закон с неизбежным результатом. Его закон современного бизнеса, в котором крупная рыба неумолимо поглощает мелкую, должен был привести к появлению крупных корпораций в каждой отрасли, но этого не произошло. Производство превратилось в экосистему с весьма специфическими нишами. Небольшие специализированные фирмы, которые были характерны для обрабатывающей промышленности Филадельфии, не просто представляли собой эволюционную стадию капитализма, обреченную на то, чтобы уступить место более развитым корпорациям. Присутствие корпораций или очень крупных фирм в одной части отрасли не создавало преимуществ, позволяющих им захватить всю отрасль. Филадельфийская текстильная промышленность выжила и процветала, несмотря на существование гораздо более крупных и высококапитализированных корпораций в Лоуэлле, штат Массачусетс.[537]537
Скрэнтон, «Концептуализация индустриализации Пенсильвании, 1850–1950», 9, 72–73; William G. Roy, Socializing Capital: The Rise of the Large Industrial Corporation in America (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1997), 5, 22, 78–79, 97, 256–57.
[Закрыть]
Крупные фирмы еще не стали синонимом корпораций. Крупные фирмы возникали в тех отраслях, где они могли придерживаться стратегии замены квалифицированного труда капиталом в виде машин, управляемых менее квалифицированными работниками. Они продавали стандартизированные товары с низкой маржой в огромных количествах. Например, механизированные мукомольные мельницы, совершившие революцию в американском питании, добавляли относительно небольшую стоимость к пшенице, которая проходила через их вальцы. Они зарабатывали на продаже огромных количеств муки на массовом рынке.[538]538
Весь этот раздел в значительной степени зависит от работы Филипа Скрэнтона «Бесконечная новизна».
[Закрыть]
Конкурентоспособная и динамичная, экономика должна была защищать первенство мелких производителей и предотвращать экономическую зависимость. В годы бума, которые в основном совпали с первой администрацией Гранта, многие политики настаивали на том, что даже с ростом масштабов производства так оно и есть. Однако «Кожевник из Галены» и «Сапожник из Натика» убедили не всех.
IVВ экономике происходили фундаментальные изменения: рост наемного труда. Когда структурные изменения в экономике заставили рабочих принять наемный труд не как временное, а как постоянное состояние, они воспротивились. Свободный труд зависел от независимости, и, как говорил Линкольн, постоянный наемный труд означал «либо зависимую природу, которая предпочитает его, либо импровизацию, глупость или особое несчастье», но с переходом 1860-х годов в 1870-е наемный труд становился не преходящим этапом жизни, а нормой. В 1873 году Массачусетское бюро статистики труда заявило, что наемный труд стал «системой, более широко распространенной, чем любая форма религии, или правительства, или вообще любой язык». Если не считать фермеров, то к 1870 году число подмастерьев превышало число самозанятых. Они не продавали продукты своего ума и рук. Они продавали свои часы и дни.[539]539
Стэнли, 60–62; Джентц, 82–83.
[Закрыть]
Свобода договора пыталась примирить наемный труд и независимость. Наемный работник оставался свободным, его контракт заключался по доброй воле. Он был обязан работодателю не больше, чем оговоренный в нем труд. Работодатель, в свою очередь, был должен работнику только зарплату. Рынок гарантировал свободу и независимость. Сочетание наемного труда и свободы контракта, однако, оставалось полным напряжений и противоречий, что признавали даже некоторые либеральные интеллектуалы, такие как Годкин. Будучи радикалом из рабочего класса, Годкин писал, что наемный труд – это такой же подневольный режим труда, как рабство или крепостное право. Написав анонимно на Севере в журнал «Америкэн ревью» он заявил, что нелепо рассматривать рыночные биржи труда как образцы свободы.[540]540
Stanley, 73–83; Daniel T. Rodgers, The Work Ethic in Industrial America: 1850–1920, 2nd ed. (Chicago: University of Chicago Press, 2014), 30, 32.
[Закрыть]
То, что я соглашаюсь сделать, чтобы спастись от голодной смерти, или спасти от голодной смерти свою жену и детей, или не имея возможности сделать что-либо еще, я соглашаюсь сделать по принуждению, точно так же, как если бы я согласился сделать это с пистолетом у головы; и условия, которые я ставлю при таких обстоятельствах, ни в коем случае не являются мерилом моих прав, даже «по законам торговли».[541]541
Майкл Дж. Сэндел, Недовольство демократией: America in Search of a Public Philosophy (Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press, 1996), 189–90.
[Закрыть]
В начале 1870-х годов сотрудники Массачусетского бюро статистики труда начали связывать угрозу дому и жалкое положение бедняков не с их моральными недостатками или плохим социальным влиянием, а с системой оплаты труда. Последствия низкой зарплаты означали, что мужчина лишался преимуществ домашней жизни. Когда мужчина не мог содержать жену, она была вынуждена работать, мыть полы или сдавать белье в прачечную: «Ни одна радостная улыбка не встречает вернувшегося отца, чей шестидневный заработок оплачивает лишь пять дней мяса». Бедность «убивает любовь и всякую привязанность, всю гордость за дом… и даже лишает дом всех его живительных сил». Бедняки искали утешения в салунах или на улице, пока их жены «трудились у стиральной машины и железной доски», выполняя работу других семей. Заставить жен работать за деньги означало лишить мужей права собственности на труд и услуги жен.[542]542
Стэнли, 148–55, цитата 151.
[Закрыть]
Свобода договора не давала решения. Заработная плата, достаточная для содержания семьи и дома, не могла быть отдана на откуп рынку, поскольку зарплата, недостаточная для содержания жены и детей, ставила под угрозу дом и республику. Даже самые ярые либеральные сторонники свободы договора признавали, что рабочие заслуживают такой зарплаты, которая позволяет мужчине содержать свою семью. В «Принципах политической экономии» Джона Стюарта Милля был принят тезис о том, что заработная плата рабочего должна обеспечивать «его самого, жену и нескольких детей». Если справедливая заработная плата должна обеспечивать иждивенцев рабочего, то это не может быть оставлено только на свободный выбор отдельных лиц. Заработная плата, по словам бостонского священника Джозефа Кука, должна включать «стоимость производства труда», если «наши институты хотят выстоять», а эта стоимость включала «расходы на содержание жен дома, чтобы они заботились о маленьких детях».[543]543
Хендрик Хартог, Мужчина и жена в Америке: A History (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2000), 101; Stanley, 138–48, 146–47.
[Закрыть]
Подобные жалобы отражают предположение, что роль экономики заключается в производстве жилья, а процветание необходимо для его поддержания.
Когда мужчины не зарабатывали достаточно, чтобы содержать жен и детей, экономика терпела крах. В этих жалобах также прослеживаются представления о доме. Мужчины владели и имели право на труд и имущество своих жен. Дом был домашним пространством, в котором жены оказывали услуги в обмен на поддержку. Если мужчины-рабочие не могли адекватно содержать жену, у них не было дома, даже если у них были жены. По словам рабочего радикала Джорджа Макнилла, бедный рабочий «был человеком без прав мужественности… бездомным, в глубоком значении дома».[544]544
Там же, 156–66, цитата 166.
[Закрыть]
Лишь немногие белые женатые мужчины имели жен, которые работали за зарплату вне дома. В конце XIX века лишь около 3–5 процентов замужних белых женщин вступали в ряды рабочей силы, хотя среди одиноких, овдовевших и разведенных женщин этот процент был гораздо выше. Замужние женщины работали, но их труд не отражался в экономической статистике. Большинство из них стирали, ухаживали за детьми, убирали дома и готовили, но они не получали никакой зарплаты. Однако, говоря о женатых мужчинах, которые не могли содержать жену, Макнилл включал не только тех, чьи жены работали за зарплату. Жены, которые занимались стиркой или помогали своим мужьям в их труде, не считались наемными работниками, но и не были обеспечены в том смысле, которого хотел Макнилл.[545]545
Уолтер Лихт, Индустриализация Америки в девятнадцатом веке (Балтимор, MD: Johns Hopkins University Press, 1995), 184.
[Закрыть]
Одинокие женщины, покидавшие отчий дом ради работы, считались женщинами-бездомными, выходящими за рамки привычных и принятых культурных категорий, и условия их жизни зачастую были незавидными. Зимой 1869 года один из авторов газеты «Чикаго Трибьюн» применил троп бездомности к женщинам, а не к мужчинам, лишенным домашнего пространства. Он сравнивал «богато одетую леди с авеню», подметающую «свою худосочную сестру из переулка», которая спешит из своей «неотапливаемой мансарды, чтобы выполнить свой ежедневный четырнадцатичасовой труд за гроши, слишком маленькие, чтобы заплатить за аренду и купить достаточно еды». Хуже нее были «бездомные скитальцы на наших улицах, которые тщетно ищут работу», а ниже их – «многие из нас, к чьей ужасной бедности добавилась болезнь или, может быть, они стали калеками в результате несчастного случая». Репортер вел хронику неспособности экономики поддерживать дома, необходимые для республиканского гражданства. Чем ниже по социальной лестнице опускались американцы, тем меньше шансов у них было найти жилье.[546]546
Джентц, 13.
[Закрыть]
Наемный труд, дрейфующие женщины, работники, чьи доходы не позволяли содержать дом, – все это подчеркивало проблемы с функционированием свободы либерального контракта, но вместо того, чтобы отказаться от свободного труда, рабочие создавали его новые версии. Они стремились использовать восьмичасовой день как мост между самосозиданием и республиканским гражданством. В основе требования рабочих о восьмичасовом дне лежали дебаты о взаимоотношениях между республиканской независимостью, домом и работой. Как заявил мэр Чикаго на первомайском митинге в 1867 году, восьмичасовой рабочий день стал более изнурительным, чем десять или двенадцать часов раньше. Это отразилось на них как на гражданах и членах семей, а также на производителях. Поскольку благосостояние республики зависело от способности рабочих людей развивать свои таланты, цель восьмичасового движения заключалась в том, чтобы дать рабочим время «читать, учиться и приобретать знания». Чем более осведомленными станут рабочие, тем более продуктивными они будут как производители и граждане. Эта борьба стала частью более масштабных усилий, о которых в конце войны писала «Бостон дейли ивнинг войс», ведущая рабочая газета города: «Все эти разговоры о республиканском равенстве и правах человека – как вода, пролитая на песок, если отказать рабочему в праве управлять теми делами, которые касаются его политического, социального и морального положения в обществе».[547]547
Ричард Шнейров, Труд и городская политика: Class Conflict and the Origins of Modern Liberalism in Chicago, 1864–97 (Urbana: University of Illinois Press, 1998), 32–36; David R. Roediger and Philip S. Foner, Our Own Time: A History of American Labor and the Working Day (New York: Greenwood, 1989), 101–19; Jentz, 81–82, 86–90.
[Закрыть]
Играя на старых идеалах совершенствования, прогресса, республиканской гражданственности и мужественности, кампания рабочих за восьмичасовой день поначалу казалась сметающей все на своем пути. И республиканцы, и демократы, признав наличие нового электората, способного зарабатывать на жизнь, откликнулись. Законодательные органы одобрили восьмичасовой день в Коннектикуте, Калифорнии, Нью-Йорке, Пенсильвании, Висконсине, Миссури и Иллинойсе. В 1867 году Конгресс обязал федеральных служащих работать по восемь часов в день.[548]548
Дэвид Монтгомери, «Забастовки в Америке XIX века», История социальных наук 4, № 1 (1980): 94.
[Закрыть]
Первые успехи оказались обманчивыми. За исключением федеральных работников, в законопроектах не было механизма, обеспечивающего их исполнение. Законы были заявлениями о благих намерениях. Владельцы крупных заводов и руководители корпораций предсказуемо выступили против реформы, но и мелкие предприниматели тоже. Многие владельцы небольших цехов считали себя такими же производителями, как и их рабочие, но давление конкуренции заставляло их подчеркивать собственные интересы как работодателей.[549]549
Адам-Макс Тучинский, Horace Greeley’s New-York Tribune: Социализм эпохи гражданской войны и кризис свободного труда (Итака, Нью-Йорк: Издательство Корнельского университета, 2009), 192–96; Джентц, 92–94.
[Закрыть]
В Чикаго городские власти и власти штата приняли законы о восьмичасовом рабочем дне, не предусмотрев механизмов их исполнения и наказаний за нарушение. В итоге вопрос был решен на улицах. В мае 1867 года квалифицированные рабочие прибегли к забастовкам, демонстрациям, маршам и моральным уговорам, чтобы заставить работодателей подчиниться закону. Работодатели в основном отказывались: в условиях национализации экономики они не могли ввести восьмичасовой день и при этом конкурировать с производителями за пределами Чикаго, которые этого не делали. В некоторых районах толпы – часто состоящие из мальчиков-подростков, которые составляли значительную часть рабочей силы и часто обеспечивали от 15 до 20% дохода семьи, – закрывали магазины и фабрики, не соблюдавшие закон.[550]550
Стивен Минц, Плот навоза: A History of American Childhood (Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press, 2004), 136; Jentz, 100–101.
[Закрыть]
Непокорность работодателей и агрессивность рабочих привели к конфликту либералов и реформаторов труда. Гораций Уайт, редактор «Чикаго Трибьюн», и Чарльз Дана, редактор «Чикаго Репабликэн», в будущем стали ведущими либеральными редакторами нью-йоркских газет, но в 1867 году Дана все еще оставался верен радикальным республиканцам-вигам. Различия в позициях этих двух людей по вопросу о восьмичасовом рабочем дне обнажили двусмысленность понятия «свободный труд» в индустриальном обществе. Свободный труд по-прежнему представлял собой автономных индивидуумов, свободно ведущих переговоры в условиях равенства, но с ростом числа людей, живущих «рука об руку» и зависящих от ежедневной зарплаты, автономии, переговоров и равенства было мало.
Дана поддерживал восьмичасовой день. Его аргументация упиралась в производственно-христианскую суть свободного труда. Республиканец считал, что «создатель богатства имеет первостепенное значение, а не продукт, который он создает». Он поддерживал экономическую программу республиканцев-неофитов и не возражал против вмешательства государства в экономику.[551]551
Джентц, 100–110.
[Закрыть]
Уайт и «Чикаго Трибьюн» также выступали за свободный труд, но Уайт делал упор на свободу договора. Он апеллировал к универсальным законам политической экономии, которые рабочие так и не смогли понять. Предполагая гармонию интересов между работодателем и работником, он уверял рабочих, что их работодатели справедливо разделят с ними прибыль. Забастовки были порождением беспечных рабочих, сторонников посредственности и безделья.[552]552
Там же, 94–97.
[Закрыть]
Либералы считали, что свободный труд освободил всех трудящихся. «Хозяева» уступили место работодателям, которые не могли принуждать работников к труду; кредиторы больше не могли сажать должников в тюрьму, а домовладельцы не могли конфисковать имущество за неуплату аренды. Свобода контрактов была выгодна всем рабочим, белым и черным, но Уайт разглядел новую опасность. Он считал профсоюзы, которые рабочие называли «сотрудничеством для взаимной защиты», формой принуждения. Уайт – и, в большей степени, работодатели и суды – определяли свободу договора как право человека на свободный выбор и инициативу без ненужных правительственных ограничений или вмешательства извне. Закон о восьмичасовом рабочем дне и профсоюзы воплощали в себе и то, и другое. Джордж Макнилл из Национального профсоюза насмехался над подобными аргументами: «Пустой желудок не может заключать контракты». Рабочие, которые «должны продавать свой труд сегодня или никогда… соглашаются, но не дают согласия, они подчиняются, но не соглашаются». Если свободный труд не приносит прожиточного минимума, значит, свободного труда не существует.[553]553
Коэн, 38–43; Джентц, 94–95.
[Закрыть]
Когда вспыхнуло насилие, газеты Chicago Tribune и Republican осудили его и потребовали подавить, хотя последняя продолжала поддерживать забастовку. Газета Уайта «Трибьюн» впала в истерику из-за угрозы собственности и призвала использовать артиллерию против «толпы». Работодатели при поддержке полиции подавили забастовку в июне 1867 года. Ирландские и немецкие рабочие потеряли веру в англо-американских реформаторов, возглавивших забастовку.[554]554
Джентц, 106–10.
[Закрыть]
Движение за восьмичасовой рабочий день вышло далеко за пределы Чикаго и стало еще одним клином, расколовшим радикальных республиканцев. В Массачусетсе Уэнделл Филлипс, видный аболиционист, воспринял движение как новую борьбу «за открытие, определение и установление истинных и прочных отношений между капиталом и трудом в обществе». Он хотел, чтобы каждый американский ребенок имел «насколько это возможно, равные шансы друг с другом». Каждый человек заслуживал «восемь часов для сна, восемь часов для работы и восемь часов для души». Но другие массачусетские радикалы делали упор на свободу договора и якобы незыблемые социальные законы. Две разные комиссии штата пришли к выводу, что продолжительность рабочего дня должна быть вопросом индивидуального договора и не подлежать вмешательству государства. Амаса Уокер, отец Фрэнсиса Амасы Уокера, был ведущим экономистом Массачусетса, и он провозгласил, что экономические законы – «превыше всех человеческих установлений» – а не законодательство должны определять продолжительность рабочего дня.[555]555
Дэвид А. Зондерман, Непростые союзники: Working for Labor Reform in Nineteenth-Century Boston (Amherst: University of Massachusetts Press, 2011), 11–18, 95; Cohen, 35–38.
[Закрыть]
Свободный труд обеспечивал идеалы независимости, гражданственности и мужественности, от которых рабочие не хотели отказываться, но до тех пор, пока он оставался связан с идеями свободы договора, он также давал их работодателям мощное оружие. Когда рабочие требовали вмешательства государства для обеспечения рабочего времени, они утверждали, что конкуренции и свободы договора недостаточно для получения справедливых результатов, независимых граждан и процветающих домов. Им придется сообща добиваться того, что они не могут обеспечить индивидуально. В противном случае им придется обратиться к государству и законам.
Конкуренция была идеологическим центром свободного труда, но к 1870-м годам и капиталисты, и рабочие стали с опаской относиться к издержкам конкуренции и все меньше верить в то, что она надежно обеспечивает процветание и прогресс. Рабочие добились реальных успехов во время экономического бума конца 1860-х годов. Инфляция, от которой они сильно пострадали во время Гражданской войны, сменилась дефляцией, которая, хотя и привела к реальным долгосрочным издержкам для экономики, поначалу повысила реальную заработную плату и покупательную способность рабочих. Поскольку это еще не была полностью национальная экономика, заработная плата на Среднем Западе и Западе оставалась значительно выше, чем на Северо-Востоке, в то время как стоимость жизни оставалась ниже на Среднем Западе. Однако по мере совершенствования железнодорожной сети фирмы конкурировали между собой на все больших расстояниях. Снижение заработной платы в одном месте оказывало давление на заработную плату в другом. Конкуренция, которую доктрины свободного труда рассматривали как источник равенства и процветания, казалось, превращалась в проблему, а не в решение.[556]556
Джентц, 19–24.
[Закрыть]
Уайт был прав в том, что рабочие пытались подорвать конкуренцию путем организации. В период с 1863 по 1867 год в Чикаго возникло девятнадцать новых профсоюзов. Эти профсоюзы были многонациональными, и их члены считали себя частью постоянного рабочего класса. Они уже не считали, как Линкольн, что наемный труд – это преходящий этап в их жизни. Большинство этих профсоюзов просуществовали до 1870-х годов. Они объединились в Чикагскую ассамблею труда и торговли, которая встревожила таких людей, как Уайт.[557]557
Там же, 23–24.
[Закрыть]
Заработная плата имела значение для рабочих, но еще большее значение имела их независимость и контроль над своей работой. Когда Партон описывал шахтера, который «начинает работу, когда ему вздумается, работает так быстро, как ему вздумается, или так медленно, и уходит домой, когда ему вздумается и чья „комната“ – это его собственная комната против всего мира», он описывал, как, по мнению американских рабочих, должна проходить работа. Именно это они подразумевали под контролем над работой. Они были гражданами республики, и их независимость не должна была исчезать, когда они вступали на рабочее место.
VСвободный труд обещал не просто процветание, а общее процветание, которое вознаграждало тех, кто работал. Однако на самом верху и в самом низу экономической шкалы эти правила, похоже, не действовали. Мало что объединяло Джея Кука, Джея Гулда и Джона Генри – сталевара – кроме железных дорог, меняющейся экономики и все более распространенного мнения, что процветание стало оторванным от труда и что вмешательство республиканцев в экономику даровало огромное богатство тем, кто не работал, зарабатывая на жизнь, и в то же время иногда наказывало тех, кто работал.
Кук, филадельфийский банкир и набожный евангелический христианин, помог спасти Союз; его состояние зависело от меняющейся экономики и роли правительства в ней. Он направил целую армию продавцов, чтобы убедить мелких инвесторов покупать облигации США во время Гражданской войны, продавая их на основе патриотизма и выгоды. Облигации принесли Куку богатство и оказались надежным вложением средств. Страна и инвесторы были благодарны ему. Он стал самым надежным банкиром в Соединенных Штатах.[558]558
Уайт, 10–13.
[Закрыть]
Кук был частным банкиром, финансистом, который был относительно редким типом до Гражданской войны, но стал обычным после того, как война переделала американское банковское дело. Иностранные инвестиции иссякли в первые годы Гражданской войны, и это, в свою очередь, способствовало накоплению американского капитала и появлению класса американских финансистов. Национальные банки предоставляли капитал для роста обрабатывающей промышленности, как правило, посредством займов, но, как бы ни были важны национальные банки, они играли лишь второстепенную роль в финансировании корпораций. Федеральные уставы национальных банков лишали их юридической гибкости, необходимой для размещения огромных выпусков облигаций, в которых нуждались железные дороги. Частные инвестиционные банки, брокерские конторы, рынки акций и облигаций стали необходимыми придатками корпоративного капитализма. Эти учреждения – банки Cooke, Fisk & Hatch, J. S. Morgan & Co., J. & W. Seligman & Co., Lehman Brothers и Kuhn, Loeb & Co. – изначально возникли для обслуживания государства: продажи государственных облигаций и предоставления займов. Многие из них были порождением Гражданской войны. Когда выпуски облигаций стали более крупными, инвестиционные дома создали синдикаты, чтобы разделить риски, покупая железнодорожные облигации ниже номинала, а затем перепродавая их инвесторам в США и Европе с наценкой.[559]559
Beckert, The Monied Metropolis, 243; Roy, 115–43.
[Закрыть]
Частные инвестиционные банки служили брокерами при продаже облигаций правительства и железных дорог, а вокруг банков, подобно морским птицам, кружащим вокруг рыбацких лодок, вились брокеры и спекулянты, крупные и мелкие, которые торговали бумагами – акциями, облигациями, казначейскими векселями, гринбеками и финансовыми бумагами всех видов, которые выпускала эта система. В период с 1864 по 1870 год число банкиров и брокеров увеличилось в десять раз и составило около 1800 человек в Нью-Йорке, финансовой столице страны. Когда в конце войны правительство сократило заимствования и начало выводить из обращения облигации и векселя, это высвободило большой объем капитала для других инвестиций.[560]560
Бенсел, 248–51.
[Закрыть]
Поскольку Соединенные Штаты оставались в основном сельскохозяйственной экономикой, спрос на деньги следовал за циклами посадки и сбора урожая. Зимой и летом банки штатов и регионов, как для получения более высоких процентов, так и для выполнения требований закона, размещали депозиты в национальных банках Нью-Йорка. Банки предоставляли эти деньги брокерам и спекулянтам на Уолл-стрит в качестве кредитов до востребования, подлежащих оплате по первому требованию. В период с 1868 по 1878 год кредиты до востребования составляли около трети от общего объема кредитов в нью-йоркских национальных банках. Весной и осенью нью-йоркским банкам приходилось отправлять деньги обратно в банки-корреспонденты, которые забирали свои вклады для финансирования посадок и сбора урожая.[561]561
Ричард Силла, «Федеральная политика, структура банковского рынка и мобилизация капитала в Соединенных Штатах, 1863–1913», Журнал экономической истории 29, нет. 4 (1969): 659–65; John A. James, Money and Capital Markets in Postbellum America (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1978), 9–10, 25, 27–28, 60–62, 67–71, 97–104, 118–21, 125–48, 234–35, 242–43.
[Закрыть]
Весна и осень означали опасные времена на финансовых рынках Нью-Йорка. Когда денег становилось мало, брокеры и спекулянты должны были иметь возможность продать ценные бумаги, чтобы выручить деньги для выполнения своих обязательств. Если цены на акции и облигации падали, когда банки обращались за кредитами, начиналась паника. Инвесторы сбрасывали ценные бумаги, заемщики объявляли дефолт, а слухи о неплатежеспособности банков вызывали бегство вкладчиков. В результате брокеры, банки и предприятия, нуждающиеся в деньгах, могли превратиться в финансовую спираль смерти.[562]562
Бенсел, 263–65; Силла, 678–85; Джеймс, 63.
[Закрыть] Поддержание денежной массы в равновесии и предотвращение паники зависело от вмешательства чиновников Казначейства, что было одной из тех вещей, которые ненавидели либералы. Это также означало, что такие люди, как Кук и Гоулд, занимались культивированием этих чиновников, а также конгрессменов и президента. От этого зависело их состояние.
После войны Кук продолжал полагаться на свои связи в Вашингтоне, наработанные благодаря его брату Генри – эффективному лоббисту, но ужасному банкиру. С выходом федерального долга государственный бизнес Кука неуклонно сокращался. Поэтому он обратился к железным дорогам. Он задействовал свой старый круг инвесторов для строительства Northern Pacific и продолжал работать с президентом и конгрессменами, чтобы добиться дальнейшей помощи для этой железной дороги. Он поддерживал политические отношения с республиканцами, как индивидуальные, так и коллективные, которые сложились у него во время Гражданской войны. Профессиональные дружеские связи Кука имели большое значение, поскольку его состояние зависело от государственного бизнеса и государственных субсидий. Республиканский национальный комитет обратился к Куку за средствами для предвыборной кампании Гранта в 1872 году, и Грант стал случайным гостем в поместье Кука Огонтц под Филадельфией. Президент, у которого было мало близких друзей, проводил больше времени проводил за столами Кука и ему подобных, чем в обществе сапожников.[563]563
Уайт, 75, 81–82.
[Закрыть]
Гулд также поддерживал президента Гранта, поскольку тот тоже проявлял большой интерес к монетарной политике правительства и его субсидиям на железные дороги. С самого начала первой администрации Гулд посещал и развлекал Грантов. Он подвел президента к гибельной пропасти.
Финансисты, такие как Гулд и Кук, – инвестиционные банкиры, брокеры и спекулянты послевоенной экономики – были теми людьми, которых американцы называли капиталистами. Они не доверяли им, потому что те были чужды миру свободного труда. Они не работали руками, не производили вещи. Капиталисты оправдывали свое вознаграждение риском, который они брали на себя, а не работой, которую они выполняли. Без их готовности рисковать своим состоянием, утверждали они, не будет ни прогресса, ни рабочих мест для трудящихся, ни процветания.
На самом деле капиталисты, как и все остальные в этом обществе, стремились как можно больше избегать риска, перекладывая его на других или хеджируя свои ставки. Это было вполне рационально, но создавало диссонанс между их риторическим оправданием своей роли в экономической системе и ее реальной практикой. Джей Гулд, как и Джей Кук, или, если уж на то пошло, Коллис П. Хантингтон и Том Скотт, ненавидели риск. Именно поэтому они стремились к субсидиям, влиянию на государственную политику, инсайдерской информации – все это склоняло игровое поле в их пользу. Они использовали любые средства, включая коррупцию законодательных органов и судей, чтобы получить такие привилегии.
Когда Гулд выращивал Гранта, он пытался избежать вполне конкретного риска. В 1869 году Гулд и «Бриллиантовый Джим» Фиск запустили сложный золотой угол. Они были странной парой. Гулд был застенчив, замкнут и чувствовал себя комфортно среди своих орхидей и семьи, а Фиск был во всех отношениях его противоположностью. Фиск будет застрелен в холле нью-йоркского отеля в 1872 году, став жертвой слишком успешного соблазнения. Поскольку в Соединенных Штатах сохранялись гринбеки, а Европа перешла на золотой стандарт, обмен гринбеков на золото был необходим для американской внешней торговли. Обмен происходил в Золотой комнате в Нью-Йорке, где купцы покупали золото, необходимое им для сделок со странами, перешедшими на золотой стандарт. Если Гулд и Фиск завладевали золотом, они могли выкупить купцов. Тем, кто занимался импортно-экспортной торговлей, пришлось бы выбирать между выплатой Гулду огромной премии и банкротством. При этом Гулд грозил поставить под угрозу американскую торговлю.[564]564
Мори Клейн, Жизнь и легенда Джея Гулда (Балтимор, MD: Johns Hopkins University Press, 1986), 99–115; Макфили, 320–31.
[Закрыть]
Успех схемы зависел от Министерства финансов, поскольку, если бы правительство продавало золото, это привело бы к краху. Чтобы убедиться, что правительство останется в стороне, Гулд и Фиск завербовали сначала шурина президента Гранта, затем всегда привлекательного Орвилла Бэбкока – личного секретаря Гранта. И наконец, они привлекли к своей схеме помощника министра финансов, отвечавшего за продажу золота. Возможно, они также предоставили долю в спекуляциях жене Гранта, Джулии. Когда Грант, которого Гулд убедил, что рост цен на золото поможет стимулировать экспорт сельскохозяйственной продукции, что будет способствовать процветанию и улучшению американского платежного баланса, понял истинные намерения этой схемы, он попросил казначейство вмешаться, чтобы прервать ее. Грант, однако, сообщил о своих намерениях сестре, пытаясь спасти ее и ее мужа от разорения, и Гулд, таким образом, узнал о решении президента продать золото. Он сменил позицию и стал продавать, а не покупать золото. Он предал своих коллаборационистов. Вероятно, он оказался в выигрыше, поскольку стремительный рост и резкое падение цен на золото привели к панике на Уолл-стрит. Черная пятница разорила тысячи людей, у которых не было доступа к родственнику президента.[565]565
Макфили, 320–29; Клейн, 80–81, 102–15.
[Закрыть]
Капиталисты и государственные чиновники стали крестными родителями корпораций, которые несли на себе отпечаток своего происхождения как компаний, зафрахтованных правительством для выполнения общественных целей. Многие города были корпорациями, как и университеты, компании по строительству каналов и первоначальный Банк Соединенных Штатов. Все они получили хартии, предоставляющие им особые права в обмен на служение общественным целям.
До Гражданской войны американцы демократизировали корпорации, сделав их уставы легкодоступными и ограничив чрезвычайные преимущества, которыми они пользовались, но не лишили их полностью сочетания общественной цели и особых привилегий. Правительства учреждали корпорации для выполнения конкретных задач, и они не могли выходить за рамки своих уставов. Корпорация имела юридическое лицо, отдельное от своих акционеров. Теоретически она была вечной, сохраняясь даже в том случае, если ее владельцы умирали или продавали свои акции. Корпорации могли привлекать средства путем продажи акций и облигаций, а многие штаты предлагали уставы, предусматривающие ограниченную ответственность акционеров: они не должны были отвечать за долги корпорации сверх своих собственных инвестиций. В обмен на все это американцы считали, что корпорации в большей степени, чем другие предприятия, обязаны служить общественному благу. Они отличались от обычных предприятий и подлежали регулированию, выходящему за рамки обычного бизнеса. До 1890-х годов корпоративная форма доминировала только в одном секторе американской экономики – на железных дорогах, которые считались общими перевозчиками, одинаково открытыми для всех, на дорогах общего пользования.[566]566
Мори Клейн, Генезис индустриальной Америки, 1870–1920 (Кембридж: Издательство Кембриджского университета, 2007), 106–7; Рой, 41–77.
[Закрыть]
Поскольку корпорации и железные дороги стали практически синонимами в Америке позолоченного века, железные дороги стали вездесущими в материальном плане, хотя их корпоративная структура делала их загадочными и непрозрачными. Чарльз Фрэнсис Адамс уловил это в 1869 году, когда вместе со своим братом Генри написал книгу «Главы Эри». Он назвал железные дороги «огромной, неисчислимой силой, практически внезапно обрушившейся на человечество; оказывающей всевозможное влияние, социальное, моральное и политическое, ставящей перед нами новые проблемы, требующие немедленного решения; изгоняющей старое, пока новое еще не созрело, чтобы заменить его… И все же, с любопытной твердостью материального века, мы редко воспринимаем эту новую силу иначе, чем как машину для получения денег и экономии времени».[567]567
Чарльз Фрэнсис Адамс, Главы Эри и другие эссе, изд. Генри Адамс и Фрэнсис Амаса Уолкер (Нью-Йорк: Х. Холт, 1886, ориг. изд. 1869), 335.
[Закрыть]