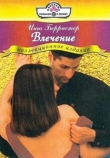Текст книги "Проклятие рода"
Автор книги: Алексей Шкваров
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 80 страниц)
В остальном сетовали на падение нынешних нравов. Пастор Веттерман рассказал, как в Бергене, молодой священник напился так, что спалил полгорода, а многие прихожане позволяют себе являться в церковь тоже навеселе. Время тянулось медленно и скучно. Наконец, все разом собрались уходить. Мужчины нахлобучили на головы свои суконные шляпы, попрощались с хозяином, не обращая ровно никакого внимания на его молодую жену, и отправились восвояси. Жены посеменили за ними. Любава вздохнула про себя:
– Слава Богу, все закончилось!
Один Веттерман задержался. Втроем посидели. Пастор вдруг заговорил взволнованно:
– Счастья хочу вам пожелать! Не знаю и не хочу знать лишнего, что свело вас в этой жизни, видно Господу нашему угодно так. Берегите друг друга, цените, уважайте.
Любава осмелела и, подняв на Веттермана свои чистые глаза, спросила простодушно:
– Что ж вы то, преподобный, не женаты? Ведь вера разрешает вам…
Замолчал пастор… Всего то сорок с небольшим ему было. Потер подбородок тщательно выбритый, подумал, ответил не сразу:
– Я в Кальмаре служил… Свен знает… – Купец наклонил голову. – По католическому обряду жениться запрещалось – целибат… но, был грех… встретил девушку… полюбил ее, хотя может она того и не заслуживала… Нет, – мотнул головой решительно, – любви заслуживает любой человек, не вправе мы судить, лишь Господь – владыка наш. Мария Магдалина тоже была блудницей, но Христос запретил… Кто без греха, спросил сын Божий?
– Она была грешницей? – тихо спросила Любава.
Преподобный не ответил, лишь покачал головой.
– Вы любили ее?
– Да! И мой грех состоит в том, что я нарушил каноны, нарушил свой целибат и вступил с ней в связь любовную.
– Вы же не монах были, правда?
– Это не важно, дитя моё… Дело в другом… Я чувствовал грядущие перемены, которые проникали к нам в Швецию с моей родины. Уже Лютер опубликовал свои знаменитые тезисы. Многие священники и монахи стали отходить от римской церкви, отказываться от целибата, обзаводиться семьями… Вот и я хотел… тем более у нас родился сын…
– И что помешало? – искренне удивилась девушка.
– Господь наказал меня… сбежала вместе с ребенком… – Священник опустил голову.
– Но почему? Вы же любили ее? – Не понимала Любава.
– Любил…
– В чем же причина?
– Причина здесь проста и стара, как мир… – В разговор вмешался Свен. – Вы не сказали главного, пастор… Сколько она взяла у вас денег перед тем, как сбежать? Она была блудница и ее интересовали только деньги преподобного. А католическая церковь была достаточно богата.
– Она ограбила церковь? – Изумилась Любава. – Пресвятая Богородица, грех-то какой!
– Можно сказать и так! – Кивнул Свен.
– Не совсем… – Возразил Веттерман. – Она взяла лишь то, что принадлежало лично мне.
– Имущество священника и есть имущество церкви! – Не согласился Нильссон. – В любом случае воровство один из страшных грехов. В своей жизни она нарушила почти все заповеди Моисеевы. И Господь наказал ее тем, что отвел от праведного человека, а пастора спас, избавив от ехидны…
– Не знаю, не знаю… – Покачал головой священник. – Мне не хотелось и не хочется думать о том, что все это она совершила обдуманно…
– А куда она сбежала? Да еще с ребенком? – спросила девушка.
– Представь, дитя моё, – ответил за него купец, – она была родом из Далекарлии, как и я. – Отвернулся в сторону, насупился, может сестру свою с племянницей беспутной вспомнил.
– Да! – Подтвердил Веттерман. – Из тех краев…
– И вы ничего не знаете о ребенке?
– Нет! – Снова сокрушенно пастор покачал головой. – Ну ладно, друзья мои, мне надо прощаться. Засиделся. Заглядывайте ко мне почаще. Всегда рад вас видеть. Дай вам Бог и Пресвятая дева Мария благополучия, счастья и всего того, что сопутствовать должно хорошей и доброй семье. – Веттерман заспешил откланяться.
Так они и продолжили жить дальше, девушка в своей светелке, Нильсон в своей, которая ему служила одновременно и кабинетом. Только теперь Любава днем все чаще засиживалась у мужа, вникала в нехитрые расчеты, начинала сама, что-то вписывать, выходила во двор, да на склады, пересчитывала товары, сообщала Нильсону, разобралась с ценами, точнее с правилами мены, деньги мало были в ходу, ходила к другим купцам, они сперва недоверчиво смотрели на девушку, но привыкли быстро. Кто-то даже припомнил одну вдову, что пережила мужа на целых 60 лет, научилась за него торговать, давала деньги под заклад драгоценностей, подняла детей, но, главное, приумножила состояние.
В начале лета, они с мужем уехали в Стокгольм, вырученное пристроить, да новых товаров набрать. Шведская столица не произвела особого впечатления на Любаву. Камень повсюду. Дома, узкие улочки, мощенные тем же камнем, в отличие от Москвы или Новгорода, где застилали деревянными плахами, давили своей тяжестью. Из-за скученности, дома тянулись вверх, закрывая собой небо, синевшее узкой полоской. Лишь площади открывали какое-то пространство, но над ними серой громадой нависали другие здания – выше, мощнее…
– Это монастырь Черных братьев, их церковь, это ратуша, – пояснял ей Свен, – это Стура Чуркан, городская церковь Святого Николая, нашего покровителя… а вот, – он показал рукой еще на одно черневшее невдалеке мощнейшее каменное сооружение, – это королевский замок. Но к нему приближаться не стоит… видишь сколько солдат и у ворот, и у на стенах. Там живет наш король Густав из рода Ваза.
– Зачем ему столько охраны? – хмыкнула Любава. – Он что так опасается за свою жизнь?
– Сейчас сложное время, дочка… – Нильсон и после свадьбы продолжал ее так называть. – Король изгнал датчан, мои земляки – далекарлийцы его поддержали в этом и чересчур возгордились. А гордыня к добру не приводит. Они восстали против Густава, посчитав, что он им должен пожаловать особые привилегии. А королю на войну с датчанами нужны были деньги. Он их нашел, но в Ганзе. А наш брат купец, ничего так просто не делает. А только с выгодой для себя. Ганза дала денег и Густаву и его противнику Кристиану. Когда пришло время возвращать, то где брать деньги если казна пуста?
– Ну и где? – поинтересовалась Любава, без особого интереса рассматривая одинаковые каменные строения, тянувшиеся повсеместно.
– За счет увеличения налогов. Вот далекарлийцы и восстали, считая, что своей помощью королю они навечно от них освободились.
– А это кто такие? Почему они так странно одеты? – Любава вдруг заметила на площади возле ратуши, где Свен собирался повернуть направо, вооруженных людей, своим внешним видом сильно выделяющихся среди остальных, как горожан, так и солдат. На них, как на женщинах, были одеты клетчатые коричневые юбки до колена, сверху накинуты серые плащи, скрывавшие металл доспехов, в руках они держали круглые небольшие щиты, а оставшаяся свободная рука, обнаженная до локтя покоилась на рукояти широкого, но не очень длинного меча.
– А…, эти… это шотландцы. – Пояснил Нильсон. – Наемники нашего короля. У него три таких отряда – немцы, шотландцы и англичане. Вот куда уходят деньги Ганзы.
– Что за люди такие? Почему так одеты?
– Их национальная одежда. Они живут вместе с англичанами на одном острове. Только в горах, а те на равнине. Видно в юбках им сподручнее карабкаться по кручам. Ненавидят друг друга! Поэтому Густав и взял их на службу. И тех и других.
– Зачем? – Не поняла Любава.
– Наш король очень подозрителен. Не верит никому. Англичане следят за шотландцами, те за англичанами, все вместе за шведами, а шведы за ними. И потом, топить в крови собственных крестьян, когда они восстают, как моих земляков, сподручнее чужими руками. – Пожал плечами купец.
– Почти как у нас… татар напускают… – Прошептала девушка, провожая взглядом странный отряд солдат в юбках.
– У нас татарами цыган называют. – Усмехнулся Свен.
– Почему? – Удивилась девушка.
– Кочуют из страны в страну. До недавнего времени их и не видели в Швеции. – Пояснил старик.
– Странно, как все…
– Вот мы и дома! – Показал Нильсон на ничем не приметный серый дом, стиснутый такими же каменными ульями. – Наша улица называется Чёпмангатан – Купеческая. Выходит она на восток, так и улица называется Эстерлонггатан – Восточная, прямо на Рыбную площадь – Фискаторъет, а за ней уже и берег.
Вздохнула Любава грустно, но делать нечего, надо обживаться.
Глава 15. Родила опальная княгиня!
Понесла Соломония… Как уж обрадовалась опальная княгиня, сперва не верилось, мало ли что, но на второй месяц все ей ясно стало…
– Ну что, Василий… кто из нас виновен? – Зло по ночам думалось. – За свою хворобу жену верную изничтожить решил? Господь и Пресвятая Богородица отомстит тебе за меня! Не будет наследника роду твоему проклятому, а ежели и будет, так не твой! Но уродиться чудище, от которого содрогнется земля русская, слезами, да кровью исходить будет, все за грех твой страшный, Василий!
Таилась Соломония, ныне сестра София… От всех пряталась, а более от наперстницы своей, что в келью игуменья ей подселила. Ох и пронырлива была черница Марфа. Толста, неуклюжа, нос, как обух у топора, но хитра, говорлива, суетлива. Как колобок все крутится, вертится вокруг, да около. И не поверишь, что толстая баба может быть такой проворной. Глаза и уши самой Ульяны в келье поселились! Но и Соломония не промах, каждый месяц, в дни положенные резала себе руку, локтя чуть выше, чтоб из-под рукава рясы не видно было, кровянила тряпку, да на видном месте, будто случайно, оставляла. Видела, как взглядом ухватывала Марфа лоскутки кровавые, исчезала сразу из кельи:
– В храм сбегаю, там помолюсь, сестричка моя во Христе… – лепетала что-то.
– К игуменье помчалась… – понимала Соломония.
И везло-то ей, живот рос, но совсем незаметно, лишь поясок на рясе распустила пошире. Одно беспокоило пока опальную княгиню – монастырь ведь, кормят сытно, но постная вся еда. И так старалась побольше себе положить. Да понимала на двоих-то недостаточно.
– Ну дай Бог, выношу!
Игуменья Ульяна успокоилась со временем. Шигона приезжал – страху-то нагнал на нее. Кричал так, что в ушах звенело, плеткой своей страшной грозил, самым дальним монастырем пугал. Стражникам и близко подходить к сестре Софии воспрещено было. Как Марфа прибегала, о лоскутках кровавых доносила, Ульяна тут же садилась на Москву писать – Поджогину.
Чем больше срок был, тем чаще другие мысли посещать стали Соломонию:
– Выносить-то выношу, а вот рожать как? Как в тайне сделать-то это? Как ребенка упрятать от злодеев? Донесут тут же или Поджогину или самому Василию… Избавиться от Марфы надобно сначала… – решила княгиня.
Полгода минуло, как пошла сама к игуменье. Поскреблась в келью. Зашла, поклонилась низко. Ульяна даже растрогалась:
– С чем сестра моя пожаловала?
– С просьбой, матушка! – Опять склонилась в поклоне низком Соломония.
– Присядь, милая, рассказывай – Ульяна показала на своё скромное ложе и сама рядом уселась.
– Матушка, – взмолилась Соломония, – переведи от меня сестру Марфу!
– Что так? – довольно холодно спросила игуменья, а у самой внутри екнуло, не задумала ли что знатная затворница.
– Грех это… – потупилась монашка.
– Грех? – еще более насторожилась игуменья.
– Грех! – подтвердила Соломония. – Грех, такое говорить про сестру свою…
– Матушке игуменье не грех! – Назидательно произнесла Ульяна, но у самой на душе полегчало. – Померещилось, прости Господи! – промелькнула мысль.
–Давай, давай, сестра, все рассказывай! – строго сказала.
– Ой, грех, матушка… жаловаться… – качала головой Соломония, – храпит очень сильно сестра Марфа, спасу мне нет… терпеть бы надо, понимаю, что наказанье сие Господне мне за грехи, но… спасу нет… – теребила руками подол рясы, глаза, стесняясь, не подымала.
– Фу-у-у… – выдохнула про себя игуменья, – а я-то… дура старая… подумала…, оно, конечно, не в палатах спать, где девки дворовые зевнуть боятся, сон княгини потревожить… а от Марфы и раньше монахини спасались. Храпит так, что стены каменные ходуном ходят… Знать, не врет княгиня!
– Ладно, голубушка, – вслух согласилась Ульяна, – попрошу я сестру Марфу другую себе келью сыскать. И раньше сестры на нее жаловались… Одна поживешь… – и добавила, поразмыслив, – …покуда.
– Ох, матушка игуменья… – Соломония прямо на колени опустилась перед Ульяной.
– Встань, встань, сестра… – засуетилась Ульяна, не избавиться старице было от ощущения, что все-таки великой княгиней была ее узница, – … перед престолом колени преклонять надо, пред образами святыми… – забормотала игуменья.
– Спасибо, тебе матушка… – Соломония послушалась, поднялась с колен, кланялась в ноги, улыбку пряча.
Добилась своего – убрали Марфу! То-то легче дышать стало в келье. Марфа и правда храпела ужасно, но счастливая от ощущения будущего материнства, столь вымоленного, столь долгожданного и столь внезапно обрушившегося на нее, после всего, что пришлось пережить, Соломония спала всегда, как убитая, улыбаясь во сне. Ребенок рос, и толкался иногда в животе, выбирая себе позу поудобнее. В такие мгновения будущая мать замирала, прислушиваясь к его движениям, и по ее лицу ползла улыбка блаженства. Сестры-золотошвейки, что работали вместе с ней в монастырской мастерской, переглядывались, но понимали по-своему:
– Наверно, вспоминает, как была она государыней всея Руси…
От соседки по келье, от уха да ока игуменьи Соломония избавилась, но теперь куда сложнее цель была – скрыть само рождение.
Выносила плод желанный Соломония. Самый конец августа был. Жара стояла, боясь сомлеть на душном воздухе, опальная княгиня все в келье хоронилась. Как почувствовала приближение родов, тут же больной сказалась. Лежала на скамье своей на боку, постанывала слегка. Ульяна навестила ее встревоженная.
– Хвораю я, матушка… – пожаловалась ей. – Ломота в суставах, да слабость в членах. И дышится тяжело. Небось от жары сомлела. Вона парит как на улице.
– Ладно, – сказала игуменья, недосуг ей было, Шигона вновь в монастырь пожаловал за чем-то. Нужно идти встречать государева дворецкого. – Я пришлю тебе сестру Пелагею-травницу, посмотрит, отвар какой даст. – С чем и удалилась.
Старенькая и подслеповатая монашка Пелагея, пощупала лоб прохладный, жилу на руке бьющуюся, ничего не сказала, но какой-то пузырек с неведомой жидкостью оставила.
– Заметила или нет? – Замерла Соломония, пытаясь усмотреть что-нибудь на невозмутимом морщинистом лице старушки.
– По пять капель отмеряй себе и с водицей, утром и вечером пей. Некогда мне с тобой, сестра, сбор в поле ждет. – Прошамкала травница и ушла, оставив после себя пряный запах лугов.
Как Пелагея за дверь, Соломония схватила тот пузырек, да и на пол выплеснула все содержимое. От греха подальше. Терпкий травяной запах заполнил все келью. Соломония тихохонько встала, дверь приоткрыла, давай рясой сменной разгонять. Вроде проветрилось.
– Если что, скажу от Пелагеи! – решила опальная княгиня и снова улеглась.
А Поджогин на заднем дворе самолично порол Охрюту.
– Почто, пес, хозяина обманул?
– Пощади, боярин… – Орал сотник под плетью. – Не ведаю о чем ты!
– Кому девку продал пес? – свистела плеть, хлестко разрывая кожу на дубленой шкуре татарина.
– Купцу свейскому, как и сказывал ты… А-а-а… – Извивался Охрюта к столбу привязанный.
– Какому купцу, пес? Какому? – Свист и новый удар.
– А-а-а…!
Получил Поджогин отписку от новгородского наместника князя Ивана Оболенского, что никто про купца Нильса Свенсона и слыхом не слыхивал. Узнав об этом, взбешенный дворецкий сам отправился в Новгород допросить того, что купчую составлял.
Сидели дьяки Андрей Арцыбашев с Семеном Емельяновым в Новгородской приказной избе дела рассматривали повседневные: купчие, закладные да меновые. Шапку в руках теребя, с ноги на ногу переминался перед ними Степан Алексеев сын, кожевник, что на Щуровой улице проживал. Одобрения ждал. Продать хотел четверть двора на Чедерской улице Самуилу Иванову сыну, тоже кожевнику.
В углу, на отдельной лавке, дьячок примостился – Семушка Дмитриев – душа чернильная, перышко зачищал, да ждал, что дьяки решат.
– Что за хоромы на той чети имеются? – Лениво спросил Арцыбашев.
– Избишка малая, да клеть. – Промямлил испуганно продавец.
– И почем хочешь? – Емельянов зевнул, рот перекрестил быстро.
– Да… полполтины… всего-то… – совсем оробел Степан.
– Запиши, Семка! – Велел Арцыбашев, глаза к потолку задрав – мух пересчитывал. Дьячок услужливо над столом склонился, ухо навострил, перышко приготовил. – Пошлину 2 деньги взять, ну и далее… сам знаешь…
Снаружи шум послышался, кто-то шел громко, бесцеремонно всех расталкивая. Дьяки переглянулись, насторожились. Степан кожевник на дверь боязливо оглянулся. Лишь Семушка Дмитриев скрипел перышком, от усердия язык высунув – купчую дописывал.
Дверь с грохотом распахнулась, в избу ворвались два стражника со двора наместника князя Оболенского, а впереди всех сотник молодой. Дьяки будто к скамье примерзли от страха, продавец Степка Алексеев и вовсе прыснул куда-то, а Семушка рот открыл от изумления, а перышко знай себе само ползет, купчую портит.
Сотник, раз и сунул под нос Арцибашеву клочок какой-то:
– Ты купчую составлял? Или ты? – теперь и Емельянову в морду ткнул.
– Он! – ошарашено показали оба на Семушку.
Стражники не раздумывали, шагнули в угол, где дьячок застыл с перышком своим неразлучным. Сперва под локотки взяли, после один из них за головенку маленькую, да как треснет прямо лицом об стол – только брызги кровавые вперемежку с чернилами разлетелись. И поволокли с собой дьячка в беспамятстве. Сотник за ними. Дьяки долго еще сидели в оцепенении – что это было-то?
Приволокли Семушку в подвал каменный, что под наместника домом был. Водой окатили, в чувство ввели, а там его боярин знатный дожидается – Поджогин. Не мешкая, на дыбу приказал вздернуть, да прут раскаленный поднести.
Извивался и визжал бедный Семушка Дмитриев, слезами и потом обливался от боли страшной. С дыбы показал:
– Бес попутал меня боярин. Ошибся я когда купчую писал… А-а-а…Перепутал местами… А-а-а – забился дьячок видя палача с прутом.
– Правильно, как звать-то? – Поджогин знак кату подал, чтоб не трогал пока.
– Свен Нильсон… только и местами… А-а-а.
– А такой точно есть в Новгороде?
– Есть! – откликнулся откуда-то из угла застенка князь Иван Иванович Оболенский. – Слыхал про такого. На Немецком дворе проживает.
– Эй, кат! – Шигона махнул рукой палачу. – Сымай того с дыбы, да полсотни плетей отвесь, чтоб не путал впредь.
Дворецкому все стало ясно. Он повернулся к наместнику:
– К тебе, Иван Иваныч, еще просьба будет. Разузнай, где ныне свей этот, и живет ли у него девка русская?
Дородный князь вышел на свет, кивнул важно:
– Как не уважить просьбу государева дворецкого.
– Сочтемся! Ну и прощай, князь, поспешать обратно надо.
По пути в Суздаль заскочил, не терпелось выпороть Охрюту. Сек, сек татарина, да сам утомился. Вышла злость. На лавку присел, пот вытер. Холопам кинул, на избитого сотник показав:
– Водой отливайте, чего смотрите!
Тут и игуменья его нашла:
– Ой, батюшка, кто к нам пожаловал… Храни тебя Бог, Иван Юрьевич! – подошла на клюку опираясь, в глаза подобострастно заглядывая.
Поджогин на приветствие не отвечая, бросил:
– Что там… с этой?
– Приболела матушка, из кельи который день не выходит, я сестру Пелагею-травницу к ней посылала, та сказывала разморило сестру Софию на жаре, отлежаться ей надобно. – зачастила Ульяна.
– Приболела, говоришь… – протянул Шигона, а сам подумал:
– Хоть бы сдохла! Одной бедой меньше! – вслух сказал другое:
– Ежели что… отпишешь немедля! И этого… – кивнув на пришедшего в себя Охрюту, что валялся неподалеку спиной к верху, – … пришлешь!
А через день родила Соломония мальчика! Сама управилась, боль адову перетерпела, пуповину ножичком острым, (заранее припасла!), перерезала, перевязала, в тряпочки чистые завернула, за собой прибралась, ночи дождалась, тайком из кельи выбежала, выкинула все лишнее. А мальчик-то народился славненький, словно роза свежая, и спокойный такой, как припадет к груди, покормит его Соломония, так и засыпает тут же. Ни плача тебе, ни криков. Только закряхтит немножко, когда аппетит взыграет, мать ему сосок коричневый всунет, а он и зачмокает от удовольствия. Георгием нарекла, все по святкам сосчитала, наизусть помнила, счет вела точь-в-точь. Сама и окрестила. В водичку крестик свой опустила, после обрызгала, маслеца из лампадки капнула, остыть дала и лобик помазала.
Ульяна зашла как-то, малыш спал, Соломония все также на лавке лежала, телом своим прикрывая.
– Ну как ты, сестра София? – поинтересовалась игуменья.
– Слаба еще матушка. – Тихо отвечала ей. – Как встану, так и качает, словно березку тоненькую на ветру. Но лучше, лучше мне. Все благодаря настою, что дала мне сестра Пелагая, дай ей Бог здоровья! – Пузырек под лампадкой стоял, водой чистой наполненный, но наполовину – предусмотрительно.
– Поправляйся сестра! – ушла игуменья, ничего странного не заметив.
Все едино, шила в мешке не утаишь! Долго ли, коротко ли, но почти месяц хранила свою тайну Соломония. Уже сентябрь на дворе стоял. Принесла раз монашка еду ей в келью, а тут возьми малыш и заплачь неурочно. Ахнула черница, да стремглав бежать бросилась за игуменьей. Тут и началось…
Примчалась Ульяна, даже клюку свою впопыхах где-то забыла. Начались ахи-вздохи:
– Ах ти, Господи! Как же так? Как умудрилась-то, сестра? Господи, Святая Богородица, что ж теперь… – игуменья в бессилии сползла по стене на лавку прямо напротив Соломонии. Слышно было, как за дверью сестры напуганные судачат. Выделялся грубоватый голосок Марфы:
– Вот грех-то, вот грех! И что ж с обителью-то нашей ныне сотворят…
– Помилуй Господи! Помилуй Господи! – Кто-то еще жалобно причитал.
Соломония сидела на лавке, поджав ноги и крепко сжимая младенца руками. Всем своим решительным видом бывшая княгиня показывала – никому не отдам! Густые черные брови сошлись над переносицей, волосы рассыпались гривой шелковой, глаза смотрели зло на игуменью.
– Так кто из нас бесплоден? – Спросила грозно Ульяну. – Я или князь ваш Василий? Меня в монастырь, а он новую девку себе завел? Только не будет у него детей с ней! А если и будет… – прищурилась, – то не его они! Немощен князюшка наш! Так и передай карга старая на Москву! Пусть вся Русь знает! Нет силы мужской у Василия! Нет! – Соломония почти сорвалась на крик. Малыш заворочался и заплакал, голосом громким напуганный. Соломония в миг успокоилась, не таясь игуменьи, достала большую белую грудь и дала ему сосок. Ребенок тут же замолчал, и, причмокивая, стал сосать.
– И попробуй что-нибудь сделать нам… – уже тихо, но с угрозой бросила Ульяне. – Вона…, – головой мотнула на дверь, – людей православных сколько… Ныне шила в мешке не утаишь… По всей Руси слух пойдет, коли недоброе умыслите.
И как в былые времена приказала строго:
– Иди отсель, старая! Видеть тебя не желаю! Приказываю тебе, чтоб еду мне приносили не постную, а скоромную. Молока поболе! Мне сына кормить надо! – Посмотрела с нежностью на цветочек свой лазоревый, солнышко ясное, к груди материнской припавшее.
Вздохнула Ульяна, лица на ней не было, сползла с лавки и, держась за стену, убралась из кельи. Увидав в таком виде настоятельницу, монашки прыснули в разные стороны, только рясы черные развивались…
Поскакал срочно на Москву поротый Охрюта-сотник, морщась при каждом толчке – сильно спина еще болела. Скакал и думал:
– Так и на колу оказаться можно… Что будет, когда хозяин узнает… – Другой бы сбежал, куда глаза глядят – на Восток, аль Запад… но не этот… предан был, одним словом – пес!
Глава 16. Спасение младенца.
Как радостно было после хмурого каменного мешка Стокгольма вырваться на морской простор. Улла-Любава стояла на носу корабля, жадно вдыхая свежий, пьянящий морской воздух. Они возвращались в Новгород. Еще в Стокгольме она напомнила Свену об обещании. Старик нахмурился, покачал головой, но подтвердил:
– Сделаю, как просишь!
В Новгороде Любава раздобыло монашескую рясу – так легче будет пробраться в монастырь, и, не медля более ни дня, отправилась в путь. По договоренности Густяк выделил ей провожатого, молодого разбитного парня, широкоплечего, могучего, если что, и защитить сможет – вон какой ножик торчит из-за голенища. А так, мол, купеческая дочь, на богомолье отправляется. Хотя и Тихон смотрел на всю затею не одобряюще. Долго ли, быстро ли, но к середине сентября добрались и до Суздаля. Здесь Любава оставила провожатого на постоялом дворе, сама к монастырю направилась. Прогуливалась, да присматривалась. День, другой… Примерялась, как проникнуть… И придумала!
Каждый день, по полудни, монашки выходили белье стирать. От ворот неподалеку мостки были. Час, другой, третий и назад в ворота. А осень уже на дворе, вечерело рано. Переоделась Любава в рясу, корзинку с бельем каким-то прикупила, тихохонько вдоль стены пробралась, как монашки назад пошли, так из-за угла башни выскользнула и за ними. Стражник дремавший от скуки и внимания не обратил. Считал он их что ль… Сколько вышло, сколько вошло, какая ему разница.
Любава платок совсем на лицо спустила, чтоб не узнал случаем никто, брела по двору не знамо куда. Монашки быстро по кельям своим разбежались, одна осталась. Как найти-то, княгинюшку? Завернула вслед за последней монашкой, что прихрамывала сильно, в коридор какой-то вошла. А там кельи, кельи, кельи… И сколько их тут… Растерялась девушка… Но, есть Господь! Услышал он молитвы жаркие. Как шла вдоль коридора, вдруг звук ей почудился, будто младенец захныкал…
– Откуда здесь дите малое? – Мысль мелькнула. И уже повинуясь воле Господней, толкнула ближнюю дверь…
Соломония встревожено обернулась, ребенка сразу собой загородив.
– Боже праведный, Любаша!
– Княгинюшка!
Кинулись в объятья. Плакали, целовались, обнимались, ребеночка мирно сопящего рассматривали, снова в объятья заключали друг друга, слезами обливались и говорили, говорили, рассказывали, что с кем приключилось. До утра самого. Малыш просыпался пару раз, Соломония кормила его то с левой груди, то с правой… Любава смотрела, как зачарованная…
Светать уж начало, как Соломония решилась:
– Сам Бог или сама Богородица послала тебя ко мне, Любава. Аки ангела небесного! Не перебивай, – строго сказала, видя, что девушка хочет возразить, – слушай меня внимательно. Нет у меня другого выхода, а ты – знак Божий! Не спустит Василий мне первенца, чую сердцем, уморят его ироды. Молчи! – повторила, и Любава поспешно кивнула, лишь перекрестилась несколько раз. Княгиня сидела, чуть раскачиваясь, ребенка убаюкивала. Думами собиралась:
– Уморят, и не дрогнут… – повторила. – Вот, что Любава, ты говорила, что с монашками вошла, что на реке стирали?
– Да, княгинюшка. Вот и корзинка с бельем моя. – Показала девушка.
– Вот и ладно. Как вошла, так и выйдешь. В полдень вновь они на реку пойдут, возьмешь корзинку, в нее Георгия положим, и вынесешь!
– Как? – ахнула Любава.
– Так! – жестко ответила княгиня. – На тебя одну надежда осталась. Спасешь кровиночку мою! – Голос дрогнул предательски, глаза сами слезами налились, целовать стала головку пушком покрытую.
– Как же… – Любава то на княгиню, то на младенца взгляд переводила.
– Вынесешь, выкормишь, вырастишь, значит, спасешь! Здесь его погибель ждет, не от рук палаческих, так от мрака заточения монастырского. А этим… – княгиня головой мотнула, – скажу, что умер! Сама похороню! Никого не подпущу! Не посмеют тронуть могилку! – И снова обе расплакались.
– Обещай, как вырастет, расскажешь ему всю правду! Может он и отомстит и роду, мной проклятому, и боярам, псам его цепным, за детство свое сиротское, за мать в монастырь заточенную…
– Обещая, княгинюшка. На Святом образе клянусь тебе. И сберегу, и выращу, расскажу, и… коль захочет на Русь, помогу вернуться! – Перекрестилась на иконы.
– Хорошо ты сказала, Любава. Правильно! Ему решать уже…
Все прошло, как по маслу. Уложили младенца, накормив предварительно досыта, княгиня еще молока сцедила в ту самую склянку, что когда-то сестра Пелагея принесла – пригодилась:
– Вот! Хоть чуть-чуть материнского… А далее, сыщешь в деревне любой бабу кормящую, ей дашь… – Княгиня крепилась изо всех сил. Поцеловала в лобик, в кудряшки льняные, передала корзинку решительно:
– Держи! И пора! – Почти вытолкала из кельи Любаву. – Господи, Богородица святая… что творю, так ли поступаю, вразуми меня бедную… – рухнула перед иконами.
Та, прижимая драгоценный груз к груди, выскользнула на улицу, и опять повезло, пристроилась в хвост монашкам, что нестройной колонной направлялись на выход. Никто и внимания не обратил. А как за ворота вышли, все прямо, а она опять за башню, и не оборачиваясь, сначала медленно, потом все быстрее, быстрее, каждое мгновение окрик сзади ожидая. Ушла!
До постоялого двора добралась, молодец-новгородец, ничего не спрашивая, запряг сноровисто и поехали… В деревнях искала баб кормящих, благо на Руси всегда кто-нибудь да рожал… по десятку в каждой семье было. Правда, Любава осторожничала, баб внимательно рассматривала – не хворые чтоб. Платила щедро, Нильсон денег ей на дорогу дал немало. За молоко, да за молчание.
– Своего мол нет! – Объясняла. Бабы кивали понятливо и не отказывали. Так и ехали. Лишь у ворот Немецкого двора вздохнула облегченно Любава. Затворились за ней створки тяжелые, провожатый снаружи остался, прислонилась обессиленная к дереву – добрались! Отдышалась, по сторонам огляделась. Стражники ее узнали, но ничего не спрашивали. Подумаешь, баба с корзиной!
У Нильсона брови полезли на верх вопросительно, как младенца увидал. Но молчал в ожидании, что сама скажет.
– Спасти его надобно, батюшка! – смогла лишь выдавить из себя измученная Любава. – Увезти, как и меня прочь, подальше от Москвы и от Новгорода.
– Как зовут-то? – спросил купец.
– Георгием!
– Из монастыря привезла?
– Да, батюшка! Пощади нас! – Хотела в ноги упасть, да младенец заворочался, заплакал. Старик подошел к Любаве, одной рукой за плечи обнял, другой, лоскутк развинул, что младенца укутывали, разглядывал внимательно и долго. Любава замерла вся в ожидании. Свен улыбнулся чуть:
– Бернтом назовем! Так моего сына звали. – И Любава поняла, что Нильсон согласен. Кинулась ему на шею, зарыдала… Старик лишь гладил ее по спине, да приговаривал, растроганно:
– Ну что ты… что ты… дочка…
Снесли в церковь Святого Петра, к знакомому пастору. Тот удивился:
– Вот новость, так новость! И когда успели? Впрочем… – он оглядел хрупкую фигурку девушки… – не мудрено не заметить… совсем еще юная твоя Улла, Нильсон. Сколько ему? – поинтересовался.
– Месяц! – потупясь, отвечала Любава.
– Что ж раньше не несли?
Свен вступил в разговор: