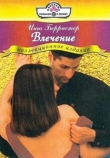Текст книги "Проклятие рода"
Автор книги: Алексей Шкваров
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 80 страниц)
– Кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертания на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей, вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его, и будет мучим в огне и сере пред святыми Ангелами и пред Агнцем!
Слова факелами вспыхивали перед глазами, буквы рушились, как пылающие бревна дома, под которыми была погребена ее мать. Илва невольно вытянула вперед испачканные сажей руки и внимательно вгляделась. Жирные черные полосы, разводы и пятна сливались в страшных узорах начертания знака, оставленного зверем.
– Я помечена им!
Чернобородое лицо зверя склонилось над ней, она плюнула из последних сил, и вся грязь ее жизни промелькнула в одно мгновенье, блеснув лезвием занесенного кинжала – меча Господня, ведь совершивший грех рождает смерть…
Она на полу. Силится встать на четвереньки. Руки дрожат и подламываются. Что-то горячее стремительно капает на пол, заливает шею и грудь. Память выхватывает взглядом тряпку. Она достаточно длинна, чтоб замотать шею. Все застилает туман боли, в который она погружается… но темнота сменяется светом. Это дверной проем, до которого надо доползти во чтобы то не стало. Иногда тело прижимается к полу, отчего наступает ощущение блаженства вечного успокоения.
– Зачем ползти? Остановись! Умри, и все закончится! – Кто-то вонзает в виски иглы боли, затихающей вместе с сознанием.
Вновь опускаются сумерки, но их сменяет восходящее солнце жизни, своими слабыми лучами толкая непослушное тело вперед и дальше. За порог. Еще и еще. За ночью приходит рассвет, дарующий непонятную и ненужную ей сейчас надежду, день сменяется тьмой, солнце прячется за черными облаками, увлекая за собой в непроницаемый мрак сознание, но оставляя каждый раз лучик. Тонкой дрожащей струной он связывает тело с жизнью, пульсирующей жилкой вытягивая обратно сверкающий шарик из тьмы.
– Почему я жива еще? Почему Господь не посылает мне смерть?
Солнце каждый раз меняет окрас. Из ослепительного бело-золотого превращается в фиолетово-багровое, словно кто-то неведомый обливает его сильно разбавленными чернилами, которые становятся все гуще и гуще, но лучик, струна, жилка остается, как нить Ариадны, выводящая из лабиринта смерти на простор жизни. Шарик снова выкатывается, но цвет его холоден, как холодны ее руки, упрямо цепляющиеся за траву. Это луна. Она не греет, но и не слепит, как солнце, зато ее широкая полоса, упавшая на землю, обозначает ясную дорогу. Путь, с которого нельзя сбиваться. В жизнь, которая ей не нужна...
Где-то вдалеке раздавались чьи-то голоса. Она силится открыть глаза, но веки тяжелы и неподъемны.
– Бесконечно милостивый Бог оставил мне жизнь, в которой я не нуждаюсь? Для чего?
Перед ней вдруг возникает образ Иоганна. Она стоит в его церкви, в той самой, в Арбю. На ней одето чистое светло-голубое платье. Щеки не подкрашены свеклой, а чуть розовеют естественным румянцем. Священник берет ее за руку и ведет через прохладу нефа к алтарю.
– Почему я вновь с ним? Почему я нахожусь в церкви, когда должна гореть в аду, как моя мать?
Но сейчас ее окружают лишь свечи. Множество белых свечей. Их свет падает на резное распятие Спасителя в глубине приближающегося алтаря. Слева проплывают огромные витражи окон, высотой в два или три ее роста, изображавшие сюжеты из жизни Богородицы. Пресвятые Девы во множестве своих образов благосклонно смотрят на них с Иоганном. Лунный свет, проникавший сквозь полупрозрачные стекла легким дуновением ветерка, чуть шевелит Ее одеяния, скользит по ликам, преломляется на устах Дев, превращаясь в улыбку.
Ярко вспыхнул позолотой алтарь, она явственно ощутила тепло руки Иоганна, надевавшего на ее палец тонкое серебряное кольцо… Господи, так все и было… Но как ослепляет сияние, исходящее от дарохранительницы! Почему? Она же украла ее… Какая боль в глазах!
Действие продолжается, ведь самое сладкое впереди. Их брак благословила всей многоликостью образов сама Пресвятая Дева, оставшаяся там, позади, в полумраке нефа. Теперь их окружали святые. Они пристально взирали из своих ниш на молодоженов, но в их глазах не было ни малейшей тени осуждения.
Иоганн подхватил ее на руки, она обвила руками шею, доверчиво прижалась к нему, скользнула нежно по тонзуре и вдруг расплакалась от счастья… (Илва почувствовала, как горячие слезы потекли сквозь плотно сомкнутые ресницы.) …она плакала и смеялась от счастья. Иоганн отнес ее в ризницу и опустил на пол. Платье само соскользнуло с нее, легло голубой лентой на белоснежную ткань, прикрывавшую ослепительным снежным покровом каменные плиты пола. В ризнице было натоплено, Илва в своей наготе не ощущала прохлады храма, или ей так показалось из-за взволновавшейся крови, которая мощными толчками заставляла все чаще и сильнее биться ее сердце. Она опустилась на приготовленное ложе, увлекая его за собой. Неторопливо и нежно Иоганн овладел ей. Его губы ласкали ее тело, покрывали бесчисленными поцелуями, нашептывали опьяняющие слова: любимая, прекраснейшая, благоуханный цветок…
– Мы не согрешили с тобой? – Чуть слышно спросила она.
– Я не боюсь кары за это… потому что не верю, что Господь сочтет это грехом… – Также тихо отвечал он ей.
Картинка внезапно угасла, словно кто-то задернул плотную штору, не позволяющую проникнуть ни единому лучу света. Она почувствовала невесомость падения, шум ветра и облегченно вздохнула:
– Ну, наконец-то… благодарю тебя всемилостивый Боже…
Но свет вспыхнул снова. Она словно впервые увидела сына. Его взлохмаченные цвета спелой пшеницы вихры, его открытый и одновременно твердый (отцовский!) взгляд голубых (ее!) глаз, подбородок с ямочкой (тоже отцовский!), чуть припухлые румяные щечки. Ведь все это время ее мысль ни разу не возвращалась к нему. Странно, но беспокойства не было и в помине, напротив, материнское сердце если и встрепенулось, то лишь тихой уверенной радостью за него. За то, что он будет счастлив. Андерс смотрел куда-то вверх и в сторону и кому-то внимал. Илва прислушалась и узнала голос Иоганна:
– Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром; ибо видели очи мои спасение Твое, которое ты уготовал пред лицом всех народов…
– Иоганн нашел его… Милосердный Бог бы мог поступить со мной хуже, но Он сохранит моего сына… – мелькнула последняя мысль и она опустилась в забытье.
Приближающаяся смерть может исторгнуть из человеческой души самое сокровенное, то, что до этого, ни при каких условиях, он не позволил бы себе произнести даже мысленно. Роковой для каждого час открывает все то неповторимое, что есть в человеке, освобождает его от сословных «приличий» и вырывает из той среды, с которой он вынужденно или по рождению был сопричастен. Человек становится свободен от укоренившихся взглядов или привычек – сути своего грешного бытия, ибо все мы грешны… И если вдруг ему удается вырваться из холодных когтистых лап старухи с косой, то самим Господом ему дается шанс забыть про свое прошлое, оставить в нем все дурное и грешное, которое Бог одним махом раздавил, превратил в прах, поднял вместе с телом над бездонной пропастью вечности и развеял, опустив бренные останки плоти на твердую землю, но вдохнув в них новую душу, давая теперь возможность обернуться уже окончательно к Его свету. Отступившая смерть перерождает человека. Должна перерождать! Если этого не происходит, и человек несмотря ни на что упорствует в своих заблуждениях, пороках и грехах, то конец его будет более чем ужасен и разверзнувшаяся перед ним бездна окончательно поглотит нечестивца, которому предстоят вечные нескончаемые мучения его души, ибо плоть сгорит моментально в очищающем огне адского пламени. Не бесконечно милостивый Бог наказывает человека бедами, а человек карает сам себя плодами своего поведения. Но пока человек находится между жизнью и смертью, пока его судьба и душа висят на одном единственном волоске Божьей милости, у него есть время подумать, даже если эти раздумья длятся лишь доли секунды, вспомнить все свои прегрешения, покаяться и попросить прощения и у Бога и у всех тех, кому он принес несчастья. И если Он решит, да свершится Воля Его!
Вспышки сознания, еще ярче проблески молний, ударяющих с неистовой силой, дикой болью пронизывающей все тело. Тьма и свет. Мрак беспамятства – зарницы воспоминаний. Серая кожа, тусклые глаза, поседевшие спутанные волосы… она тщетно пытается метаться на подушке, но рана на шее словно привязала голову к плечу. День. Ослепительное зимнее солнце. Он дарит ей розы…
– Какие они красивые… – Чуть слышно шепчут бесцветные потрескавшиеся губы. Они кровоточат – искусаны от боли.
– Ты красивее их… Как ты прекрасна возлюбленная… – Звучит ответ, растворяющийся в ночи.
Раны затягивались медленно. Шли месяцы, но выздоровления не наступало. На нее обрушился тиф – вечный спутник страждущих от ран. Снова жизнь билась в ней тонкой жилкой, теплилась искоркой, трепетала язычком пламени свечного огарка. Ночь сменяла день, сумрак прорезался светом воспоминаний. Как ярко пылает позолота дарохранительницы. Она горит, раскаляется и превращается в толстенный прут, он приближается, входит в ее грудь, но боли нет, лишь невыносимый жар, плавящий душу.
Слабость не позволяла открыть рот, и аптекарь пальцем раздвигал ей зубы, чтобы влить несколько капель мятного отвара. Она превратилась в обтянутый кожей скелет, пытавшийся с кем-то общаться сквозь плотно стиснутые зубы голосами-хрипами, вырывавшимися из груди.
– О чем она так часто бормочет? – шепотом спросила жена аптекаря. – О каком-то сокровище?
– Ее душа борется с видениями из прошлого… – помедлив, ответил старик, качая головой.
Один голос грубоватый то уговаривал, то насмехался, словно звал вернуться к былому, безудержно скотскому, разнузданно пьяному, наполненному сладострастной мерзостью порока и веселым звоном монет, другой тонкий оправдывался, не соглашался, текли слезы сквозь опущенные ресницы, оставляя чуть заметные полоски страдания на щеках.
Она в Кальмаре. Иоганн по своим делам ушел в замок. Рядом с ней подруга – белобрысая Сесиль. Детская мордашка – кругленькая, с ямочками и розовым ротиком, – но глаза недобрые. Голос чуть грубоватый, с придыханием.
– Церковь-то богатая у него?
Илва пожимает плечами. Ей хорошо сейчас. Не хочется ни о чем думать, просто сидеть рядом с подругой, кутаясь в аккуратненькую шубку из выдры, что подарил ей Иоганн, и болтать ногами, щурясь на зимнее солнце, разлившееся повсюду своим отражением в белизне снегов, пронизавшее воздух, который сам стал одним солнечным светом и сиянием. Но Сесиль не успокаивается:
– Так посмотри, как следует! Наверняка и серебро и золото есть. Бери и смывайся! Это твой шанс. Ты что думаешь, он женится на тебе?
– Уже! – Хитро улыбается Илва. Она не думает ни о каких деньгах, золоте-серебре…
– Дура! – Сесиль разворачивается в полтуловища к ней. Смотрит, буравит глазками. – И ты поверила? Он же монах! Им запрещено. Как это у них называется? Во! Целибат! Наиграется и бросит. Он же тебе денег сейчас не дает за то самое? Нет? Ну вот! Монахи все скупые, вечно нищими прикидываются и праведниками, а только и думают, как под юбку залезть. Я тут слышала, одна бывшая монахиня на рынке рассказывала, (к нам хочет податься теперь), они такое в женских обителях вытворяют… Содом и Гоморра невинными городишками покажутся! – Сесиль раскраснелась от переполнявшего ее притворного возмущения. – Он и сам в грехах по уши и тебя за собой утаскивает. А ты честно поступаешь! Пользовался девушкой – плати! Не заплатил – возьмешь сама. Имеешь право! Церковь, не церковь, без разницы! Платить все обязаны, а эти и вовсе вдвойне. Если мы – грешные женщины существуем, значит Богу это угодно! А вот его слугам не положено. Это их грех, что в блуд впадают, а двойной грех, что не хотят платить за свой блуд! Бери, и дуй отсюда поскорее, коль выпадает такая возможность. Да и мать заждалась наверно. И ты по ней поди скучаешь.
Мать единственная, кто Илве дорог на этом свете. Отца она вовсе не помнит. Попыталась как-то спросить, но мать так зло окрысилась, что охоту расспрашивать дальше отбила напрочь. Правда, потом смягчилась, сказала:
– Плюнь на него, дочка, и забудь! Червяк. Ничтожество.
К матери-то хотелось… Иоганн ей, конечно, нравился, но смущала какая-то вечная дрожь в коленках, как только он к ней приближался и начинал разговаривать или что-то читать.
– Возлюбленный мой бел и румян, лучше десяти тысяч других… Голова его – чистое золото… глаза его – голуби, купающиеся в молоке… щеки его – цветник ароматный… губы его – лилии… – Он захлопывает книгу, смеется. – Ты тоже так обо мне думаешь?
Дрожат предательски колени. Ей никогда таких слов не произнести. Все на что она была способна, так это протянуть руку, дотронутся подушечками пальцев до его щеки и сказать:
– Ты красивый…, я люблю тебя…
Нет, в постели, в его руках, в ласках, в его шепоте, дрожь исчезала. Да и как тут не забудешь про все на свете, если тело становилось невесомым от наслаждения и куда-то уплывало, парило облаком над землей, из него вылетало сердце и словно птица устремлялось в несусветную высь, откуда лился солнечный свет, а тело… ее плоть просто взрывалась под конец и разлеталась в разные стороны мельчайшими кусочками, брызгами, которые удивительным образом собирались в единое целое, когда она приходила в себя. Такого в ее жизни никогда не было. А уж мужчин-то она повидала на своем веку. Правда, все больше матросов да рыбаков. Тут уж не до учтивости, не до дрожи в коленках. Иногда попадались и достойные горожане, мотыльками залетевшие на огонек блуда к Большой Иолке. Так звали хозяйку их трактира со странным названием «Розовая лилия». Откуда здесь у них лилии? А Иоганн тоже что-то говорил про них:
– Два сосца твоих, как двойни молодой серны, пасущиеся между лилиями…, чрево твое – ворох пшеницы, обставленный лилиями, как прекрасны ноги твои…, округление бедр твоих, как ожерелье, дело рук искусного художника, живот твой – круглая чаша, в которой не истощается ароматное вино, стан твой похож на пальму, и груди твои на виноградные грозди, сотовый мед каплет из уст твоих… – От этих слов Илва сразу погружалась в негу, переполнялась неописуемым наслаждением.
Сесиль не унималась:
– Сама подумай, даже если б им и можно было жениться, это ж с ума сойти можно от скуки. Что за жизнь? Целый день псалмы с ним распевать или нудные проповеди выслушивать? Да повеситься можно! Правда, знала я парочку монахов, ох и весельчаки были, о Священном писании ни слова, лишь бы выпить, да с девушками порезвиться. Но твой-то зануда полная!
Они сидят с Сесиль внутри незнакомого трактира. Тепло от выпитого вина приятно разливается по телу. Подружка наклоняется, так что полные груди – предмет вечной зависти худышки Илвы, – почти вываливаются в широкий вырез и вновь звучит ее грубоватый голос:
– Отсюда все равно бежать надо!
– Почему? – Не понимает Илва.
– Меня зовет один моряк с Любека. Помощник шкипера. Влюбился – сказал. – Сесиль громко захохотала и затряслась всем телом так, что ее прелести окончательно выпрыгнули наружу огромными упругими плодами. – Ну, есть во что! – Она бесстыже подхватила голые груди руками и потрясла почти перед самым носом Илвы. – Сам родом из Штральзунда, деньжат прикопил, хочет оставить море и на земле осесть. Ну, это мы еще посмотрим! – Она опять хмыкнула, довольная собой, заправила грудь за тонкую ткань заношенного платья. – Деньги даст, а сам может опять в море отправляться. Но, – Сесиль перешла на шепот, – отсюда надо точно убираться. – Она даже оглянулась, не подслушивает ли кто, но трактир был пуст, лишь одинокий хозяин, не обращая на девушек никакого внимания, переставлял за прилавком посуду и бутылки.
– Так уезжай! Я-то здесь причем? – Недоумевая, пожала плечами.
– Причем она здесь… – передразнила подруга. Ее губки поджались, рука закинула выпавшую прядь волос за ухо. Сесиль придвинулась еще ближе, почти легла на стол, дыханием обожгла щеку Илвы. – Болтают, будто наша Иолка, с кем-то сговорившись, опоила, ограбила и убила каких-то торговцев. Их тела нашли на берегу неподалеку. Вроде, как ни при чем она. Но слухи поползли, что ее рук дело. Плохо кончится! Или темницей или колдовство припишут – тогда точно костер всем обеспечен.
– А нас– то с чего? Ты, что знала обо всем этом?
– Нет! – Выпалила зло подруга уже в полный голос, так что Илва инстинктивно отстранилась от нее. – Я в ту ночь со своим развлекалась. У него на корабле.
– А я с Иоганном уже месяц живу. – По-прежнему ничего не понимала Илва.
– Ты чего из себя невинность строишь? – Сесиль впрямь разозлилась. – Мы с тобой сколько лет у Иолки работаем? Два года? То-то! Будет следствие, всех потащат. И тебя, и меня. Да она первая тебя сдаст! – Брякнула, для убедительности тряхнув копной золотистых волос.
– Это еще почему? – Илва была поражена последними словами подруги.
– Потому, что она всем трепалась, что ты сбежала из ее трактира не заплатив ей выкуп! – Торжествующе и хищно блеснули глазки.
– Какой еще выкуп? – Илва разволновалась. – С какой стати? Я всегда ей честно отдавала долю от посетителей, что ходили со мной наверх.
– Ага… – покивала головой Сесиль, – отдавала… а с монаха, что ей отдала?
– Когда он пришел первый раз, заплатил, я отдала… – растерялась девушка.
– А потом? – Не унималась подруга.
– А потом он пришел во второй раз и просто увез меня отсюда. И я уже месяц живу с ним в Арбю.
– Вот! Правильно! Иолка все и посчитала, что ты ей ровно за месяц и должна! А теперь и этих, убитых, на тебя повесит. Что, мол, хотела с ней рассчитаться, так как долг иначе не спишется! И начнется… приставы, судьи, пытки… А когда пальцы в тиски зажмут все признаешь, и что на метле летала, через трубу выскакивала, порчу наводила на посетителей, и что отравила… этих… торговцев. Понимаешь теперь, подруга, чем это все обернется?
– Нет, нет, нет… – она кричала в беспамятстве. А над ней нависало лицо Сесиль в мгновение ока превратившееся в бесформенное пятно костей и плоти, с расширившимися, полными ярости зрачками, откуда вылетали обжигающие холодом искорки.
– Да, да, да! – Доносилось сквозь стиснутые зубы, ее дыхание почему-то исходило гнилостными запахами. – Брать все, что можно у монашка и бежать отсюда! Иначе пытки и костер, где тебя зажарят, как кусок мяса на вертеле!
Иоганн уехал снова в Кальмар… Сказал, что вернется только на следующий день. Какое ей дело до него… он совсем даже неплох, но если она останется, ее сожгут. Венчание в церкви? Его сумасбродство! Еще и еретичкой признают. Тогда точно костер! Нет, еду к матери. Ящики, дверцы настежь… Ее руки быстро выгребают все серебро и деньги, что он хранит в шкафчиках своей (или, как он называет «их») каморки-спальни, сбрасывают в мешок, ставший сразу тяжелым. Она натыкается на бочонок для причастия, опускает на время мешок на пол, отозвавшийся глухим бряцаньем, находит свинцовый бокал, наполняет его и залпом опрокидывает кислое, вызывающее оскомину вино.
– Тьфу! Почти укус! – Ее передернуло. Илве всегда нравилось послаще. От вина потеплело, голова чуть закружилась, решительности прибавилось. – Что мне всю жизнь псалмы, да проповеди слушать? Я жизни хочу! Нужна мне его любовь!
Теперь быстро в алтарь. Самое ценное – дарохранительница. Как ярко, до рези в глазах светится ее позолота. Слегка звякнув, тяжелый драгоценный сосуд падает в мешок. Пара подсвечников. Вот этих, поменьше. Остальные больно тяжелые, трудно будет тащить, да и возница, с повозки, что она наняла днем, может догадаться. Хотя он не из местных. Случайный проезжий. Теперь все переложить тряпьем, чтобы не звякало – на это и ризы сгодятся, те самые, белоснежные, сопричастные первой ночи их брачной любви, и скорее на выход. Немые статуи святых провожают ее взглядом полным укоризны. Она бросает последний взор на алтарь, но Спаситель дремлет безучастно на кресте. Отчего так жжет внутри…
Снова Сесиль. С ней какой-то маленький жилистый человечек с оливковой кожей, редкими волосами и хитрыми бегающими глазками под нависшими веками. Стопочка серебряных монет на столе – цена украденного. Кажется, что смешно мало за всё. Она смотрит с сомнением и недоверием на подругу. Та все понимает, отводит глаза в сторону и тараторит:
– С ума сошла! Зато быстро! И тебе немедленно надо уезжать в Мору. А я завтра со своим морячком в Любек…
Отчего так жжет все внутри… Господи, зачем она сделала это? Зачем она своровала эти вещи, деньги у Иоганна?
Сейчас она с матерью… Но почему ей так неприятно на нее смотреть и слышать слова, вылетающие изо рта, похожего на зев жабы с торчащими обломанными клыками?
– Шубка неплохая, сапожки, а вот деньжат маловато взяла с него, дочка! – Мать рассматривает монеты, лежащие на столе, берет одну из них толстыми грязными пальцами, пытается попробовать на вкус, дышит часто, сипло и тяжело, как животное. Илва сейчас думает о ней с таким отвращением, что пробирает дрожь. Жар в груди не стихает…
Она открывает глаза, белизна стены успокаивает, это снова был сон, но жжение не проходит с остатками видений, наяву оно ощущается столь же явственно. Илва с трудом кладет руку на грудь, стараясь хоть как-то облегчить страдания. От слабости текут слезы. Тяжесть руки мешает дышать. Она убирает ее и смотрит опять в безмолвную стену. Как хочется повернуть голову и увидеть еще что-нибудь, кроме этой злосчастной белизны, на которую она обречена теперь смотреть всю жизнь, но предательски искривленная шея, сросшаяся лишь в одном положении, не позволяет ей этого. Из одного глаза слезы стекают прямо по щеке на подушку, другим каплям мешает нос, они бегут по ложбинке губ, оставляя свой солоноватый вкус, и дальше, преодолев все препятствия, сливаются с первым ручейком. Какая-то тень заслоняет на мгновение привычную белизну стены. Старик аптекарь, волоча за собой табурет, садится прямо перед ней и долго молча всматривается в ее исхудавшее лицо. Наконец, она слышит его голос. Впервые за эти долгие месяцы или годы, сквозь пелену слез Илва видит и слышит человека. Она даже не задумывалась о времени, оно исчезло из ее жизни, слившись во что-то бесконечное, монотонное, болезненное, мрачно черное или наоборот ослепляющее, но постоянно пылающее нестерпимым жаром, состоящее из кошмарных снов с участием каких-то мучительно знакомых ей людей, оттого представляющихся еще более страшными для нее, и лишь на краткие мгновения прерываемое полным забытьем или двумя единственными видениями светлых образов, вызывающими моментальное облегчение – сына и Иоганна. Звучит глухой голос аптекаря:
– Я смотрю в твои глаза дочка, они похожи на тающие льдинки, и вижу в них бездну страдания. Не от той боли, что испытала твоя плоть, растерзанная этими убийцами, твои раны уже зажили, и не от болезни, что уже оставляет твое измученное тело, от другой, той, что сидит раскаленным прутом внутри твоей души. Это стыд за все содеянное раньше.
Илва вздрогнула, насколько точен оказался диагноз. Старик усмехнулся. – Чтобы лечить людей надо разбираться не только в их недугах, но и в душах. – Он сам ответил на вопрос, что прочитал в ее глазах.
– Я вижу и другое… Вижу, что ты на пути к выздоровлению. Раны затянулись, тиф отступает от тебя. Но дело не в увечьях и болезнях, через которые ты прошла. Хотя и это знак Господень. Это Он дает тебе шанс вернуться заново рожденной в этот мир и попытаться исправить то, что содеяно ранее. Твое полное выздоровление зависит теперь только от тебя самой. Можно было бы сказать, что прошло полтора года, как ты лежала в постоянном беспамятстве и бреду, но это не так. Точнее, не совсем так. Твоя душа все вспомнила, ты прожила заново всю свою прошлую жизнь, и через страдания физические пришла к страданиям собственной души. А это верный путь к исцелению. Тот стыд, что ты испытываешь, он целебен и никогда не провалится пеплом сгоревшей обиды сквозь каминную решетку, ибо эту обиду тебе нанесли не люди, а ты сама. Он утихнет, но будет жить вечно в твоей душе, пока ты сама не почувствуешь облегчение, а оно наступит лишь после полного раскаяния и искупления грехов. В чем это будет заключаться – ведает лишь Господь Бог и ты сама. Еще немного времени, месяц-другой и ты наберешься сил, начнешь вставать, слабость покинет тебя, и ты сможешь ходить. Поэтому, я заранее сходил в ратушу и выправил тебе нужную бумагу. В Море многое изменилось за это время, многих уже и нет в живых. Последнее восстание привело к тому, что от прежних жителей не наберется и одной восьмушки после того, как здесь побывал наш безжалостный король Густав и его солдаты. Мало кто в Море помнит и о твоем семействе, да и о тебе самой. Дать тебе новое имя было делом пустяшным. Фамилию я взял от твоего деда Нильса, а имя выбрал сам – Агнес. Так звали нашу дочку, которую Бог забрал к себе в младенчестве. А больше у нас с женой никого не было. – Старик даже не обратил внимания на одинокую выкатившуюся слезу. – Нет больше Илвы, ты больше не волчица. Кстати, на старой доброй латыни, что используют лишь врачи, да монахи, волчица – Lupa, но этим же словом называли и продажных женщин. Все твое прошлое ушло в небытие вместе с именем. Ты – мать, которая должна отправиться на поиски сына. Обрести свое чадо, вернуть его любовь и тем самым твои мучения закончатся, и грехи будут искуплены. Если не в Божественном понимании искупления, то хотя бы в человеческом. А Он судить будет по-своему, и твои страдания Ему видны. – Аптекарь протянул к ней руку и осторожно засунул под подушку серый клочок бумаги, свернутой в трубочку. Потом достал откуда-то из кармана чистый платок и вытер струившиеся по ее лицу слезы.
– Сын… я должна найти сына… и может быть Иоганна… хотя бы для того, что бы встать перед ним на колени и попросить прощения за всё… – Впервые за долгое время она ощутила не бессмысленность того, что она еще живет или существует в телесной оболочке в постоянной неподвижности, вытянувшись на узкой кровати в маленькой выбеленной известью комнатушке, а желание что-то сделать, подняться, отправиться на поиски. В одно единственное мгновение Илва поняла, что Бог сохранил ей жизнь именно для этого и не видя пока никого, кроме сидящего сутулившегося старика, и ничего, кроме белой стены позади его, она вдруг осознала, почувствовала, что мир еще существует за пределами этой комнаты, он полон звуков и красок, он манит и зовет ее исполнить то, что предначертано свыше.
Она поднялась через месяц. Первые шаги давались с величайшим трудом. Ноги отказывались ее держать, тело не слушалось, навечно согнутая шея не позволяла удержать равновесие, голова тянула вправо и вниз, вынуждая все время за что-то хвататься, чтоб не рухнуть на пол и не переломать вдобавок еще какую-нибудь кость. Илва, или теперь ее называли Агнес, и она очень быстро привыкла к своему новому имени, часто застывала у стены, уперевшись в нее лбом насколько это позволяла покалеченная шея, успокаивала дыхание и двигалась дальше, шаг за шагом, заставляя свое тело вспомнить все то, на что способна человеческая плоть, обладающая в отличие от четвероногих умением передвигаться на двух конечностях. Сложность заключалась еще в том, что вывих бедра, который она получила вместе с остальными ранами, нанесенными в трактире, оказался намного серьезнее, чем изначально предполагал ее врачеватель. Сустав был поврежден, и ей приходилось чуть приволакивать правую ногу. Но Илва-Агнес преодолела и это. Прошло еще два месяца, и она смогла впервые выйти на чистый воздух.
До полного или относительно полного (при таких увечьях и перенесенном тифе) выздоровления было еще далеко, но женщина отчаянно изо всех сил стремилась к этому. Ей надо было отправляться скорее на поиски сына. Вопрос стоял один – где его искать? Прошло два года, как Андерс покинул Мору вместе с монахом-доминиканцем, имени которого никто не помнил, да и не знал. Известно было лишь одно, что они направлялись в Стокгольм. Воспоминание о вдове покойного дяди Свена, которую семья Илвы, чуть было не отправила на костер, сразу вызывало острое жжение в груди, лицо женщины заливала краска стыда, она опускала глаза к земле и долго не решалась поднять их. Но вдова уехала с ними и это была единственная зацепка, шанс узнать что-либо о судьбе Андерса.
Аптекарь написал какому-то своему другу в Стокгольм с просьбой попытаться разыскать молодую женщину по имени Улла, вдову старого Нильссона. Она с нетерпением ожидала долгого ответа – время теперь измерялось месяцами, месяца сливались в годы, но то, что пришло в письме вызвало лишь потоки слез. Товарищ по гильдии сообщал, что его поиски успехом не увенчались, и никто не знает купеческую вдову Уллу Нильссон. Столичный аптекарь оправдывался тем, что в Стокгольме слишком многое изменилось, полно выходцев из Любека и других городов Ганзы, которые теперь заправляют торговлей и ремеслами, вытесняя отовсюду шведов. Правда, ходят слухи, что король Густав страшно недоволен действиями ганзейцев и грозится разорвать отношения с торговым союзом германских городов, но долги, которыми его опутали, не позволяют сделать это в ближайшем будущем.
Неутешительным оказался и визит к новому пастору, что теперь ведал духовными делами в Море.
– Монах? Да еще и доминиканец? Почти четыре года назад? – Священник развел руками. – Мы даже не знаем его имени. Где искать вашего сына ума не приложу. Почти все католические монастыри в Швеции закрыты. Он мог увезти его куда угодно! Написать в Стокгольм? О чем? – Пастор с сожалением смотрел на искалеченную женщину с мольбой в глазах взиравшую на него. Он искренне сочувствовал ей, тем более она была одной из тех прихожанок, что чаще всех посещали храм. Он видел ее и вне службы, стоявшую долгими часами на коленях или даже лежащую ниц перед распятием Спасителя. Но чем он мог ей помочь? – Хорошо, я попробую что-нибудь разузнать для вас. Я напишу в Стокгольм. – Сказал ей, чтобы как-то ободрить, но скорее для очистки собственной совести, понимая, что писать никому он не будет. – Напомните мне где-нибудь через полгода.
Чтобы хоть как-то оправдать свое вынужденное пребывание в доме аптекаря, Илва старалась по мере своих сил и возможностей трудиться, буквально с первых же дней, как начала более-менее твердо держаться на ногах, ибо любое жилище требует женских рук и ухода, а рассчитывать на служанку в обезлюдевшей Море было бесполезно, и все заботы долгие месяцы лежали лишь на одной жене старика. По началу Илве это удавалось с величайшей тягостью из-за общей слабости и физических недугов, но она, превозмогая немочи, ощущала искреннее и горячее желание хоть как-то отблагодарить своих спасителей. Ежедневная уборка, мытье полов, особенно в торговом зале и в помещении, где аптекарь принимал больных, починка, стирка, катание, отбелка (при необходимости) одежды и белья, и еще сотни женских домашних мелочей постепенно распределялись между Илвой и женой аптекаря. От отчуждения, что проявляла последняя при появлении в их доме раненой женщины, в связи с предшествующей этому неблаговидной историей, не осталось ни малейшего следа. К Агнес, ее теперь все так называли, старики относились, как к родной дочери. Так и жили – вечным трудом, да молитвами.